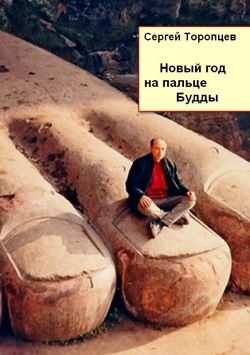Читать книгу Новый год на пальце Будды - Сергей Аркадьевич Торопцев - Страница 5
Часть 1
Из тьмы времен. Рассказы
Возвращение к Великой Белизне
Притча о том, как опальный придворный академик Ли Бо был вознесен Белым Драконом из земной тьмы в ослепительные бездны Неба
ОглавлениеБелая цапля сиротливой снежинкой опустилась на стылую воду осеннего озера. Ей было так же одиноко и неуютно, как и старому поэту, который, всем телом ощущая необычную слабость, кряхтя, вылез из повозки. Не оборачиваясь, махнул вознице – не жди, вот-вот барабаны оборвут предвечернюю суету, в Данту закроют ворота, и придется тебе на всю ночь засесть в какой-нибудь харчевне под осыпающейся земляной стеной, где дрянное мутноватое винцо даже подогреть не удосужатся, каждые два часа прислушиваясь к колотушкам страж, пока монахи из ближайшего монастыря на всю округу не возвестят, какая нынче погода, а под гром утренних барабанов стражники не распахнут городские ворота.
Сумерки тем временем все решительней стирали черты дневной благодати, оставляя лишь главное, по их, сумеркам, понятиям. Вот уже и нахохлившейся цапли не видно. А для поэта главное – мелкое, чуть заметное, но вызывающее отзвук в душе. Глаза поэту не так уж и важны, он иными способами видит мир. Но стихи у Ли Бо ночами не писались, хотя был он, в сущности, человеком ночи и небо ночи, уходящее в бездонные глубины, притягивало его, а узоры неба, даже дневные, тем более звездные, как бы накрывающие его куполом, вызывали в нем необъяснимый трепет, волнение, трудно выразимое даже для него, чья кисть отличалась необыкновенной легкостью.
Он любил следить бег облаков: из Цинь в Чу, в далекое родное Шу, где в Лотосовом посаде области Мянь прожил два десятка лет, в приграничный Западный край, где родился, и еще дальше, в такие дали, каким и названий в земном языке не сыщешь. Нет для облаков никаких препятствий, неторопливы и величавы они в родной стихии, не останавливаясь, минуют вершины Тайбо, Эмэй, отроги Тяньшаня, смыкающиеся с небом, и плывут, плывут в неведомое.
Как-то на вершине Тайбо – Великой Белизны, куда карабкался весь светлый день до последних лучей заходящего солнца, он увидел их совсем рядом, и ему вдруг показалось, что земля осталась не просто внизу, а – позади, и его путь простирается в те бездны, куда зовут облака и ветер.
Покоряю до лучей заката
Пик Великой Белизны крутой.
И звезда Тайбо мне тоже рада,
Отворяет небо предо мной.
Унеси меня, прохладный ветер,
В бездну легковейных облаков —
Длань воздев, взлечу я в лунном свете
Позади оставив цепь хребтов.
Это стихотворение он написал в первом году Тяньбао, только что появившись в имперской столице с самыми радужными, воистину грандиозными планами. Ему претила мирская суета, которая в годы, проведенные в горных обителях даосов, и не затронула его, но он жаждал, как учил Конфуций, высокого служения и вознамерился покорить крутой «пик Великой Белизны» государевой службы, оставив «за спиной» недвижные горы, мирно дремлющие под мерными ударами монастырского колокола.
С тех пор минуло два десятка лет. Не был он понят, не пришелся ко двору. Да он уж и не тот, Великую Белизну понимает и воспринимает по-другому. Его сегодняшнее «возвращение» – иное, чем в ту пору жарких устремлений.
Быть может, звезды зовут нас? Есть среди них одна, ее, как и гору, величают Тайбо – Великая Белизна, и это же имя дали самому Ли Бо в детстве – Тайбо из рода Ли. Говорят, матери приснилась эта самая Великая Белизна. А как приснилась, не сказали. Как-то по-особенному, наверное, потому что предутреннюю звезду Тайбо может увидеть каждый, если поднимется до ранних барабанов, отворяющих городские ворота.
Писать о звездах ему хотелось постоянно. Но он не всегда отваживался выразить на бумаге охватывавшее его ощущение, будто он, отделяясь от земли, врастает в огромное небо и касается рукой звезды. Однажды только он осознал, чем вызывается этот страх. Проведя ночь в даоском храме на высокой горе среди облаков, обволакивавших его и манящих за собой, Ли Бо обнаружил, что всю ночь разговаривал шепотом. Это он-то, громогласный кутила, вымахавший в целых семь чи ростом, всегда опоясанный острым мечом из синьчжоуской стали и готовый оседлать любого свирепого тигра! А тут вдруг явственно ощутил близость обитателей звезд, и какой-то голос, внутри ли, снаружи, сказал ему, что не пришло еще время взывать к ним. Он так и описал свои чувства в стихотворении:
Ночью в храме на горе крутой
Звезд касаюсь поднятой рукой.
Страшно небожителей встревожить,
Приглушаю громкий голос свой.
Перечитал, и ему захотелось, чтобы никто не увидел этих сокровенных мыслей. Надо было бы порвать бумагу, да написал-то он не на бумаге, а на стене храма.
У берега, куда привез его возница, стояла лодка – расписная, узорчатая, с крышей на столбах ближе к корме, никаких этих современных новшеств вроде стульев, с которых того и гляди свалишься, особенно в подпитии, к борту прислонено, правда, складное «варварское сиденье», но это так, для фасона, куда удобней сидеть на циновках, подогнув под себя ноги и упираясь коленями в пол. Коли овладеет тобой телесная слабость, подложи под локоть подушку или опустись на фарфоровое изголовье с магнитным стержнем, успокаивающим и расслабляющим.
– Ну, давай, – махнул Ли Бо угрюмому лодочнику, и тот скупыми движениями кормового весла направил лодку в одномерную темноту озера, куда-то туда, где ежилась от осеннего холода белая цапля. Цепляясь за чуть вздернутые уголки крыши, низко склоненные ивы пытались удержать лодку, остановить ее движение во тьму, да не удалось, и тогда они, точно почувствовав важность события, плеснули с листьев вечернюю росу вослед удаляющемуся поэту, как обычно поступали те, кто хотел в торжественный миг выразить свое почтение юбиляру, – выливали из кубка вино по направлению к нему.
Три-четыре гребка, и деревья, ограда пристани, ажурные беседки вдоль линии берега слились в одну темную пластину – занавес, отгородивший от Ли Бо весь пройденный земной цикл: пять раз по двенадцать, шестьдесят лет, оставшиеся позади со всеми их тяготами дорог, мишурой столичных дворцов, чуткой тишиной леса на горном склоне, плавно раскачиваемой задумчивыми ударами храмового колокола.
Зачем больной, измотанный возвратным из ссылки путем, отправился он на это озеро? Кому ведомо?! Родич отговаривал, пугая всяческими земными опасностями. Но что ему земное?! Он не сказал дядюшке про странный сон.
Был ему сон намедни. Белый сон. Ли Бо любил белый цвет, но понемногу, мазками, вроде этой белой цапли, что спустилась на темную воду, а тут во весь сон – ослепительный свет, Великая Белизна, столь противоположная мистической тьме, коей сейчас поклоняются на земле. Он не нашел слов, чтобы выразить это словами, он лишь почувствовал, что это – его.
И тут еще эта настырная ворожея на улице. Синяя юбка, белая кофта – он хорошо запомнил сочетание красок: белый взрыв в синеве дневных небес. Нет чтобы, солидно сгорбившись, восседать перед столиком с зерцалом или гадательными костями, – она глянула на него и, что-то узрев в чертах лица, как зачарованная, двинулась за ним по улице, будто не было там других богатых клиентов, проникновенным шопотом, еще даже и не потребовав оплаты услуг, предупреждая: «Тела твоего не вижу, исчезает оно, и на западе ждет тебя ослепительное сияние и встреча с могучим небесным духом».
Пряные ароматы насыщали воздух над озером. Ли Бо много путешествовал в жизни, всякого навидался, наслышался, нанюхался, но в дивных благовониях, необычных для этих мест и этого времени, не различил ничего знакомого… Или, может быть, нечто очень и очень далекое, из какой-то иной жизни, смутное.
Но пора уже, кажется, подкрепиться. В лодке для этого все было приготовлено. Дядюшка постарался, велел заранее доставить корзину со снедью.
Конечно, ничего жирного и острого – и болезнь не позволяет, и Будда не велит. Сырая крошеная рыба, «варварские» лепешки из рисовой и пшеничной муки, таблетки чая, которые еще надо было растереть и смешать с имбирем, а потом сварить в котле на жаровне, установленной в углу. Какие-то сосуды – возможно, дядюшка велел приготовить ослабевшему Ли Бо рисовый отвар и кислое молоко, чтобы восстановить иссякающие силы.
Да еще торчит из корзины кувшин, верно, с добрым ланьлинским. В вине – много радости и силы. «Настоящий человек идет под водой и не захлебывается», – говорил Чжуан-цзы. Он явно хмельного «настоящего человека» имел в виду. Душа, омытая вином, обретает цельность и законченность, как кусок зеленой, с прожилками, яшмы.
Я похож на птицу куропатку:
К югу улетаю без оглядки.
Тошно станет – выпьем мы с Ханьяном,
Под луною нам тепло и сладко.
Правда, сейчас он ближе к западу, чем к югу. Душа уже непрочно держится в земном теле.
Ли Бо не ждал увидеть в корзине тонкие чарки из носорожьей кости или круглое блюдо из кровавой яшмы. Повидал всего этого на своем веку. Но серые чашки юэчжоуского фарфора – совсем неплохо. Отвечая колебаниям плывущей лодки, они позванивали, как яшма, исполненная скорби. В них бы «Весны» плеснуть, что когда-то Цзи из Сюаньчэна готовил. Да нет уж и «Весны», и старого винокура, он давно уже не здесь, а у Желтых истоков.
Наш Цзи и у Истоков хочет
«Весной» наполнить много чаш,
Да нет Ли Бо еще в той ночи —
Кому вино свое продашь?
Ну, вот скоро и я там буду, усмехнулся Ли Бо, и появится у тебя покупатель. Долгая жизнь в мире людей приносит только горе.
Не обмыть ли руки, подумал поэт. Этот ритуал, в общем-то, совершают все добродетельные конфуцианцы перед важной церемонией. Но разве что-то предстоит Ли Бо? К тому же он из Шу, а про шусцев шутят, будто их моют лишь дважды: при рождении и после смерти. И все же он зачерпнул забортной воды и задумчиво ополоснул руки. Ах, да, гадалка предсказывала встречу с небесным духом. Вот все и сходится.
Когда сегодня возница катил его к озеру, они проехали сквозь красные ворота, странно поднявшиеся на пустынной сельской дороге. Три проема меж четырех столбов, над ними навес в рост человека, но кто ж поднимается туда? – лестницы-то никакой не видно, а поверху – золоченая надпись: «Врата Дракона». Ничего особенного, он и не обратил на них внимания. А сейчас вспомнил и подивился. По старому преданию, тот, кто пройдет сквозь Врата Дракона, поднимется в иные сферы. Конечно, это не вход в экзаменационный зал и не специальное ему, Ли Бо, приветствие, сооруженное благодарными почитателями. Никто и не знает, что он в городе. А кто прослышал, старается держаться подальше от него, опального придворного академика. Мало кто знает, что милостью императора он освобожден от ссылки и, не доехав до Елана, повернул обратно в сторону моря, в Цзиньлин. Вот и друг Ду Фу пишет в стихах, что видел во сне Ли Бо, да не ведает – живого или уже покинувшего сей мир. Словно предвидя сегодняшнее путешествие по озеру, Ду Фу с опаской поминает волны над глубинами, где обитает дракон, который может поглотить Ли Бо.
Сам-то Ли Бо, расставаясь с отшельником Яном, возвращавшимся в родные горы, поминал Белого Дракона иначе: Незыблемый каменный грот / Средь сунских остался высот, / И там на сосне у ручья / Осколок луны тебя ждет.
Будем с Яном вкушать пурпурный аир, траву бессмертия, и запивать добрым вином, а там, глядь, и подойдет рубеж в десять тысяч лет, когда у мудрецов на теле отрастают шерсть и перья.
Тем временем в небе показалась желтая плошка луны и разлила свой свет по озерной глади, еще слабый, как осенний светлячок. И все же он очертил пологий берег дамбы, уходящей к небольшому островку посреди озера.
А вдруг это тот самый Фусан – то ли остров бессмертия посреди бескрайней воды, то ли уходящее к солнцу дерево-исполин? Он вспомнил о нем в своем последнем стихотворении. Вчера как раз написал его и передал дядюшке – как завещание – вместе со всем своим наследством – стихами, которые всегда возил с собой. Пусть распорядится, как сочтет нужным. А его силы иссякли. Не все же Пэн-Фениксу сотрясать небо и землю!
Взметнулся велий Пэн – о! Содрогнулся всяк.
С полнеба пал он – ах! Совсем иссякли силы.
О! Исполать ему! Забыть того нельзя,
Кто вознесен к Фусану был, где спит Светило…
Но кто, прознав о том, слезу прольет?!
Учитель Кун? Уже давно он в бозе почиет.
На берегу нахохлилась цапля, поджав для тепла ногу. Островок густо порос бамбуком, и Ли Бо захотелось тут задержаться, ведь духи бамбуковых рощ любят исполнять людские желания. Если, конечно, не спят или не заняты каким-нибудь более важным делом – отлучились в веселый квартал к девицам или расселись за столом с игральными костями.
Он с улыбкой махнул лодочнику, чтобы сушил весло. Правда, иных желаний, кроме как достать кувшинчик с ланьлинским, у него не было, а это он всегда умел осуществлять без помощи духов. Лодочник, обрадовавшись передышке, тоже достал себе чашку – из старой тыквы с неровными, обломанными краями.
Ли Бо шагнул к борту и только было распахнул халат, чтобы облегчиться в озеро, как облачка окончательно расступились, полностью открыв круглый диск луны, и с неба выкатилась к лодке дорожка света. Оправляться в сторону луны считалось совершенно недопустимым, и Ли Бо повернулся было к другому борту, как вдруг лунная дорожка вспучилась, в ней что-то плеснуло. Рыбам в это время положено спать, но это явно был карп. «Уж не луна ли шлет мне послание? Зовет к себе?». Он странным образом вспомнил свое старое стихотворение, где светлое пятно у ног взывало к исчезнувшему – или недостижимому? –
Сияние луны простерлось к ложу.
Иль это иней осени, быть может?
Наверх взгляну – там ясная луна,
А вниз – и мнится край, где юность прожил.
Писал он это, конечно, не о себе – на юге, в Шу, где прошла его юность, с инеем и снегом не густо, но в Чанъань тогда приехал какой-то северянин, а была как раз солнечная осенняя «двойная девятка», то есть девятый день девятой луны – праздник единения с близкими, и они поднялись на лесистый холм, разлеглись под ветвями кизила, любуясь дикорастущими маленькими хризантемками, и принялись выуживать из корзин кувшинчик за кувшинчиком, по доу на брата, верно, пришлось, вспомнили, как положено в этот день, далеких друзей и родных, а когда очнулись, к ним подобралась луна, навевая грезы об оставленных краях юности – каждому свою грезу. Он и подарил собутыльнику это четверостишие на память о славно проведенном деньке.
И вот уже иней осени подкрался к нему самому.
В три тысячи чжанов – моя седина,
Она, как тоска, бесконечно длинна,
На зеркале вод – словно иней осенний…
Не знаю, откуда явилась она?
А сейчас «краем юности» ему представляется не далекое Шу, а сама Великая Белизна, какими-то смутными, неясными нитями притянутая к нему. В прошлом? В будущем? Отчего? Зачем? Он и сам не знает.
Тьма накрыла все девять областей страны. Разве только во взбунтовавшихся степняках дело? А этот страшный ураган, который унес с собой – уж, конечно, не в сладостную обитель блаженных Пэнлай – несколько кварталов блистательной Западной столицы. Потом – засуха, которая жестоко скручивала листья на деревьях в сухие трубочки, шуршавшие при малейшем дуновенье. И тут же – ливень, но не тот благодатный, что в силах напоить истосковавшуюся землю, а избыточный, беспрерывный, шестидесятидневный поток, словно вновь разверзлись в небе дыры, которые латала Нюйва. В общем, не так что-то в этой империи. И не нужен он ей.
Кувшинчик очень скоро подошел к концу, в нем не больше шэна. В былые дни Ли Бо для хорошей встряски требовалось доу вина – десять шэнов. В досаде он с силой хлопнул кулаком по борту, так что лодка вздрогнула, дернулась и сама, без вмешательства лодочника, поплыла потихоньку – прямехонько по лунной дорожке, будто увозила своего пассажира к небесному светилу из окутавшей его тьмы.
Легкий ветерок заигрывал с поверхностью озера, и водная рябь дробила дорожку на прихотливые штрихи света и тени. На такую голову, как у Ли Бо, даже побеленную временем, всего-то шэн вина подействовать не мог, но поэт явственно услышал неземной красоты «музыку Шуня». В искусстве звуков он, большой мастер игры на семиструнной цинь, знал толк, но такого не слыхивал. Будто сам Небесный владыка наигрывал ему последнюю мелодию земного бытия.
Воздух вокруг него сгустился, как бы очертя круг и оставив за его пределами опустевший кувшин, прикорнувшего лодочника, нахохлившуюся цаплю – все, кроме полосы света. От ног Ли Бо полоса уходила дальше, вверх, к луне, и узоры неба вокруг ночного светила сдвинулись в медленном круговороте, все убыстряя и убыстряя движение. Поначалу казавшиеся очень далекими, они приближались, вовлекая Ли Бо в свой пьянящий танец, и вот уже он тоже сдвинулся с места, шагнул на манящую дорожку и сомнамбулически пошел по направлению к луне.
Две фигуры в радужных одеждах – одна напомнила ему даоса Яна, которого он когда-то провожал в глуби гор (не забыл еще!), – возникли из тьмы инобытия в колеснице из пяти облаков, сопровождаемые Белым Драконом. Они пригласили Ли Бо присоединиться к ним, чудище пошевелило хвостом, раздвигая облака, и помчало Ли Бо вверх, будто на высокую гору, туда, где торжественно распалялся, слепя еще земные глаза, невыносимый свет Великой Белизны. Уже через мгновенье глаза привыкли, и Ли Бо последним земным усилием мысли подумал, что он, похоже, не уходит, а возвращается…
Сквозь блаженную полудрему лодочнику показалось, что его пассажир перешагивает через борт, протягивая руки к луне, бело-черными штрихами раздробившейся на поверхности озера, и исчезает. Но воду ничто не возмутило.
Одежда пассажира лежала на дне лодки. Только одежда, без тела. От нее исходил тот самый аромат благовоний, которым еще мгновенье назад был напитан воздух, опять вернувшийся к состоянию привычной осенней ночной сырости. «Познал Дао», – пробормотал ошарашенный лодочник про своего пассажира. Он слыхал, конечно, что ученые даосы в конце земного пути растворяются в познанном ими Дао-Пути, но впервые реально столкнулся с этим явлением.
«А как же его дух? Тела-то нет. Пустой гроб на родину не отвезешь, в могилу не закопаешь. Куда прилетать духу? Без могилы он что же, останется неприкаянным – мертвым, как говорят?! Вот ведь бедняга – прошел земной круг, и что от него осталось?!»