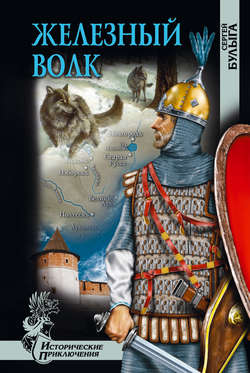Читать книгу Железный волк - Сергей Булыга - Страница 3
День первый
1
ОглавлениеСна больше не было. Но и вставать Всеслав не торопился. Лежал, смотрел по сторонам. Думал: темно еще, все спят, и он будет лежать. Живой – и ладно. Семь дней ему теперь отпущено…
И злобно хмыкнул. Еще бы! Семь дней! Да что это такое?! Семь месяцев, гневно подумал он, сидел ты тогда в Киеве, всю Русь вот так держал. А что успел? Да ничего! А ведь тогда ты молод был, силен, и вече было за тебя… А Новгород сказал: «Не дам!» – и было посему, с того и началось. А после поднялись змееныши и Болеслава призвали, Болеслав привел ляхов несчетно, и ты – как волк, болотами да топями – бежал. Обидно было, зло душило. Одно тогда лишь и утешило: когда ляхи пришли на Верх, то Болеслав взял Изяслава за грудки и стал трясти его да приговаривать…
Но тут же вздохнул Всеслав, нахмурился. Нет, подумал с тоской, врали люди – все же не тот был Изяслав, чтобы такое над собой позволить. Да и бояре бы не дали. Так ведь и не дали! А посему попировали тогда ляхи в Киеве, пошумели, пограбили маленько и ушли. И от всего того, что там тогда было, только одна зарубка на воротах и осталась. А вот зарубка – это истинная правда! У ляхов это… Всеслав усмехнулся… у ляхов так заведено. У них такой обычай! Как они в Киев придут и как нового князя киянам посадят, так еще и ворота им порубят! Вначале – до тебя еще, Всеслав, за сорок с лишним лет до этого, – так же пришли ляхи в Киев и привели и посадили Святополка Окаянного… Вот и тогда был Святополк великим князем киевским, точно как и сейчас! И тоже Болеслав тогда был ляшским королем, только тоже другой. Того звали Брюхатый. Или Храбрый. А на Брюхатого он гневался! Тогда пускай будет Храбрый… Так вот: был у Болеслава Храброго меч заговоренный, он говорил, что будто ангел его ему дал. И вот тем заговоренным мечом, когда они пришли на Киев, Болеслав Золотые Ворота рубил. Ну, разрубить не разрубил, а всё ж таки они ему тогда сразу открыли! И посадили ляхи Святополка Окаянного. А после опять Болеслав – но уже Смелый, или Необузданный – привел киянам князя Изяслава, а ты, Всеслав, от них тогда бежал, и Болеслав – уже просто со зла – рубил ворота. А в третий раз кого ляхам вести? А что, усмехнулся Всеслав, всё может статься! Правда, сейчас у ляхов Владислав. Но люди приезжали, говорили, что Владислав уже чуть жив, доходит…
А может, даже и дошел уже, тут же подумал Всеслав, дошел, конечно! А это мы здесь пока что не знаем. И тогда теперь в ляхах опять Болеслав, сын Владислава! Подумав так, Всеслав аж схватился за ворот – ему стало жарко – и торопливо подумал: вот так! И еще раз: вот так! А о главном не думал – боялся. А главное – это кого ляхи теперь, в третий раз, приведут и посадят. Может, Ярослава Ярополчича? А что! Ярослав Ярополчич и так почти в ляхах – в Берестье. И Ярослав нам не чужой – он брат Глебовой. А Глеб, муж Глебовой, сын твой любимый…
Нет, тут же подумал Всеслав, нет, нет, нет! Жив Владислав и будет еще долго жить! А на Русь не пойдет, заробеет. Потому что не те стали ляхи, и не те у ляхов теперь короли…
Да и не короли они уже, а простые князья, как и мы, уже даже с насмешкой подумал Всеслав. И дальше так же: не коронован Владислав Благочестивый, и так же сын его, Болеслав Кривоустый, после него коронован не будет! Короны в Польше больше нет, корона у них вдруг исчезла! Как и исчез последний их король, который на тебя меч поднял!
А вот тот меч остался. Зовется он Щербец – из-за щербины. Ляхи дивятся на него и говорят: ворота у киян крепки!..
Тьфу-тьфу! Вот же навяжется! Всеслав лег на другой бок и зажмурился. Что ляхи, гневно думал он, и что кияне?! Семь дней идут! А семь десятков лет уже прошло. Не раз ты, князь, гадал о том, как доведется тебе помирать. И всё молил, чтобы это было не во сне и чтобы не от руки раба – так, как было у свата. Сват, говорят, вскричал тогда: «Ведь ты убил меня, Нерядец!» Да только ложь это, сват не кричал, он кровью захлебнулся, он даже и не понял, что к чему, он молча умер. Ну разве что хрипел… А мстить за его смерть было потом кому? Нерядцу что ли, этому рабу?! Срам-то какой!
А что не срам? Всеслав улыбнулся, подумал – да он об этом часто думал – что лучше всех умер Харальд. Да он и не умер – убили его! В битве, в горло стрелой! Вот это очень хорошо, князь даже опять улыбнулся. Но тут же нахмурился, потому что – он и об этом тоже часто думал – а где ему те стрелы взять? В Берестье? Да, там на стрелы нынче не скупы, но за семь дней теперь туда не доберешься. Весна, распутица, а реки уже все давно открылись, значит, по льду не пройти… А тут еще Она! Всеслав вспомнил о Ней, поморщился и очень гневно подумал: и вот так всегда, ничего никогда не откладывай, вот как отец говорил! И вот так и здесь: зимой нужно было идти на Берестье! И зять твой Ярослав как тебя звал всю зиму: приди, Всеслав, сил нет, Великий осадил! И ждал тебя, надеялся. Он и сейчас, небось, надеется. И Святополк, князь Киевский, великий князь – он тоже тебя ждет, не сомневайся. Он, Святополк, силы собрал достаточно, чего ж ему теперь не подождать?! Да ему, может, даже не столько нужен Ярослав, сколько ты! Что ему Ярослав – Ярослав молодой, с Ярославом успеется, вот что он думает, а вот как вдруг Всеслав возьмет да назло околеет! Вот кто, небось, за твое здравие поклоны бьет! И еще бьет за то, чтобы ты на Берестье пошел! Потому что расквитаться ему хочется с тобой, Всеслав, ох, хочется! Хоть много лет прошло, а не забыл, поди, как убегал он от тебя, обоз, рабов бросал. Великий! Ха! Как меды пить, так брюхо ему пучит, а кровь – это всегда горазд. И не спешит; он знает – хороша приманка: невесткин брат в беде. Значит, он думает, не выдержит Всеслав, поднимется, пойдет на Берестье… И сразу бряк! – силок за ним захлопнется. Да только давленое мясо не едят, грех это, срамота. Вон Феодосий в Поучении сказал…
Не то! Опять не то! Все это суета. Княже, твой час настал, опомнись! Ведь ты же столько раз о чем молил? Чтобы те, которые тогда обманно целовали крест, вперед тебя ушли. Так и ушли уже! Вначале Святослав преставился, а после Изяслав. Последний – Всеволод, тот восемь лет тому назад. Восемь, Всеслав! Даже не семь, а восемь! И лет, а не дней! Так, может быть, Она права? Врагов своих ты пережил, держишь волоки, реку до устья. Отец ушел в свой срок. И дед…
А за окном уже не так темно. И слышно, как Двина шумит. А на Двине, прямо напротив – Вражий остров. И ведь с него всё началось! А когда? Ой, давно! Может, лет уже двести тому на этом острове… Да нет, уже поболее!..
Да и остров был тогда еще не Вражий! И Володша-князь тогда еще смеялся, говорил:
– Мы Бусово племя, мы дани не платим. Град Полтеск только наш!
И так оно тогда и было: жили сами по себе и никому не кланялись, это верно. А вот поляне, вятичи, радимичи, эти тогда хазарам поклонились. А до Полтеска хазары не дошли. Одни говорили, что это они тогда развернулись, когда увидели, что брать с нас будет нечего. Но другие, и Володша ними, на это кричали: нет, убоялись нас хазары, вот что! И варяги, эти тоже убоялись! Варяги тоже не дошли, а ведь могли! Или у ильменских им есть что брать, а у нас нечего? И получалось, что Володша будто прав, и тут ему уже никто не перечил. А он тогда дальше кричал, говорил – опять про племя Бусово и еще опять про то, что Полтеск никогда и никому не кланялся, так оно было от веку, на том мы и стоим, и детям то оставим. А прочим, видно, под ярмом способнее! Вот ильменцы: урок они не выдали, полюдье перебили, а после – года не прошло – опять зовут варягов: идите, мол, владейте нами, земля наша обильна и обширна. Тьфу! Маета!
Так говорил Володша. А еще можно было про это же вот как: беда у ильменьских! Умер их старый князь Гостомысл и сыновей по себе не оставил, и получилось, что отчину делить некому, есть только кому делить дедино. Внуков же у Гостомысла было четверо: один от старшей дочери и трое от младшей. Старший жил при нем в Словенске (а Новгорода тогда еще не было, Новгород – это новый Словенск), а младшие жили за морем, в варягах. Потому что их мать туда замуж отдали. И там теперь их отчина! – вот как тогда в Словенске говорили. И крикнули старшего сына, Вадима. И Вадим сел по деду своему в Словенске…
Да ненадолго! Потому что крикнули не все. А нашлись у них там и такие, которые послали знать за море: мол-де, идите, братья, к нам, земля наша обильна и обширна, у нас здесь вам всем троим места хватит! И братья пришли: старший Рюрик и младшие Трувор и Синеусый. С варяжской дружиной. И побежал от них Вадим. И Рюрик сел по Вадиму в Словенске. И его младшие, Трувор и Синеусый, сидели при нем же. С дружиной, конечно! И всем говорили, что они так будут сидеть до весны, пировать, а весной опять уйдут в варяги. Когда Володше это рассказали, он опять засмеялся. Но уже совсем не весело! И в тот же день повелел выставить сторожей на Ловати и на Касопле. Потому что, сказал, чую: надо скоро ждать гостей, и их будет много. И он не ошибся! На следующий год прибежал из Словенска муж именитый, Нечай Будимирович. Он говорил:
– А к Рюрику опять пришли корабли из-за моря. С подмогой. Но он ее на этот раз не принял, а раздал братьям и сказал им так: довольно вам при мне сидеть, идите сами и себе сами ищите! И по рукам они ударили, дружину поделили натрое, а земли так: Рюрик, как старший брат, будет и дальше сидеть в Словенске, а средний брат, Синеусый, пойдет на Белоозеро и будет там сидеть, а младший, Трувор, – к вам. Так упредим находников, ударим, братья, разом! Мы же кривичи, мы одно племя!
На что Володша сказал:
– Одно, да не совсем. Вы, ильменские, сами по себе, и мы, полочане, тоже сами. И это так, Нечай. Потому что какой я вам свой? Вы же меня к себе по Гостомыслу не звали! И не позовете никогда!
Нечай молчит. Потому что сказать нечего! А Володша, усмехаясь, ему дальше говорит такое:
– Да я и сам к вам не пойду. Что мне там делать? Рюрика ссаживать, Вадима подсаживать? Зачем это? Разве я Вадиму враг?
Нечай:
– Как это?
А Володша:
– А просто! И так Вадиму передай, пусть знает: князь должен только сам садиться. Ну, еще можно пособить ему да подсадить. А посадить нельзя. Ибо кто садит, тот и князь, а не тот, кто воссядет. Поэтому Вадим пусть сам на Рюрика встает и сам садится. Тогда он будет настоящий князь. А что ты говоришь про Трувора, так это еще от Буса завелось – все к нам идут. И пусть и он придет, мы ждем его!
И засмеялся князь Володша. Нечай, озлясь, ушел.
А летом, в самый липов цвет, пришел к нам Трувор. Пока он шел по волокам, никто его не тронул. И когда шел по Двине, опять же все как будто вымерли. И даже когда к Полтеску пришел – и тут опять никто его не встретил! Затворились. Тогда он стал на острове, напротив. И с той поры остров зовется Вражьим. Там, впрочем, после Трувора еще немало кто стоял. Но это было после. А тогда день, второй они там стоят. Костры жгут, рыбу ловят. Ждут. Полтеск молчит, ворота на запоре – Володша тоже ждет. Только уже на третий день он как будто бы не утерпел, оделся как простой дружинник… Потому что ничего богатого у него всё равно не было, тогда лучше совсем просто! И вот он оделся просто, вышел из города – один, один взял лодку и поплыл.
И вот приплыл он к варягам. Вот вышел на берег, а там уже стоят и ждут его, и говорит им:
– Где ваш старший?
Говорит, конечно, по-варяжски. И руку держит на мече. И смотрит прямо! И эти сразу ничего не стали спрашивать, и даже про меч ничего не сказали, а просто повели его к шатру.
А шатер у Трувора был высоченный, просторный, из золотой парчи. И сам он в дорогих одеждах, в красных козловых сапогах. А сам из себя он был вот какой – высокий, кряжистый, беловолосый и белобровый. И он один там сидел.
– Ты кто? – спросил.
– Володша, здешний князь.
– Тогда садись.
Володша сел, меч отстегнул. Трувор пальцами щелкнул, вина приказал. Принесли. Он, Трувор, важный был, надменный. Пил, говорил:
– Мне все известно. Затаился ты. С Вадимом снюхался! А зря! Потому что кто этот Вадим? Грязный дикий человек! Вот пусть он и дальше будет грязным, пусть рыбу ловит, землю пашет. И я тогда его не трону. А то, что его мать была из терема, так про это ему пора забыть. Терем терему рознь! Вот посмотри на меня. Я вроде такой же как и он внук Гостомысла. И моя мать, и мать Вадима – сестры. И моя даже младшая. Но зато мой отец – король. Ты знаешь, что это такое?
Володша ничего на это не ответил. Потому что он знал другое: кто много говорит, тот мало успевает сделать. А Трувор продолжал:
– Убежал Вадим, затаился. Ну и пусть себе дальше таится, мы его не тронем. Но если поднимется, тогда сразу другое дело – тогда сразу поймаем и убьем! А с тобой будет так. Я буду здесь сидеть, на острове. Стены поставлю, обживусь. А ты там сиди дальше. И живи так, жил как раньше – по своим законам и обычаям. А мне – только плати.
– А сколько?
– Как договоримся. Я не жадный.
– Но у меня, – сказал Володша, – есть только меч и голова. А всё остальное не мое. У нас такой закон: всем остальным владеет вече.
На это Трувор рассмеялся и сказал:
– Но я не с вечем, с тобой говорю. Поэтому тебе и выбирать: меч или голова. Подумай, князь! А завтра я к тебе приеду и спрошу, что ты решил. Иди!
И князь ушел к себе. И приказал готовить стол.
– Какой? – спросили.
– Как на тризну.
– А много будет?
– Много.
Так оно и вышло. Назавтра прибыл Трувор. Открыли ему Верхние Ворота. Это потом уже их стали называть… Потом! А он тогда вошел, с ним сорок лучших воинов, все при оружии, настороже. И все белобровые, как Трувор. Князь встретил их у крыльца. Взошли, сели за стол. Володша повелел подать. Подали кашу. Постную. И воду.
– Да что это?! – взъярился Трувор. – Я так ли тебя потчевал?
– Так то, – сказал Володша, – было у тебя. Ты пировал. А у меня тризна.
– А по кому это?
– Да по тебе! – и закричал князь: – Бей!
Выбили их всех. И те, которые на острове остались, те тоже не ушли. Их всех потом – и тех, и этих – сложили и сожгли на Вражьем Острове. И корабли их сожгли. А после, уже осенью, узнали: на Белоозере убили Синеусого. Вот так! Из троих братьев только один Рюрик и отбился. И то сжег по злобе Словенск, поставил Новгород на Волхове и сел там князем. Вадима разорвали лошадьми. А именитые словенские мужи все как один бежали – кто в Полтеск, кто на Белоозеро, а кто и вниз, к полянам. Там, в Киеве, тогда было лучше всего. Их князь Оскольд большую силу взял – хазар отбил, с Царьграда дань собрал, хотел опять туда идти – ромеи запросили мира. Тогда он опять дань затребовал – и получил. Насытился. «Теперь, – сказал, – пойду в варяги…»
…Петух поет! Пора. Всеслав отбросил полушубок, сел. Посмотрел в красный угол…
И удивился – лампадка мигает! А ночью света не было. Но лик даже теперь почти не виден. Черна доска. Глеб говорил – это искусное письмо, из тех еще времен, евангельских. Глеб это знает, подумал Всеслав. А Глебова, тут же подумал, тем более. Глазастая! И это все из-за нее! Потому что не нужно было Ярополка принимать, а после, как Ярополка Нерядец зарезал, нужно было гнать Угрима, гнать! И ее вместе с ним на мороз! А Глебу взять вместо нее…
Кого? Всеслав задумался…
И тут ему стало гадко! Потому что подумал: да что это ты?! Окстись, Всеслав! Да и Глебова-то здесь при чем? Она одна, быть может, только и осталась из тех, кто в среду по тебе хоть слезнику уронит! А ты про нее…
А! Что теперь! Ноги спустил. Позвал:
– Игнат!
– Иду, иду.
Вошел Игнат. Всеслав спросил:
– Готовы ли?
– Вот только что.
– Пусть ждут. Накрой на стол.
Игнат ушел. Князь встал и как и был, в одном исподнем, босиком, так и пошел по стертым, стылым половицам, встал на колени и, не поднимая головы…
Почувствовал, что слов-то нет! Язык словно присох. А голову поднять – еще страшней, чем ночью. Пресвятый Боже, что это со мной?! Лгала Она, безносая, я верую! И в Троицу, и в Таинства. Блюду посты. Зла на домашних не держу. И ведь не за себя Ее просил – за них за всех, за сыновей, за Глебову, за род. Мы ж не находники – исконные. От Буса счет ведем. И чтим Тебя. София кем построена? А вклады чьи? А что колокола снимал, так это же не здесь, а у змеенышей… И был за это наказан! Но не роптал, а пришел и покаялся. Потом свои колокола отлил. Вон как теперь звенят! Во благость всем. Дай мне еще семь дней. Мир заключу, уделы поделю. А вот еще…
Поднял глаза! Рубаху распахнул…
Вот видишь?! Нет того. Есть только крест. А то я Ей отдал. Зачем мне то? Теперь я, как и все, под Тобой лишь хожу. И верую. Так помоги, Пресвятый Боже, укрепи! Прошу Тебя! Прошу Тебя! Прошу Тебя! И в половицу лбом, и в половицу лбом, и в половицу лбом! Как Мономах – он, говорят, как пение услышит…
Да что это?! Не путай! Вот святый крест! Вот крест! Всеслав еще раз осенил себя знамением и встал. Глянул на лик…
Лик вроде улыбнулся – грустно, чуть заметно. А может, это только показалось. Лик – черен, ничего не видно, письмо из тех еще, евангельских времен. Да и привезено, купец так говорил, оттуда…
…А перед тем, как ты пошел на Новгород снимать колокола, так Волхов, говорят, четыре дня тек вспять. Знамение! А вот теперь Волынь трясло. И Киеву тоже немало досталось – на Десятинной крест чуть устоял. К чему бы это? Уж не к тому ли опять? Вот и робеет брат твой Святополк, великий князь, ибо почуял. Великий! Тьфу!..
А это что? Всеслав прислушался…
А это Игнат гремит горшками. Значит, уже собрал на стол и злится. Значит, пора идти. Всеслав накинул свиту, натянул порты, подпоясался, обулся в стоптанные валяные чуни… И с гневом подумал: да разве прежде ты в таком обличии пошел бы? На люди ж, князь!
А вот теперь пошел! Пришел, сел во главе стола. Зол был! Зло глянул в миску. В миске была уха, налимья печень…
И князь не удержался – улыбнулся. И спросил:
– Тот самый?
– Тот, да, – мрачно кивнул Игнат. – От Дедушки…
– Иди!
Игнат ушел. Всеслав взял ложку, начал есть. Налим, подумал он, от Дедушки. От водяного, значит. А хороша уха! Горячая, с наваром… А Глебова такой ухи не ест! Другие все боятся и молчат, едят, хоть давятся. А эта сразу отказалась! Сказала:
– Грех это. Нельзя. Сом, налим, раки – суть грязные твари. Можно беду накликать.
– Какую? – ты спросил.
Она смутилась, не ответила. Глеб, видно, ее в бок толкнул. А ты как будто ничего не понял, кротко улыбнулся и опять:
– Ну так какую, дочь моя?
Она смолчала, глаз не подняла. И ты молчал. А мог же ведь сказать! Только зачем? Ну, верят они в это – пусть верят. Им, молодым, так легче жить. И старым тоже легче. И молодым, и старым – всем, кто по обычаю живет и старины не нарушает, не вводит новины – тем всем легко. Потому что они вместе. Они стадо! Или паства, как Иона говорит! А ты, Всеслав – волк-одинец! Вот оттого-то и сидишь ты в гриднице один, и так ты и помрешь один! А в Киеве, Чернигове, Переяславле – да где ты ни возьми, – везде иначе. Где князь, там и гридьба, дружина, все за одним столом, всё чин по чину. И, говорят, в этом и есть княжья сила. Может быть. А ты – изгой. И меченый с рождения. Да и осталось тебе жить…
Всеслав отбросил ложку, встал… Снова сел. Есть больше не хотелось. Широкий стол, просторный, длинный. За этим же столом пятнадцать… Нет, уже шестнадцать лет тому назад, когда сват приезжал, здесь Глеба и обговорили: у вас купец, у нас товар – и по рукам ударили, мол-де, была Мария Ярополковна, станет Мария Глебова, княжна – княгинею. Что ж, дело доброе; сидели, пировали. Да что-то сват вдруг быстро захмелел и осерчал, стал гневно говорить на Мономаха, на Васильку – зря это он тогда на Васильку! Ведь с того Васильки беда и началась, и наливалась она, наливалась, покуда Давыд нож не взял! Теперь Василька слеп, в глазницах дыры. А раньше сероглазый был! Или какой? Всеслав, вспоминая, задумался…
Вошел Игнат, встал у двери, нарочно скрипнул половицей. Всеслав опомнился, гневно спросил:
– Чего тебе? Как смел без спросу?!
Игнат пожал плечами и сказал:
– Так ведь гонец явился.
– Чей?
– От Ярослава Ярополчича. Из-под Берестья.
Князь тяжело вздохнул. Вот, Ярослав! Вот только об отце его, о свате, вспоминал… Опять вздохнул, долго молчал, потом сказал-таки:
– Зови.
Игнат ушел.
…Когда убили свата, ты свое слово сдержал, взял его дочь за Глеба. Зима тогда была, лютый мороз, и Глебова к тебе приехала, и здесь потом так и осталась. А сыновей его забрал к себе их дядя Святополк. Ну, младший Ярополчич, Вячеслав, об этом лучше ничего не говорить. А старший, Ярослав… Брат и сестра очень похожи: такие же глазастые, лобастые. И молчуны. Вот Ярослав; он десять лет жил в Киеве, имел подворье на Подоле, держал село Курбатово. Великий – дядя Святополк – звал его и в пиры, звал и в походы. А волостей не то что не давал, но даже и не обещал. И Ярослав молчал. Тогда Великий порешил его женить, нашел ему богатую невесту, а Ярослав опять ни слова. А ведь же знал: как только женишься на черной, так сразу свою кровь испортишь – и будут сыновья твои уже не настоящие князья – а так только, княжата, у князей при стремени. Недаром Трувор о Вадиме говорил: «Пусть рыбу ловит, землю пашет…» Вот куда гнул Великий! А Ярослав молчал! И лишь только тогда, когда Великий объявил, что завтра нужно ехать на смотрины… Вот тут Ярослав вдруг исчез, будто сквозь землю провалился! Его искали, не нашли. Он после объявился сам – в Берестье. Он там посадника ссадил, сам сел. Великий укорял его, советовал одуматься. А Ярослав прогнал его гонцов, велел, чтоб дяде передали:
– Здесь мой удел. Городня – тоже мой, там брата Вячеслава посажу. А силы соберу, и тогда все отцовское возьму, ибо Волынь – вся моя!
Вот так-то вот; сидел тихоня Ярослав, сидел… А нынче только поперечь ему! И он ведь прав: Волынь это его отцова отчина. И более того: когда бы тогда свата не убили, так он бы, сват, на Киев венчан был. Он, а не Святополк, ибо сват старше Святополка, выше по Рюриковой лествице…
…Шаги! Это Игнат ведет гонца. Вот по ступеням вверх, вот подошли к двери. Князь поднял голову…
И вздрогнул. Потому что гонец – это вот кто! Вот уже ни думал, ни гадал с ним в этой жизни встретиться, торопливо подумал Всеслав и даже поморщился. Угрим это, тот самый! Ну, Ярослав, дальше с тоской подумалось, совсем плохи твои дела, если ты Угрима ко мне посылаешь! А сдал Угрим, ох сдал! Глаза ввалились, серый весь. Вот каково оно от сытых-то хлебов на волю бегать!
Угрим отдал поклон малым обычаем и замер, ждет.
– Садись, Угрим, – сказал Всеслав приветливо. – Поешь, небось проголодался.
Угрим лишь головой мотнул:
– Нет, князь! Весть у меня. Преспешная!
– Ешь, ешь, – заулыбался князь. – Весть никуда не денется.
Угрим вздохнул, прошел и сел напротив. Взял ложку, принялся хлебать. Потом, словно ожегшись, спохватился. Всеслав сказал:
– Налим, налим. Он самый. А вкусно ведь?
Угрим пожал плечами, свел брови, снова начал есть. Князь улыбался. Вот придумают! Что с чешуей, то хорошо, то чисто. А если без нее? А если человек посты блюдет да сирым помогает, на храмы жалует, а пение услышав, умиляется и слезы льет – то он хорош? Но если он же, этот человек, поганых наведет и все вокруг сожжет, а крест на мир поцеловав, потом велит убить… Так кто же есть налим? И кто от Дедушки, от нечисти зеленой? Я или он?!
Бряк ложка, бряк. И – тишина. Князь поднял голову. Угрим уже поел и утирается. И опять утирается – гадливо. И сплюнул даже. Вот! Он злой, Угрим. Когда тогда, зимой, по смерти Ярополковой, привез он сюда Глебову, а ты, Всеслав, засомневался, а надо ли ее принимать… Да что теперь об этом?! Теперь вот ее брат, князь Ярослав Ярополчич, к тебе же стучится!
– Ну что, – мрачно сказал Всеслав, – чую я, побежал Ярослав из Берестья. Так?
– Так, – кивнул Угрим. – На север, на Городню. На Неру-реку вышли и стоим. Там Вячеслава ждем в подмогу. А он чего-то… – и Угрим умолк.
– Вот! – зло сказал Всеслав. – Вот так всегда! А я ему, Ярославу твоему, что говорил? Я говорил: «Не выходи! И брату своему не верь!» Так нет, идут! Сидели бы за стенами, никто бы вас там не достал. А что теперь? Да будь я там на месте Святополка…
Но дальше Всеслав ничего не сказал, остерегся, а только глянул на Угрима. Угрим зло сказал:
– Великий следом не пошел. Он сел в Берестье. За нами сыновей послал.
– А, сыновей… – Всеслав задумался.
– Мы и теперь стоим, – сказал Угрим, – и сыновья его стоят. Вот Вячеслав придет…
– Вот-вот! – Всеслав не выдержал и встал. – Уж он придет! Придет!..
– Да! И придет! – Угрим вскочил, побагровел и продолжал: – Придет! Он Ярополку брат родной, он слово сдержит. А ты… Тебя всю зиму ждали!
Князь стиснул зубы, помолчал, потом тихо сказал:
– Ты сядь, Угрим. Чего кричать? Я тоже сяду.
Сели. Долго было тихо. Постучало в висках, унялось. Вот и всегда так, сердито подумал Всеслав, брат, не брат. Брат – он какой ни есть, а свой, а ты всегда чужой. Изгой. Нет тебе веры. Ты как степняк! А степняку не грех и клятву дать, крест целовать, наобещать и заманить, как хана Итларя брат Мономах заманивал, а после живота лишил. Так и с тобой – хорош, но до поры! И князь, вздохнув, заговорил – неспешно, тихим голосом:
– Ну, что я не пришел… так не пришел. Но не предал я вас. И не предам. Понял, Угрим?
– Понять-то понял. Да только это не ответ. Мой господин хотел, чтобы ты…
Всеслав рукой махнул, зло перебил:
– «Мой господин! Мой господин!» Твой господин, Угрим! А мне он кто? Он сын того, кто бил меня, жег мой удел. Он внук того, кто звал: «Приди, Всеслав, помиримся, поделим дедино, рассудим; мы же одна кровь!» И я пришел. А он, дед господина твоего, меня – да в железа, да в поруб! Но и тогда я зла не затаил. Когда его из Киева прогнали, то я – один на всей Руси – сказал ему: «Брат Изяслав!..» И Ярополку Изяславичу не поминал Голотческа, да и потом, когда он из Волыни выбежал, опять же только я один… А и зарезали его, но я от своих слов не отказался, взял его дочь за Глеба. А мог не брать. Ведь мог?
– Мог. Да…
– Вот то-то и оно! А взял! И вот опять: мог не вступаться я за Ярослава Ярополчича, ибо вы сами по себе, мы сами… А ведь вступился же! А то, что я к Берестью не иду… так понимать надо! Вот ты седой уже совсем, Угрим, уже пора понять: мечом славы добыть ума много не надо. Вот без меча… – и усмехнулся князь, огладил бороду, сказал, как малому: – Да Святополк давно бы подушил вас всех, когда бы без оглядки шел. А так ведь знает: есть Всеслав, сидит у себя в Полтеске, и изготовился, и только ждет того… А, может, и не ждет, а уже выступил. Вот как Великий думает, Угрим, и оттого и медлит! И оттого всю зиму под Берестьем простоял, а вас так и не тронул. Он и сейчас стоит; он сыновей послал вдогон, а сам ни с места, ибо он страшится: а вдруг Всеслав, как в прежние года, возьмет да кинется! Вот так-то вот, Угрим. А ты: «Брат! Брат!»
Опять долго молчали. Потом Угрим сказал:
– Пусть так. Но как нам теперь быть? Ведь ты же не идешь.
– Да, не иду. А быть вам так! Пусть Ярослав брата не ждет, а пусть уходит в ляхи. И спешно, Угрим, очень спешно! Потому что здесь, на Руси, никто ему уже…
– Князь!
– Я сказал! Никто за Ярослава не заступится! Да и потом… – Всеслав вздохнул, печально улыбнулся. – Ну что мне стоило наговорить тебе с три короба, наобещать, мол, передай, что я, Всеслав, целую крест…
– Но ты же не целуешь!
– Не целую. Не целовал и не пришел. А Вячеслав ведь целовал? Чего молчишь? Вот то-то и оно, что целовал. А дальше что? А то: у вас там на Руси давно такой обычай: кто поцелует, тот и предает. Вот Святополк и ждет, когда брат Ярославов Вячеслав…
– Князь!
– Сядь, Угрим!.. Вот то-то же. Охолонись. И слушай, что там дальше будет. А дальше… Да! Вот так…
Князь головой мотнул, утерся рукавом и, ком сглотнув, заговорил, хрипя:
– Кто первым выбежал из Киева? Не Вячеслав, а Ярослав. И Ярослав же брату написал: мол, жду, даю тебе Городню, и будем заодин и отобьемся, а после на Волынь пойдем, на отчину. Ведь так?
– Да, так.
– Вот то-то же! Теперь приходит Святополк, великий князь и всем вам господин, и Вячеславу говорит: я знаю, ты не виноват, а это старший брат тебя сманил, и посему тебя прощу и даже Городню тебе оставляю, владей; но ты за это, Вячеслав…
– Нет!
– Да! Запомни, что я говорю, Угрим, запомни! И Ярославу так и передай: Всеслав почуял! Понял? И чтоб бежал он в ляхи, Ярослав; нам, полочанам, к нему не успеть, а других совсем не будет. Поэтому гони, Угрим! – князь встал. – Гони! Тебе коней дадут, каких захочешь. Скажешь, что я велел… Угрим! День нынче года… жизни стоит! Ну!
Встал Угрим. И был он черен, зол. Да он всегда такой, еще по свату памятен. Встал и ушел, не поклонившись. Пес, гневно подумал Всеслав. И тут же: и пусть его, пусть Ярославу говорит, что хочет. Пусть – мертвые сраму не имут…
Но гадко, грязно, подло было на душе! Всеслав ходил по гриднице, садился, вновь вставал. Да, мертвые не имут, это верно. А кто еще живой, тем как? Еще семь дней вот так ходить, носить это в себе… А что ты можешь? Когда бы не Она, тогда бы ты сказал: «Беги ко мне!» Гонец два дня туда, день там, и Ярослав через два дня сюда. А если что в пути? Бежать-то им не просто так, а через ятвягов. Да и кто в среду сядет в Полтеске? Кого назвать? Глеб, Ростислав, Давыд, Борис? Ох, маета, подумал князь, остановился, посмотрел в окно, но ничего там не увидел, как будто там по-прежнему темно, как ночью, и, значит, нужно было спешно звать Игната…
Но он только горько усмехнулся и подумал: а вот если бы ты, Всеслав, прошедшей ночью умер, тогда бы не застал тебя Угрим. И теперь говорили бы все: «Эх, не судьба! А был бы жив Всеслав, так заступился бы за Ярослава! И Святополка бы разбил, и племя его выгнал из Владимира, и отдал бы Волынь законным, Ярополчичам!»
Так что, Она права? Выходит, что и впрямь всем нужно уходить в свой срок, а как задержишься, так и хлебнешь, ох и хлебнешь! А ведь лишь только первый день пошел! А их всего семь! И за эти семь дней…
Сел князь и обхватил руками голову. Гордец, сердито думал он, что возомнил! Володша, тот…
…Смеялся князь Володша, говорил:
– Молчат находники! Не лезут.
И не лезли. Рюрик опять ушел за море. И долго его не было. Вместо него сидел посадник, из варягов, и он брал дань, но только с ближних, с ильменцев.
Зато князь киевский, Оскольд, вошел в большую силу и брал и с ближних, и с дальних. А было это так: он сперва Любеч подмял, после Чернигов. А после взял Смоленск. После пришла зима. И пришел Оскольд к Полтеску. Пришел, как после все будут ходить – по льду, по замерзшей Двине. И только он пришел, и только встал на Вражьем Острове…
Как в Полтеске начался мор! И люди стали говорить, что это им за то, что они перебили доверившихся, да еще где – за поминальным столом! Володша гневался, кричал: а кто их к нам звал, белобровых?! Да только мор от этого не унимался. Тогда пошел Володша на кумирню и жег дары, рабов. Много сжег, но Перун ничего не ответил. И не заступился. А люди стали говорить еще страшнее: что Перун – старый бог, умирает, а у Оскольда бог совсем другой – и моложе, и крепче! Грозный, ромейский бог! И сам Оскольд теперь почти ромеич, и это он только для нас Оскольд, а для ромейского бога Оскольд – Николай. И чтит его, а бог ему за это дает силу. Володша не верил, смеялся. Тогда ему сказали: смейся, смейся! Прошлой зимой Оскольд тоже смеялся! Да и не только он один, а с ним весь Киев, когда к ним из Царьграда пришел ромейский волхв, он звался Михаилом, принес писание и говорил, что вот где истинная вера. Над тем Михаилом смеялись. Тогда сказал тот Михаил: «Смотрите!» – и бросил то писание в огонь. И отступил огонь! И все они, кияне, поклонились. И были крещены. А вот теперь они с тем грозным и всесильным богом пришли сюда. Их тьма. Мечи, щиты, кольчуги – все на них ромейское. А у Володши что? Да и Перун молчит. И отвернулись люди от Володши, отворили Лживые Ворота – те, прежде Верхние, через которые Трувор входил…
И побежал было Володша, но его схватили. И разорвали его здесь же, под окном. Оскольд на полочан дань положил и возвратился к себе в Киев. И тихо было в Полтеске, и заправлял здесь всем тогда Оскольдов посадник Четырь, а по ромейскому богу Леонтий. Володшу же, жену его, и сына, и братьев, и всю иную родню – всех под корень…
Всех, да не всех! Микула уцелел, Володшин младший сводный брат. Он, люди видели, в тот день ушел вниз по реке, их было две лодки всего. И, говорили, что они ушли к варягам. И, это добавляли уже шепотом, был Микула в Володшиной княжеской шапке. И это не зря! А потом…
Скрип! Что это? Князь резко поднял голову…
Игнат стоит в дверях. Переминается.
– Ну, что еще?! – спросил Всеслав.
– Так ждут они давно, – сказал Игнат.
– Которые?
– Те, на реке.
– А что Угрим?
– Уехал. Скоро. И всё честь по чести. Дали ему Лысого. А в поводу – Играя и Стреножку.
– Ладно. Иди. И я сейчас приду.
Игнат ушел. Всеслав нахмурился и осмотрелся. Тихо в гриднице, пусто. И бедно! Стол, миска, хлеб – и это всё. Да только что еще нужно? Если вот прямо здесь, за этим же столом, раньше отец сидел! А еще прежде дед. И много еще кто – весь род! А первым сел Микула. Надо, надо уважить, конечно! Князь отломил краюху хлеба и понюхал. Постоял… А после подошел к печи и опустился на колени. Тихо позвал:
– Бережко! Бережко!
Никто не ответил. Да князь ответа и не ждал. Он переломил краюху, покрошил. Опять позвал:
– Бережко!.. Ешь!
И сыпнул хлебных крошек в подпечье. Потом осторожно туда заглянул…
И улыбнулся – угольки! Да, словно угольки. Моргают, тусклые. Значит, жует. Сыпнул еще, потом еще, подумал: лик, он издалека привезен. А Микула ликов не имел, он кланялся кумирам… А Полтеск у Оскольда взял! Прости мя, Господи! Перекрестился князь, встал, осмотрелся. Никого. Стол, миска, хлеб. А за окном давно уже светло. Значит, пора уже идти. А то, небось, заждались.