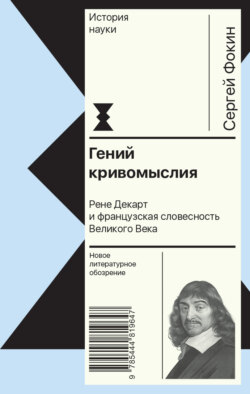Читать книгу Гений кривомыслия. Рене Декарт и французская словесность Великого Века - Сергей Фокин - Страница 4
Этюд первый. Ночь рождения философа, или Три сна Декарта
1.1. Рукопись, потерянная неизвестно где и неизвестно кем
ОглавлениеПубликуемый ниже, в Приложении I, отрывок имеет сомнительное происхождение, однако воспроизводится во всех жизнеописаниях и сводах сочинений Декарта, в том числе в новом полном собрании сочинений философа, которое публикуется в настоящее время во Франции в издательстве «Галлимар», представляя собой образец эдиционной культуры и заключая в себе своего рода «сумму декартоведения», сложившуюся за без малого четыре столетия, что минули со дня выхода в свет «Рассуждения о методе», бессмертного памятника мировой философской мысли27.
Отрывок был предан печати в 1691 году в одной из первых и одной из самых достоверных биографий философа «Жизнь господина Декарта», принадлежащей перу А. Байе (1649–1706)28. Страстный библиофил и видный историк католической церкви, Байе сумел собрать массу ценных исторических документов и разнородных свидетельств, относящихся к жизни и творчеству философа, ставшего к концу XVII века настоящим знамением европейского духа, символом интеллектуальной отваги и воплощением «истинного француза»29. С течением времени большая часть собранных Байе первоисточников была безвозвратно утрачена: вот почему, несмотря на откровенно агиографический характер, его монументальный труд считается исторически авторитетным, по крайней мере, с ним так или иначе считаются все последующие жизнеописания философа, вплоть до новейших30.
Итак, речь идет о записи трех сновидений, которые Декарт увидел в ночь с 10 на 11 ноября 1619 года: мало того что начинающий мыслитель собственноручно записал свои сны, признав тем самым значение не только содержания снов, остающегося, впрочем, довольно запутанным, но и самой формы этого психофизического состояния мозга, которая традиционно противопоставляется бодрствованию. Не теряя времени, праздный гений от математики, который «находился тогда в Германии, куда был призван по случаю войн, не кончившихся там и поныне»31, дополнил сновидения собственными толкованиями, частью придуманными прямо во сне, частью дописанными наутро. Более того, начинающий мыслитель самолично связал с записью трех снов свой бесповоротный выход на путь научного отыскания истины, бережно храня рукопись, озаглавленную «OLYMPICA», в личных бумагах на протяжении всей жизни.
Эти сновидения философа, преданные гласности в биографии Байе, настолько поразили воображение читателей конца XVII века, среди которых были как записные картезианцы, так и отъявленные антикартезианцы, что в общественном мнении зародились сомнения в достоверности как текстов, которые пересказывал биограф, так и самого события. Значение последнего сводилось, грубо говоря, к тому, что рациональная до мозга костей доктрина картезианства обязана своим происхождением весьма смутному состоянию сознания, которым можно счесть сон. Появились даже памфлеты, в которых тогдашние остроумцы выставляли автора проекта новой универсальной науки этаким «обкурившимся чудаком», ценителем особенно крепкого табака, под чарами которого грезившая душа легко отлетала от бренного тела…
Во втором – сокращенном – издании биографии (1693) Байе пришлось изрядно переработать весь этот пассаж, сведя к минимуму патетически-энтузиастическую стихию рассказа о сновидениях32. Что лишь усилило сомнения в достоверности события, тем более что рукопись Декарта не сохранилась, и читателям приходилось либо верить, либо не верить рассказу Байе.
Тем не менее на то, что рукопись действительно существовала, указывает дошедший до нас исторический документ: опись личных бумаг Декарта, составленная после его скоропостижной смерти 11 февраля 1650 года в Стокгольме послом Франции П. Шаню (1601–1662), в доме которого проживал и отдал Богу душу философ. Среди прочих документов в описи действительно фигурирует небольшой пергамент под названием OLIMPICA, к которому на полях было добавлено: «11 Novemberis coepi intelligere fundamentum inventi mirabilis» («11 ноября я начал понимать основания восхитительного изобретения»). Если верить Байе, в рукописи фигурировал еще один вариант incipit: «10 ноября, когда я был преисполнен энтузиазма и открывал основания восхитительной науки…» Так или иначе, но сам пергамент не сохранился, он был известен лишь в пересказе биографа. Отсюда одна из главных источниковедческих проблем: за повествованием от третьего лица следует представлять прямую речь молодого философа. Амбивалентность нарративного статуса текста определяется тем, что в нем задействована когнитивная ситуация перевода, что в свое время превосходно резюмировал Ж.-Л. Марион, один из самых авторитетных философов современной Франции: «Декарт-переводчик дешифрует Декарта-сновидца, предоставляя нам эскиз некоторых идей Декарта-философа»33.
Возвращаясь к истории пропавшей рукописи, заметим, что дополнительное подтверждение реальности всего того, что произошло с Декартом до, во время и после ночи с 10 на 11 ноября 1619 года, появилось в 1859 году, когда французский аристократ, дипломат и литератор и Л.-А. Фуше де Карей (1826–1891) опубликовал два тома «Неизданных сочинений Декарта», куда вошли, в частности, так называемые «Cogitationes privatae», «частные размышления» молодого ученого, обнаруженные французским любителем древностей в Королевской библиотеке Ганновера среди личных бумаг Г. Ф. Лейбница (1646–1716)34. Последний, в бытность свою в Париже в 1675–1676 годах, сумел получить доступ к архиву Декарта, хранившемуся у К. Клерселье (1614–1684), ревностного картезианца, переводчика и издателя посмертных текстов философа: немецкий мыслитель переписал ранние размышления Декарта, изложенные на латыни. Собственно говоря, самой записи сновидений в так называемой «копии Лейбница» не было, однако в ней встречаются почти дословные повторы тех пассажей, которые присутствуют в рассказе Байе, что так или иначе подтверждает наличие единого первоисточника. Но главное в том, что в другом тексте Лейбница находится прямое свидетельство того, что ему был известен рассказ о сновидениях: «Декарт […] в юности принял решение реформировать Философию вследствие нескольких привидевшихся ему снов и упорных размышлений над изречением Авсония „Как мне выбрать жизненный путь…?“. Об этом говорят его собственные рукописи»35. Сопоставление пересказа Байе с «копией Лейбница», воспроизведенной в издании Фуше де Карея, обнаружило как очевидные сходства, предполагающие наличие общего первоисточника, так и некоторые расхождения, относящиеся скорее к манере изложения: там, где немецкий ум был склонен к лаконичности и хладнодушию, французский ум движим вкусом к амплификациям и выспренности. Остается, правда, добавить, что полноценной филологической сверки двух копий утраченной неизвестно где и неизвестно кем рукописи Декарта никогда не проводилось: оригинал «картезианского корпуса» Лейбница исчез из Ганноверской библиотеки.
27
Descartes R. Œuvres complètes /S/d de J.-M. Beyssade et D. Kambouchner. I. Premiers écrits. Paris: Gallimard, 2016.
28
Baillet A. La Vie de Monsieur Des-Cartes.V. 1–2. Paris: D. Horthemels, 1691.
29
Azouvi F. Descartes et la France. Histoire d’une passion nationale. Paris: Fayard, 2002. P. 91.
30
Одна из последних биографий философа, написанная хранительницей «Национальных Архивов» Франции, строится на активной дискуссии с Байе, впрочем, сомнению подвергаются не столько события жизни мыслителя, сколько их толкования: Hildesheimer F. Monsieur Descartes ou La Fable de la Raison. Paris: Flammarion, 2010.
31
Descartes R. Discours de la Méthode. Р. 88.
32
См. об этом: Hallyn F. Les Olympiques: manuscrit trouvé et perdu // Les Olympiques de Descartes: études et textes réunis par Fernand Hallyn. Genève: Droz, 1995. Р. 11–27.
33
Marion J.-L. Questions cartésiennes. Paris: PUF, 1991. Р. 28.
34
Foucher de Careil L.-A. Œuvres inédites de Descartes, précédées d’une Introduction sur la méthode 2 vols. Paris: 1859–1860.
35
Цит. по: Hallyn F. Les Olympiques: manuscrit trouvé et perdu. Р. 21. Авсоний (310–395) – латинский грамматик, поэт и ритор, фигура которого возникает в третьем сне Декарта.