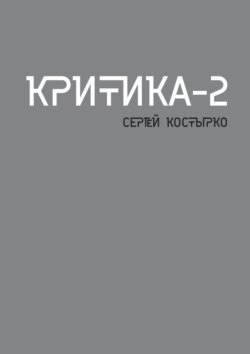Читать книгу Критика – 2 - Сергей Костырко - Страница 6
1
В тональности литературного манифеста и проповеди
ОглавлениеЕвгений Ермолин. Медиумы безвременья. Литература в эпоху безвременья, или Трансавангард. М., «Время», 2015.
Вообще-то Ермолин является автором уже нескольких книг, но почему-то книга эта воспринимается как первая. Для широкой публики Ермолин – один из ведущих современных литературных критиков, и, возможно, поэтому предыдущие девять (!) его книг – литературоведческих, историко-краеведческих, биографических, учебно-методических – остались в тени. И вот книга, в которой Ермолин выступил именно как литературный критик; книга составлена из текстов, разворачивающих литературно-критическое кредо Ермолина.
Выход ее сопровождался скандалом в сети. Неожиданно болезненной оказалась реакция писателей из поколения 90-х – 2000-х. Даже как бы сильные – непривычные в их устах – выражения были употреблены в интернетовском обсуждении «Медиумов». Так что Ермолина можно поздравить с успехом – книга воспринята (вполне заслуженно) как литературное событие. Ну и заодно поздравить здесь своих коллег – кто мог предполагать, что книги литературных критиков читаются сегодня с таким вниманием и темпераментом.
В «Медиумах безвременья» Ермолин выступает в самом непопулярном сегодня амплуа – амплуа идеологического критика. Тональность книги в целом – тональность литературного манифеста, а отчасти и – проповеди. Вот фраза, которой автор начинает: «…сегодня с новой остротой ощущаешь несовпадение атмосферы момента и высших чаяний человечества». Взятая нота обязывает, и, скажу сразу, автор взятые этой интонацией обязательства оправдывает.
В своих взаимоотношениях с литературой критик Ермолин исходит из того, что задача литературы – быть органом мышления общества. Литература – мозг нации. Особенно русской – «литературоцентризм – парадигмально-необходимое основание русской культуры», «русская литература и есть главное русское духовное событие, и есть Россия». И потому писателю нельзя прощать мелкотемье. «Не будет значительной русской литературы – не будет и России».
Что значит по Ермолину «значительность» литературы? Прежде всего обретение литературным произведением статуса явления общественной жизни – «на писателе лежит бремя духовной ответственности за судьбу России, бремя учительства»; «доверие общества призван первым делом приобретать писатель, чтобы профессионально состояться». И это необыкновенно важно, как считает автор, именно сегодня: «Мало было времен в истории России, которые в духовном отношении были бы так ничтожны, как недавний (а может, и еще текущий) момент. Россия стабилизанса, Россия гедонистического авторитаризма – тягостное историческое недоразумение. Глухая духовная провинция, сквозной и почти тотальный урюпинск». Нынешняя же литература – это «каботажное плавание, вялый дрейф души по мелководью смыслов». Литература наша отвернулась от сегодняшней реальности, литераторы заигрались в разного рода постмодернистские игры, порожденные «мутью гламурной, бордельной эпохи» (для удобства я чуть выпрямляю мысль, но – не слишком). Ну и соответственна здесь жесткость оценок в ермолинских разборах творчества Пелевина и Сорокина.
Ермолин последователен, и потому логика размышления неизбежно приводит его к уже процитированному выше «бремени учительства», к тезису о необходимости возвращения литературе функций «учебника жизни»; к претензиям к писателям, которые не озаботились создать сегодняшний образ «героя нашего времени», нет-нет, не в лермонтовскомсмысле, а как Данко у Горького, или как у Маяковского – «делать жизнь с кого». Ермолин посвящает, например, поэту Вере Полозковой персональную статью, в которой о собственно поэзии Полозковой практически нет ничего; ни одного разбора стихотворений. Полозкова рассматривается исключительно как некий феномен литератора, сумевшего в наше время обрести искомое «доверие общества», и критик ставил здесь задачу написать портрет массового читателяПолозковой.
И при всем при этом нет в книге догматической выпрямленности прошедших эпох – тезисы Ермолина имеют и достаточную философскую и эстетическую проработку, и, увы, – множественные подтверждения в собственно практике сегодняшних литераторов. От аргументов Ермолина просто так не отмахнуться, чтение его книги заставляло меня, скажем, заново формулировать для себя, что такое «эстетическое» и «социальное» в сегодняшнем литературном и историческом контексте, в чем именно состоит взаимодействие между ними. То есть, читая эту книгу, я не только знакомился со слагаемыми концепции Ермолина, но и выстраивал систему своих контраргументов (а с Ермолиным я не согласен по большинству его «исходных», не согласен категорически).
Иными словами, книг с такой вот энергетикой, с такой степенью провокативности я не читал давно. И потому – рекомендую. Тут дело уже не в том, найдете вы в Ермолине единомышленника или нет. Вы найдете гораздо большее – человека думающего. И думающего всерьез.
«Новый мир» №8, 2015