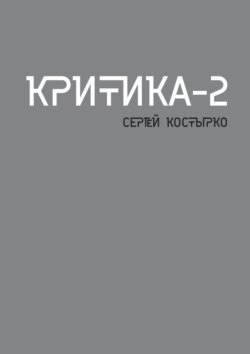Читать книгу Критика – 2 - Сергей Костырко - Страница 8
1
Сухбат Афлатуни
ОглавлениеСухбат Афлатуни. Дождь в разрезе. М., «РИПОЛ классик», 2017.
Обычно книги литературных критиков (в отличие от литературоведов) составляются из статей и рецензий, публиковавшихся в разное время и по разным поводам, и, соответственно, усвоение читателем самой системы критериев анализа текстов происходит постепенно, опосредованно – из контекста. Новая книга Сухбата Афлатуни (выступающего здесь в качестве критика Евгения Абдуллаева) внешне выглядит именно так: собрание коротких эссе, писавшихся для журнала «Арион»; годовые обзоры поэзии для «Дружбы народов» (2011 – 2015), подборка «персональных» рецензий на недавние книжки поэтов и так далее. К этому нужно добавить, что стилистика сориентирована здесь на «филологическую прозу» – специальной терминологией критика Абдуллаева автор не злоупотребляет, пишет легко, образно, по возможности кратко и почти афористично, с неожиданными сопоставлениями и сюжетными поворотами. Однако при всем вышесказанном очень быстро обнаруживается, что повествование «Дождя в разрезе» изнутри выстроено достаточно жестко, «монографически». Первый раздел книги – «Поэзия действительности» – представляет собой не только литературно-критическую «практику», но и «теорию». Здесь «практика» – разговор о конкретных текстах и явлениях – становится способом формулирования эстетической концепции Абдуллаева. И, соответственно, дальнейшее повествование идет уже в русле, заданном этим первым – теоретическим, по сути, – разделом (автор признается, что всегда мечтал скрестить литературную критику с математикой). То есть каждая рецензия в книге, каждый эпизод разбора превращается в частный случай изложения автором своего представления об искусстве (чем, собственно, и жива литературная критика в целом). Разве что у Абдуллаева этот процесс отрефлексирован в большей степени, чем у большинства его коллег.
Свои подходы к современной поэзии критик формулирует, используя образный ряд платоновской «Пещеры», той, из которой мы, запертые в стенах собственного чувственного мира, пытаемся пробиться к реальности мира внешнего (сразу заметим, что платоновская образность становится здесь уже наполовину абдуллаевской – недаром и псевдоним автора означает в переводе на русский «Диалоги Платона»). Критик выделяет четыре «уровня» (или типа) поэзии по принципу контакта с «действительностью» (и, соответственно, четыре уровня нашего доступа к «действительности» самой поэзии). Самый элементарный, общедоступный и, увы, самый распространенный уровень – это «текст-тень», текст, лишенный источников собственного света; текст графоманский. Далее, по восходящей, – «текст-отражение», в данном случае это «филологическая» поэзия, которая светит отраженным светом уже состоявшихся в современной поэзии явлений. Затем – «текст ночного освещения», в котором поэт выстраивает собственные отношения с уже пойманным глазом «поэзии действительности» миром. И, наконец, собственно «поэзия действительности» – это когда поэт, сумевший покинуть «платоновскую пещеру» собственных чувств, научается смотреть на «истинный мир» при дневном свете, не жмурясь. Из предложенных критиком определений «поэзия действительности» я бы выбрал: «сделать поэзией то, что до этого поэзией не являлось». Каких-то жестких, непроницаемых границ между этими «уровнями поэзии» нет, но каждый из «уровней» имеет свои, жестко закрепленные за ним особенности функционирования поэтического слова, свои формальные признаки. Описание их и анализ, прослеживание их трансформации во времени для автора – основной способ описания сегодняшней поэзии, выяснения того, что отличает ее от стихотворной речи десяти- и двадцатилетней давности. В частности, Абдуллаев прослеживает, как меняется на наших глазах функция рифмы; что происходит с эпитетом; что такое в сегодняшней поэзии «пауза», «молчание» и в чем, соответственно, отличие поэта советского от «постсоветского» («Советским поэтом был Бродский. Последним выдающимся советским поэтом»); что такое «тема» в поэзии; что такое «натурализм» и «реализм» в искусстве – если отбросить предельно уплощенное школьное представление о содержании этих терминов; как изменило поэтический ландшафт появление Интернета, каково в сегодняшней поэзии содержание понятий «гражданский» и «политический» и так далее, и так далее.
«Дождь в разрезе» представляет собой попытку не только написать образ сегодняшней поэзии, не только написать «Поэтику» в том виде, в каком ее «пишет» для автора современное состояние русской поэзии, но и – что для автора, как мне кажется, очень важно – вычленить в этой «Поэтике» некие уже вневременные универсалии.
Предлагаемое мною здесь представление книги Абдуллаева целью своей имеет не столько анализ и оценку сделанного в ней критиком (это задача не для короткого отзыва), сколько попытку спровоцировать поэтов, критиков и читателей на продолжение начатого Абдуллаевым разговора. Потому как главным достоинством этой книги, на мой взгляд, является сам дискурс (и, соответственно, его инструментарий), предложенный автором для разговора о поэзии. Грех таким не воспользоваться.
«Новый мир» №11, 2017
Сухбат Афлатуни. Как убить литературу: очерки о литературной политике и литературе начала XXI века. М., «Эксмо», 2021.
Всегда завидовал людям с системным мышлением – это я о представляемой здесь книге Сухбата Афлатуни (Евгения Абдуллаева1). С удовольствием повторю то, что писал о предыдущей его книге «Дождь в разрезе» («Новый мир» 2017, №11): новую книгу Абдуллаева составили статьи, которые писались в разное время и по разным поводам для журналов «Дружба народов», «Знамя», «Арион», «Новый мир», но собранные автором вместе читаются как единый – монографический – текст. В отличие от «Дождя в разрезе», где упор был сделан на поэтике сегодняшней литературы, здесь речь идет о способах ее, литературы, функционирования. О том, как она устроена, какое она занимает место в нашей сегодняшней культуре и общественной жизни. А место это уже далеко не то, каким оно было в России на протяжении многих десятилетий. Нынешняя русская литература, констатирует автор, потеряла того массового читателя, наличие которого определяло ее кровоток. Образно выражаясь (а может, и не образно), писателей у нас стало больше, чем читателей. Литература перестала быть фактом общественной жизни, ну а писатели – «инженерами человеческих душ».
Свой разбор автор, как и обещано им в подзаголовке, начинает с определения, что именно следует называть «литературной политикой» и есть ли смысл пользоваться этим словосочетанием сегодня. Литературная политика в России, как считает Абдуллаев, изначально определялась местом литературы в общественной, в политической, а значит, и в государственной жизни России, что во многом формировало ее магистральные жанры и стилистики. С концом СССР завершилось и ее функционирование в том его варианте, который автор называет в книге «консервативной моделью», то есть та ситуация, когда литература в какой-то степени была еще и инструментом государственной политики. Сегодня же литературная жизнь идет скорее по законам «либеральной модели», предполагающей, что литература является частным делом и регулируется книжным рынком. Разумеется, «либеральная модель» несравненно более благотворна для литературы как искусства, но конец «консервативной модели» в России имел и свои негативные последствия, в частности, резкое сокращение поддержки государством тех институтов литературной жизни, от нормального функционирования которых зависит ее дееспособность. Ну, скажем, в бедственном, если не критическом положении оказалась толстожурнальная – некоммерческая по определению – культура. К этому следует добавить «видеозализацию» культуры через телевидение, плюс стремительное развитие сетевой «литературной жизни», стирающей границы между литературой профессиональной и любительскими имитациями ее. И тем не менее, как считает автор, свою главную задачу – оставаться органом рефлексии социума – литература наша выполняет. Теме этой посвящена, в частности, статья «В поисках героя утраченного времени», где Абдуллаев отмечает неожиданное явление – возрождение жанра романа: «Разговоры про „смерть романа“, скромно отметив свой столетний юбилей, иссякли. Романодефицит девяностых сменился романоманией нулевых». Автор здесь предлагает свой разбор романов Глеба Шульпякова, а также прозы и стихов его сверстников из – на момент их появления в литературе – поколения «тридцатилетних». Вот очень важный для содержания книги итог этого размышления: «„Тридцатилетние“ – пока последнее в современной русской прозе историческое поколение, но оно же и первое поколение, остро ощущающее конец истории, ее исчерпанность в современном изводе, будь то законопослушная демократия или стабильная нефтекратия местного образца. И трилогия Глеба Шульпякова – возможно, наиболее честная попытка такой поколенческой саморефлексии, попытка осмыслить свой исторический – приобретенный во время „зыбкости границ и неизвестности возможного“ – опыт». То есть, по мысли Абдуллаева, современная литература и в либеральном своем изводе выполняет свои, традиционные для русской культуры функции.
Одним из самых существенных и болезненных для литературы явлений, с которыми она сейчас столкнулась, оказалось изменение самих форм взаимодействия литературы и ее адресата. В связи с этим автор книги задался поиском ответов на следующие вопросы: ну, скажем, чем именно определяется сегодня успех литературного произведения? Или какой из «типов русского романа» «по отношению к философским традициям» русской литературы – «роман просвещения», «роман-исследование» и «роман-отражение» – стал в последнее десятилетие у нас ведущим и почему? Кто и как назначает писателей прижизненными «классиками» или кандидатами в таковые? Какую роль в современном литературном процессе играют литературные премии (в книге подробно рассматривается литературная и общекультурная специфика трех премий: «Большая книга», «Букер», «Нацбест»)? Что означает фактическая утрата сочинительством статуса профессиональной деятельности? И, одновременно, о чем говорит феномен популярности «литературных курсов» в нынешней России? Поиск ответа на эти и множество других вопросов и выстраивает повествование книги.
К достоинствам книги я бы отнес отсутствие в ней подробных разборов наиболее громких публикаций последнего десятилетия, мимо которых вроде как не имеет права пройти критик, пишущей о сегодняшней литературе, – здесь нет развернутого представления книг Водолазкина, Быкова, Славниковой, Сенчина, Юзефовича и других. Автор полагает, и совершенно справедливо, что про них в нашей критике написано уже достаточно, что же касается разбора прозы Шульпякова в контексте этой книги, то он посвящен опять же не столько вопросам поэтики современной литературы, сколько месту литературы в жизни общества. Главной своей задачей автор видел необходимость разобраться в том, как складывается нынешняя ситуация с литературой и каковы общие тенденции ее развития. Ну а далее Абдуллаев, «человек с барометром», как назвала его Инна Булкина, пытается обозначить – пусть и очень осторожно – прогноз на будущее. Культурное пространство, обозреваемое автором, отнюдь не ограничивается литературной ситуацией в России, автор активно привлекает зарубежный материал, демонстрирующий похожие процессы и в западной литературе.
«Новый мир» №2, 2022