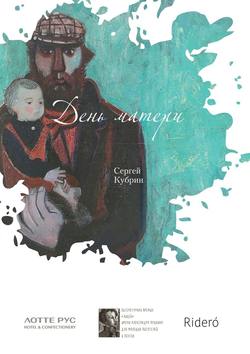Читать книгу День матери. Роман - Сергей Кубрин - Страница 3
2
Оглавление– Да ты нормальный вообще, – подкалывает Гнус, мой напарник по сектору. – А чего праздновал? Меня бы позвал.
– Че-то втихую решил.
Гнусов любитель побухать и каждый вечер находит достойный повод, чтобы опрокинуть одну-вторую и, если позволит доброе оперское сердце, третью. В прошлую пятницу мы праздновали, например, очередное раскрытие, когда Лехе пришлось рапортовать об использовании боевого ПМ, во вторник ловили градус по случаю высадки из ИК нашего старого клиента по кличке «Мирный», который делает определенную статистику отделу уголовного розыска своим неугомонным воровским поведением.
– Ну и разит же от тебя, большой те в рот… А это где поймал? – показывает на шлепок у носа, и вот уже тянет ручищу, чтобы убедиться в зачетном алкогольном пробое.
– Леха, все потом.
Расскажу, что праздновал – ну, скажем, день рождение матери или какого-нибудь племянника, которого не существует в помине. Признаться бы, что пил просто так, потому что хочется настоящего пьяного одиночества, но нельзя – начнется понятный дружеский разговор, типа нужно учиться жить, и все такое, брать себя в руки, идти вперед. Проходили – знаем, но когда проходим заново – учимся опять.
«Личному составу отдела полиции срочно собраться в кабинете у начальника».
Мы гоним на планерку. Что-то случилось в нашем беспокойном районе, раз подняли всю полицейскую братию.
Начальник орет: мы ни черта не делаем и попросту получаем деньги. Избитая бодяга. Главное в нашей работе – сразу получить люлей. Гнус говорит, после отмены компенсации за ненормированный рабочий день, утренний прессинг – единственная стимулирующая выплата, как залог успешного выполнения поручений.
Гнусов любит потрещать. Вообще, неплохое качество для оперативника.
Мы примостились на заднем ряду. Леха стал рассказывать о новой подруге, которая сдалась после первой встречи.
– Тихо ты, потом расскажешь.
– Отвечаю, такая бомба, ты в жизни таких не знал.
Вовсю долбили участковых за плохие показатели.
– Раскрываемость упала, выявлений по нулям! А мы еще удивляемся, почему? Почему? Вот, кто мне скажет, почему? – зверьем грохочет наш старый полковник, и я думаю, как там Гриша в зоопарке, смотрит ли уже тигра.
Одна за другой поднимаются головы бедных полицейских, клонящиеся от неизбежного командирского разбора. Я понимаю, рано или поздно отчитается каждый участковый и дойдет очередь до оперских бездельников. Спрятаться бы в клетку, и дожить в ней до льготной пенсии. Ходите-смотрите, подбрасывайте украдкой кормежку, фотографируйтесь даже, только не выпускайте на волю, полной абсурда и выдуманных проблем.
– Я еще раз повторяю! Кто! Кто мне ответит?
– Ответишь? – толкаю Гнусова.
– Может быть, Гнусов знает? Гнусов!
– Я! – вскакивает Гнусов так, что стул под ним тоже подпрыгивает инерционной бездействующей волной.
– Что, я? Что, я? – надрывается начальник. Ты мне ответишь, почему?
Гнусов молчать не умеет. Второе оперское правило – молчи, когда сыпет руководство. Он заряжает:
– Товарищ полковник, работаем, товарищ полковник. По плану то-то, по распорядку что-то, по факту – третье, на вечер запланировано мероприятие, будет к утру результат.
Полковник хмурится и стучит ручкой по истерзанному А-4, словно колит не листок, а пронизывает душу. Молчит, и думаешь, заорал бы что ли, как умеет. Молчание – главный козырь на обреченном пути к поражению.
Очередь по списку за мной. Так и есть.
Стоим и слушаем, какие мы дегенераты, раз не можем раскрыть преступление.
Мне нравится служить в органах. Какой бы тварью ты ни был, все равно рано или поздно станешь уважаемым пенсионером. И кто-то непременно скажет: «А ведь служил когда-то такой оперативник. Всему розыску голова!».
– Свой район надо знать! Это ваша – родина, он роднее, чем ваши гребаные семьи! – слава Богу, снова плещет дерьмом.
По сводке стало известно, что число малолетних потеряшек возросло до шести. А мы так и не нашли ни одного ребенка. Строили версии, что появился залетный маньяк.
– Если они уходят с детских площадок, значит надо вставать на фишку.
– Надо, Леха, разве, кто спорит. Ты только посмотри, сколько у нас других материалов. И подумай, хватит ли на все времени.
– Но они же – дети!
И я подумал, действительно, дети. Мать не отвечала на сообщение. Либо не увидела входящую смс-ку, либо окончательно обиделась, что между ребенком и работой я снова выбрал работу.
Мало того, между своим ребенком и чужими детьми, я выбрал чужих.
– Чужих детей не бывает, – как всегда кстати выдал Гнус.
У нас есть время до утра, чтобы отчитаться о проделанной работе. Первое правило оперативника – выводи на доклад каждое действие. Проехал до точки – пиши рапорт, поговорил с соседями – чиркани две строчки и положи в красную канцелярскую папку.
Леха говорит, нужно ехать на места. Если разорвем цепочку, назначат служебную проверку, наверняка повесят выговор, а не за горами главный полицейский праздник – лишат премии и надбавок, а ребята из УСБ снова станут рассекать по кабакам в поиске пьянствующих сотрудников.
Весь блокнот исписан гнусовским кудрявым почерком. Обложка, и та разрисована каракульной схемой со стрелками и кружочками.
Гнусов бездетный холостяк. Времени у него, как у меня – проблем. Говорю, что сегодня должен быть дома. Но Гнусу не понять.
– Раскидают нас по разным секторам, че будем делать?
С Лехой на секторе мы работаем давно, и что-то менять не хочется.
– Давай разделимся, – сдаюсь я.
– Так и быть, возьму лесхоз.
Гнус просит в долг до зарплаты. Куда он тратит деньги, понятия не имею.
– Я браслет ей куплю, – говорит. – За браслет она вообще меня в космос отправит. Знаешь, как там в космосе?
– Знаю.
– Не знаешь, – ухохатывается Гнус, – такая девочка, ты бы знал.
Иду плююсь. Звоню матери. Тишина.
Купить что ли Грише телефон.
Иногда – очень редко – мне звонит Оксана. Да, восемь звонков с работы. Два – от матери. Оксана не в счет. Она вообще, как там говорят, не часть моей жизни.
Предлагает встретиться. Ну, как встретиться: нужно приехать и остаться на ночь. Я говорю, что работаю.
– Ты всегда работаешь, – отвечает Оксана.
И в общем-то права.
Сижу в стареньком фокусе, мониторю детскую площадку. Еще немного и какая-нибудь бдительная мамаша наберет простое «ноль-два» и сообщит, что какой-то хмырь подглядывает за детьми. Вообще это значимое оперативно-розыскное мероприятие под названием – наблюдение. Но выдержка у меня в последнее время никакая. Гнусов говорит, я старею, и скоро он обгонит меня по показателям. Я напоминаю, что показатели у нас общие.
Мать все-таки берет трубку.
– Ну, как вы?
– Нормально, – отвечать, и я понимаю, что все-таки обиделась. По крайней мере, недовольна.
– Дай Гришу.
– Он купается.
– Что, сам? – удивляюсь, будто Гриша не плещется в ванной, которую бабушка наполнила меньше, чем наполовину, а прорывает безвоздушную преграду и выходит в открытый космос.
– Когда ты приедешь?
Я думаю, когда приеду. Сперва думаю, когда смогу приехать, после – смогу ли приехать вообще, затем думаю, как сказать, что сегодня приехать не получится.
За молчанием следует все то же краткое: «Поняла». И мать отключается.
Дети визжат, катятся с горок. Один – роет песок, вторая – лезет на турник. Повсюду плач и смех в одном флаконе.
Гриша другой. Мне повезло. Хотя, откуда знать, какой он, мой Гриша. Что там сейчас, правда ли купается.
Дети оцепили песочницу. Маленькая девочка кружит на месте, кричит и заставляет остальных бежать за ней. Никто не обращает внимания на девочку, будто ее вовсе не существует. А девочка кричит и кричит. Уже непонятно, просит ли она бежать или пытается объяснить: я здесь, смотрите же, я существую. Девочка всем безразлична.
Вдруг понимаю, что где-то есть такая же песочница, в которой копошатся дети. Они строят замки, фигурки выделывают, закапываются по шею в песок. Удивляюсь, где родители, и почему за детьми никто не следит. Нужно срочно писать представление инспекторам по делам несовершеннолетних. Темнеет, дети исчезают. Сначала берутся за руки, чтобы не потеряться в резко прозревшей темноте, идут осторожно, кажется, по заученному пути.
Я за ними. Но после долгой проходи сквозь тяжелый туман теряю из виду. Темнеет резко, а небо сплошное, матовое, без единого просвета. И даже себя самого можно потерять. Ни рук не видно, ни ног. Плывешь тем же туманом, долго-долго, а потом дети появляются снова. Излучают свет, и темнота высыхает.
Дети тянут свои толстые ручонки. Папа, папа, возьми нас.
Пытаюсь убежать, но они – везде. Я окружен детьми, у каждого мои густые черные брови, толстые губы, кудрявые волосы, но совсем чужие разрезы глаз – узковатые, азиатские.
Я боюсь этих детей. Они все кружат и кружат, как метель возле огромной новогодней ели. Кто-то говорит:
– Они твои, забирай. Будь мужчиной.
– Вы потерялись? – спрашиваю.
Они продолжают кричать, просят остаться.
– Потерялись… забери их, они – твои. Это твоя кровь, ты не можешь бросить собственных детей.
Тогда мне становится по-настоящему страшно, и я пробую бежать. Голос преследует, я вдруг понимаю, что это голос Кати, тот вечный ровный голос.
– Забери детей, их нужно забрать, понимаешь. Они же не справятся одни. Ты главная надежда, понимаешь?
Но я ничего не понимаю. Я прошу Катю пойти со мной. Смотрит устало. Она не уйдет. А потом все закончится.
Я затрясу головой, протру глазу, зевну от души до заветного щелчка и пойму, как не хочу здесь торчать. Никаких детей мы все равно не найдем. По крайней мере, до утра. Я хотел сходить с Гришей в зоопарк. Не вышло. Мне бы ехать домой, хоть как-то объясниться. Но если ты паршивый отец, это уже не исправить.
«Ну что?» – пишет Оксана.
«Скоро буду».
Говорит, мне нужно чаще расслабляться.
– У тебя такая жизнь, такая работа. Иди сюда.
Она появилась давно, может быть, раньше, чем нужно, когда Гриша только увидел свет и наступила та послеродовая женская особенность, справиться с которой может не каждый мужик. Иногда соглашаюсь, что сам виноват и будь я нормальным, не стал бы искать простых замен для непростой половой утехи.
– Налей мне.
– Давай еще разок.
– Налей, – повторяю, как можно сдержаннее. Оксана понимает – не нальет, я встану и налью сам. В лучшем случае промолчу, но, скорее всего, сорвусь и размажу кулаком стену, как в прошлый раз.
Поганое шампанское пузырится в фужерах, тускнеющий салют бьется о края и погибает. Надо было взять водку, сила которой очевидна известным последствием – либо ты победил, либо сдался, и, как правило, ты сдаешься, но так приятно сдаваться под натиском священной крепости.
– Ты за рулем, не пей, – имитирует заботу Оксана.
Она вообще хорошо имитирует. Ей хочется, чтобы я чувствовал себя мужчиной. За ежемесячное пособие она готова уделять внимание, терпеть мои недостойные выходки, вроде встань туда или сделай то.
Я до сих пор не знаю, где она работает и чем занимается. Мне вообще неинтересны детали чужой жизни. По-моему, говорила, что сидит в обычном офисе и отвечает на звонки. Я же предпочитаю думать, что Оксана библиотекарь или медсестра, скажем. Сегодня я попросил ее стать учительницей. Поганое сегодня настроение.
– Расскажи мне что-нибудь, – просит.
Я терпеть не могу говорить о чем-нибудь. Будь моя воля – вовсе бы закрылся от всего и молчал-молчал, пока кто-нибудь ни выдал: «Ну, что, может, хватит? Ладно уже, ты победил».
– Ну, расскажи, – все стонет, как маленькая, и чтобы та заткнулась, я занимаюсь главным.
– Ты мой, – шепчет Оксана.
Я бы доплачивал ей премиальные, пусть только молчит.
– Как на службе? – все не успокоится она.
Таращусь в потолок. Черный-черный потолок, лишь в углу бьется отражение торшера. Целый космос и едва заметная надежда, что в черном космосе появится окно, откроет кто-то форточку и ты сможешь выбраться, может, в другой невозможный мир, но тот мир станет невозможным не сразу – у тебя будет время, чтобы окрепнуть для новых поражений.
Завтра утром идти на доклад. А что докладывать: нет дела до этих потерянных детей. Оставьте меня в покое, товарищ полковник, сколько можно заниматься ерундой. Все преступления совершаются из стремления стать счастливым. Так пусть же мы будем счастливы. Надо позвонить Гнусу, может быть, он хоть что-то нарыл.
После думаю, что я в самом деле, как лейтенант-первогодка. В первый раз что ли: выкручусь, даже зарапортую ночную отработку. Проводил беседы с жильцами домов, отрабатывал граждан, осуществлял наблюдение, работал с агентурой.
– Будешь моим агентом? – спрашиваю.
– Агентом? – смеется Оксана, – как Джеймс Бонд?
– Что-то вроде.
– Ты мой Джеймс Бонд, – снова лезет она.
Сколько-то плавимся в вынужденной близости, заливая пошлость шампанским.
– А как там Гриша? Расскажи мне о Грише. Ты никогда о нем…
И тут я вспоминаю о Грише. Представляю, как не может уснуть, переворачивает без конца подушку, жмется к стенке, стягивает простынь. И все потому, что отец, призванный теперь быть рядом, сам стремится куда-то уйти. А куда идти, и податься некому. Что я могу рассказать? Что она вообще может знать о Грише.
– Никогда! Никогда не спрашивай о моем сыне, поняла?
– Я только хотела…
– Ты меня поняла?
– Поняла, – отвечает Оксана, сползая под одеяло.
– Ты ничего не понимаешь. Ты вообще недостойна спрашивать о нем!
Я лью остатки гребаного шампанского, и все говорю что-то обидное, будто Оксана в чем-то виновата, будто она должна была раствориться в этой чертовой вселенной, которая не спрашивает, на самом деле, кто ей нужен, а забирает первого встреченного или того, кто сам готов оказаться в ее огромных космических лапах.
Завтра отправлю смс-ку с извинениями. Она ответит как всегда «приезжай».
Я мечтаю иногда найти ракету, чтобы взять сына и улететь в другую галактику.
Гриша спит, прижав к груди Плюху. У него дергается правое веко, что-то бормочет сквозь сон, нечто схожее с понятным «мама». Я поправляю одеяло, целую в лоб – чмокает губами, вздыхает тяжело, и в этом вздохе вся моя жизнь.
– Иди ешь, – шепчет мать, приоткрыв дверь.
– Не хочу.
– Я уже разогрела. Не хочет он.
Спорить бесполезно. Если мать дома, она командует парадом, в котором ты простой солдатик, замыкающий строй, чеканящий шаг под менторский барабанный бой.
Сидим молча. Я нехотя вожу ложкой и, словно в детстве, жду, когда мать начнет считать до трех. Раз-два-три… (отбивает дробь), с хлебом ешь и прожевывай. Кто долго жует, тот долго живет.
Только долго жить совсем не хочется. Да и мать ничего не говорит.
«Ну, давай: за маму, за папу». Да хоть за кого, брось хоть что-нибудь.
Важно перебирает спицами и, судя по конструкции вязки, скоро у Гриши появится новый свитер.
– Ходили в зоопарк?
Мать кивает.
– Понравилось?
Она изображает все-таки счет петель, а я разглядываю жижу супа и не знаю, что делать. Сегодня лучше не говорить. Глотаю ложку за ложкой и все норовлю ударить о край тарелки до булькающего звона – мать раздражает этот звук. Специально крошу хлеб в тарелку, чтобы бульон пропитал мякоть, смягчилась зачерствелая корочка.
– Спасибо.
– Пожалуйста.
Мою посуду. Вода жужжит, шумит и жалобно посвистывает кран. Стонет и стонет, надо бы собраться и починить, но как тут заняться ремонтом, если вся жизнь изуродована.
– Спокойной ночи, – говорю, дожидаясь прощального ответа.
Мать все молчит, сосредоточившись на свитере. А потом заявляет:
– Гришу нужно отдать в садик.
– Зачем? – не понимаю я.
Матушка оставляет спицы. Смотрит на меня в упор, и я, как школьник, отвожу взгляд, будто нашкодил в классе, завалил четверть и пытаюсь теперь как-то оправдаться.
– А затем, дорогой мой сынок, что детям нужно ходить в сад. Особенно, если у этих детей нет нормальных родителей.
Она ждет, когда стану выкручиваться, убеждая, что отец я нормальный, просто сегодня опять случилась тревога и вообще – надо понимать, что я не работаю, а служу, а интересы государства выше интересов семьи (так считает Гнусов).
Но оправдываться не собираюсь, потому что мать права.
– Ему в садике будет лучше.
– Даже если так, надо спросить Гришу.
– Надо спросить Гришу? Ты послушай себя, сыночек, ты себя послушай. А лучше самого себя спроси, как ты планируешь жить дальше.
– Нормально планирую.
Разговор не нравится ни мне, ни матери, но иногда приходится говорить, пока не кончатся слова, и не останется ничего, кроме правды.
– Планирует он. У тебя ребенок, а ты не пойми где шляешься.
– Я работал.
– Работал он, рассказывай, ага. Давно ли у вас опять начались пьянки на работе?
– Могу же расслабиться.
– Не можешь! – топает ногой. – Не мо-жешь! – шипит она, не позволяя властному голосу вырваться и разбудить Гришу. – Теперь не можешь! Теперь ты должен учиться быть отцом!
– То есть ты считаешь, что я плохой отец? – завожусь не с пол-оборота, а по праву, словно отец я самый лучший, а в тройке по математике виноват учитель.
– По-моему, ты сам знаешь, – добивает мать.
Судорожно хватается за тряпку и начинает протирать стол, смахивает пыль с покошенных дверок навесных шкафчиков, сыплет в ржавчину раковины бестолковый порошок – нам ничто не поможет, мы просто должны замолчать.
– Разумеется, – соглашаюсь, – все знаю. Думаешь, я ничего не вижу и ничего не понимаю? Да все мне понятно, – уже в голос кричу я. – Это же я виноват, мне же наплевать на Гришу. Подумаешь, Гриша. Я лучше с колдырями повожусь на работе, чем схожу с сыном в зоопарк!
– Помолчи!
– Не помолчу! Хочешь сказать, мне это нравится? Думаешь, я не устал?
– Я тебе говорю, замолчи.
– Это ты устала, что здесь непонятного? Мама, помоги. Мама, посиди с Гришей. Мама – одно, мама – другое.
Она швыряет тряпку в мусорное ведро и повторяет раз за разом:
– Воспитала, кого я воспитала, Господи. Кого я воспитала…
Закуриваю прямо в кухне. У меня припрятана пачка за хлебницей. Мать выключает свет, осторожно прикрывает дверь, которую давно пора смазать, потому что хрипит и скрипит и вот-вот развалится, как вся моя жизнь.
– Дурак, – добавляет она.
Курю в форточку. Зрелая ночь никак не пройдет. Вся тянет и тянет смоляной тоской, и звезды на этом густом полотнище блещут совсем не к месту, почти как редкие слезы на щетинистом лице взрослого мужика.