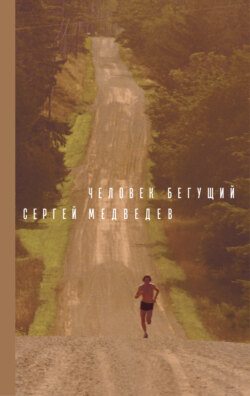Читать книгу Человек бегущий - Сергей Медведев - Страница 2
Снега былых времен
Оглавление1
В доисторические времена снег ложился ко Дню Конституции, 5 декабря. Это была еще та, сталинская конституция 1936 года, которую отмечали до 1976-го – в 1977-м была с помпой принята новая конституция «развитого социализма», и праздник сместился на 7 октября – день по-своему хороший, честный осенний день, но для лыж бесполезный.
А если до 1976-го, значит, мне не было еще и десяти лет, и каждый первый снег был для меня потрясением – да остается важным событием и сейчас, почти полвека спустя. Природа готовилась к нему за несколько дней: пейзаж за окном расстилался серый, сухой, промороженный – земля словно отдала все свои долги, причастилась и соборовалась и лежала спокойно, ожидая облачения в белые ризы. Снег начинался после полуночи: я просыпался рано от непривычной белизны за окном. Была еще ночь, но с улицы лился мягкий свет: снег летел крупными хлопьями, заваливал сквер; сквозь белую мглу расплывчатыми радужными кольцами светили фонари нашей наземной, Филевской, линии метро. Из форточки несло не холодом, а сладкой свежестью. Стоя на коленях в ночной рубашке на широком подоконнике, я прижимался носом к холодному стеклу и глядел на это чудо, пока окно не запотевало от моего дыхания.
Наутро я шел в школу по скрипучему свежему снегу, в воздухе была разлита сырость, машины на Кутузовском проспекте осторожно скатывались с моста по первой, самой опасной, наледи, и уже вышли на линию бодрые грузовички с песком. А после занятий я не оставался играть в снежки, а бежал домой, потому что было дело поважнее – отнести лыжи на просмолку в металлоремонт. Мастерская находилась в вагончике на углу у Дорогомиловского рынка, ныне модного маркета в здании современной архитектуры, а тогда обычного колхозного рынка – «блатными» в те годы считались Центральный и Черемушкинский. Внутри вагончика шла зимняя мистерия: звенел точильный камень и летели искры с лезвий коньков, шипела паяльная лампа и восхитительно пахло смолой. Я готов был стоять там часами, глядя, как клепаются и точатся коньки и засверливаются крепления, и вдыхая запах дегтя, который с той поры стал одним из любимых. Бывалые лыжники-классики всегда возят в смазочном чемоданчике две-три старые дегтярные мази, у меня тоже есть винтажные финские мази с надписью Terva, смола, и я иногда достаю их просто чтобы понюхать и вспомнить тот вагончик маталлоремонта.
Возвращался домой по Студенческой улице я уже в ранних сумерках, а снег все продолжал падать, и курили возле пожарной части спасатели в своих брезентовых робах, и таинственно блестели в глубине гаражей красные пожарные машины. В томительном ожидании проходили еще день-два, снега уже наваливало достаточно, чтобы появились первые сугробы, а карнизы оконных рам занесло. И вот наставало то самое 5 декабря, когда был намечен первый выход на лыжах. С вечера была собрана одежда: кирзовые ботинки с металлической скобой на носу под прогрессивные на тот момент крепления «ротефелла», связанные бабушкой шерстяные носки, байковые штаны с начесом (в 80-е я сменил их на джинсы, а в 90-е – на нейлоновые спортивные брюки), свитер, брезентовая штормовка и высокая шапка с красным помпоном из-под тех же бабушкиных спиц. Утром я основательно завтракал геркулесовой кашей и чаем с бутербродами, мама собирала рюкзак с термосом и сменной одеждой, и мы с ней отправлялись к метро. Лыжи были ее стихией еще со студенческих времен – всех своих друзей, поклонников, а позже моего отца, мою бабушку и меня самого с возраста пяти лет она заражала своим энтузиазмом и выводила на лыжню.
Вагоны метро уже были полны лыжников, частокол лыж доставал почти до потолка – там были вперемешку беговые и горные, в те годы они были почти одинаковой длины, под два метра, и на их носы были надеты матерчатые мешки с тесемками (в таких мы носили в школу сменную обувь) или рукавицы. Беговые лыжи сходили на «Филях» и пересаживались в электричку, а горные ехали до «Молодежной» и дальше шли пешком на Крылатские холмы, московскую горнолыжную мекку, возникшую задолго до того, как там построили сам район Крылатское.
В электричке тоже почти все ехали с лыжами: их популярность сорок лет назад сложно представить из сегодняшнего дня; может быть, лучше всего этот спортивный дух передают картины Георгия Нисского, бывшего заядлым лыжником, яхтсменом и альпинистом, или ностальгические фотографии зимних пригородных платформ, забитых сотнями лыжников. Отчасти это было наследием туристической культуры 1960-х, когда молодые люди «ехали за туманом», отчасти дело было в недоступности других видов семейного досуга, хотя почему только семейного – назначить девушке свидание на лыжне было само собой разумеющимся. Мы ехали по усовской ветке до станции с волшебным названием «Ромашково», которая известна всем детям благодаря чудесному мультфильму «Паровозик из Ромашкова», где большеглазый паровоз сходит с рельсов, чтобы собирать ромашки в окрестных полях. Места там и вправду заповедные – ни промзон, ни складов, ни садовых товариществ, только реликтовые сосновые леса, тянущиеся вдоль Москвы-реки к западу от города, что облюбовали в XIX веке богатые москвичи со своими дачами и в XX веке – большевики с партийными санаториями и домами отдыха.
Из Ромашкова лыжня шла по широким сосновым просекам. Скорее это была натоптанная тропа, по которой двигались рядом лыжники и пешеходы, лыжи по свежему снегу то и дело подлипали, рубашка под штормовкой промокала, вязаная шапка сползала на лоб, но что это было по сравнению с радостью скольжения, движения по зимнему пейзажу. Декабрьский снегопад все продолжался, с сосновых лап падали мягкие плюхи снега, шлепаясь на шапку, озорным ручейком проникая за шиворот (наверху качалась освобожденная ветка), а маленькие елочки, засыпанные снегом так, что из сугроба торчала только верхушка с парой боковых ростков, напоминали белые часовни с крестами на куполах.
Мы проходили, думаю, километров двадцать, с катанием с горки, с обязательным привалом и чаем из термоса с бутербродами, с переходом через широкое поле, где лыжи утопали в пухлом снегу, а леса по краям не было видно из-за начинающейся метели: снег залеплял ресницы и нос, лыжня терялась под ногами, и легко было себя представить полярным исследователем, что упорно торит свой путь среди торосов. Мы выходили на станцию Трехгорка главной ветки Белорусской железной дороги, когда уже начинались декабрьские сумерки. Метель прекращалась, небо розовело, а снег становился фиолетовым. Мы заходили в зал ожидания через узкую, непрестанно хлопающую дверь, которая выпускала клубы белого пара. Внутри было тепло, сыро и шумно, десятки лыжников стряхивали снег, перевязывали лыжи, изучали расписание, и по уставшему, остывающему телу проходил первый озноб. И вот, разрезая синие сумерки мощным прожектором на лбу, в клубах снежной пыли, появлялась электричка, как сказочное существо, добрый зеленый дракон, дышащий светом и теплом. Сидя в вагоне на нагретой скамейке над печкой, я протирал пальцами запотевшее стекло и смотрел, как по синему снегу несутся желтые квадратики окон. Но день удовольствий на этом не кончался: дома ждала горячая ванна с хвоей и бульон с кулебякой, которую мама готовила еще спозаранку, до того, как все встали, так что по возвращении оставалось только поставить ее в духовку.
Этим ранним поездкам с мамой я обязан своей любовью к лыжам. Позже, когда начались лыжные дни на уроках физкультуры в школе, я их ждал с нетерпением, в отличие от большинства одноклассников. Многие запасались липовыми справками о бронхите, чтобы получить освобождение от занятий на улице, а для меня это был любимый день недели, когда я шел в школу в спортивных штанах, с лыжами, на которых болтался холщовый мешок с ботинками. В классе я едва досиживал до последнего урока, когда мы гурьбой в разномастных одеждах выходили из школы и шли на набережную Тараса Шевченко позади нашего здания. Сейчас там пафосный променад с видом на небоскребы Москва-Сити, а тогда все выглядело довольно убого: серый день, слякоть, оттепель, полузамерзшая Москва-река, за которой виднелись дымы и цеха Красной Пресни, словно пейзаж из романа «Мать» Максима Горького, который мы проходили по литературе. Кривая километровая лыжня была проложена между проплешинами земли и травы, с собачьими кучами и брошенными картонками для катания с горки – но я, как охотничий пес, чувствовал только запах снега и, замерев, ждал команды на старт, чтобы начать бежать наперегонки с собственной радостью.
В те дни, когда в школе не было лыж, я вечерами катался в сквере под окнами – сейчас там проложили Третье транспортное кольцо и течет десятиполосный поток машин, а прежде у метро «Кутузовская» был маленький парк с малороссийскими пирамидальными тополями: в нашем Киевском районе и названия улиц, и монументы, и породы деревьев напоминали о соседней республике (кто бы сказал мне тогда, что через тридцать лет Россия с Украиной будет воевать!). Я протаптывал в сугробах между клумб и тополей лыжный круг длиной метров пятьсот и катал по нему по часовой стрелке, раз за разом скользя все быстрее, теряя счет кругам, сбрасывая от жара шапку и шарф, утоляя жажду пригоршнями свежего снега – бегал двадцать, тридцать, сорок кругов, до головокружения и изнеможения, и возвращался домой мокрый, счастливый, с горящими пунцовыми щеками. Не помню, чтобы я хоть раз заболел после этих вечерних забегов.
Я выигрывал тогда все школьные старты, и учитель физкультуры Василий Алексеевич вывозил меня на районные соревнования на Поклонную гору. Тогда она была еще горой, большой возвышенностью в начале Можайского тракта, с которой путники кланялись городу, а Наполеон глядел на пожар Москвы, пока неуемная фантазия Зураба Церетели не срыла ее до основания, превратив в бездушный и пафосный Парк Победы. С одной стороны там был густой лес, с другой – яблоневый сад, где и прокладывали лыжню. Там мне, туристу в вязаной шапке и в варежках, на деревянных лыжах (дровах, на жаргоне лыжников) противостояли модные ребята из спортивных школ – в обтягивающих рейтузах и олимпийках, в шапочках «петушок», на только появившихся тогда быстрых пластиковых лыжах – но и у них иногда удавалось выиграть или попасть в призы, хотя их преимущество в технике классического хода было видно невооруженным глазом. О том, чтобы мне самому пойти в лыжную секцию, не шло и речи: время было расписано между музыкальной школой в Плотниковом переулке, уроками тенниса на «Динамо» и школой юного искусствоведа при Пушкинском музее, да и мне вполне хватало моих любительских лыжных занятий – которые, как узнал я позже, и называются английским словом sport.
2
Если на лыжи меня поставила мама, то главные велосипедные воспоминания детства связаны с отцом. Я катался, сколько помню себя: по семейной легенде, как только с моего детского велосипеда сняли страховочные боковые колесики, я надавил на педали и, к ужасу взрослых, укатил прочь из вида по Третьему просеку Серебряного Бора, где мы снимали летом дачу. Потом мы жили на даче в поселке Абрамцево рядом со знаменитой подмосковной усадьбой Сергея Аксакова и Саввы Мамонтова, и там я прошел все стадии велосипедного взросления, от детского «Школьника» до подросткового «Орленка» и взрослой «Украины» с промежуточной стадией польского складного велосипеда Wigry, на манер отечественной «Камы», которая закончилась в овраге, поскольку велосипед однажды сложился на ходу. Но в настоящие поездки, велосипедные туры, брал меня отец во время летних каникул в Рузе.
В целом, участие отца в моем воспитании было случайным и эпизодическим, а когда мне исполнилось двенадцать, он и вовсе ушел из нашей семьи, женился вторым, затем третьим браком, и прошло еще лет десять, прежде чем мы нашли друг друга на почве музыки, философии и литературы (у него была энциклопедическая эрудиция и великолепная библиотека во много тысяч томов, в каждом из которых были его карандашные пометки). Но если говорить о детстве и раннем отрочестве, то его роль сводилась к тому, что он один раз в год ездил со мной в Рузу, где находился Дом творчества композиторов – мой частный детский рай.
Подобные барские усадьбы имелись у всех творческих союзов. В СССР власть благоволила к лояльной интеллигенции – художникам, артистам, музыкантам: как «инженеры человеческих душ» они несли в советской системе пропагандистскую миссию и были поставлены под неусыпный идеологический контроль, но также – и на особое довольствие. Творческим союзам – писателей, архитекторов, кинематографистов, журналистов – были положены престижные жилые дома в центре Москвы, дачные поселки, знаменитые московские клубы – ЦДЛ, Дом кино, Дом композиторов – а также дома творчества, построенные в самых живописных местах страны. Союз композиторов располагал особо богатой сетью таких усадеб – дома творчества были в крымском Мисхоре и в абхазском Сухуми, в грузинском Боржоми и в армянском Дилижане, в латышской Юрмале и в литовском Друскининкае. Был Дом композиторов на живописной окраине Иванова, среди полей, со своей мясо-молочной фермой и кувшинами парного молока с вечерней дойки. Ленинградцы ездили в Репино на Финском заливе или в Сортавалу на Карельском перешейке, где Дом творчества располагался в бывшей даче Маннергейма.
А у москвичей была Руза – большой участок леса на высоком берегу над Москвой-рекой недалеко от города Рузы по Можайскому шоссе, где среди сосен были построены три десятка дач – деревянные домики в финском стиле, с уютными спальнями, кабинетами с роялем, с летней террасой и большим дровяным сараем. Каждое утро туда приходили горничные, убирались, взбивали перины, топили печи – и трижды в день композиторы и их семьи сходились в столовую на завтрак, обед и ужин, где официантки (их называли «подавальщицами») в накрахмаленных фартуках разносили заказанные накануне блюда. Для многих композиторских семей они были кем-то вроде нянек и знали их уже в третьем поколении – у нас была официантка Нина, которая помнила меня с годовалого возраста и каждое лето привычно ахала, как я вырос. Еще был буфет, где полная румяная буфетчица Дуся продавала боржом и прочий дефицитный товар, от сервелата до икры – впрочем, ее могли себе позволить только богатые композиторы-песенники. Еще на территории были медпункт, библиотека, биллиардная, теннисный корт, который зимой превращался в каток, и маленькие домики-«творилки», где стояли рояли классом повыше, чем в дачах, Petroff или Blüthner, и куда композиторы могли уходить от семейного шума. Незапланированным бонусом к этому великолепию была раздвоенная сосна в форме лиры, что росла возле одной из «творилок» на развилке аллей.
С утра мы катались на лодке – лодочник оставлял для нас пару удобных, хорошо сбалансированных весел, и я греб вверх по течению до Устья – места, где в Москву-реку впадала река Руза – а на обратном пути складывал весла и плыл по течению, лежа на скамье и глядя на июльское небо с трехмерными кучевыми облаками, похожими на фантастических животных. Лодку иногда заносило в тихие заводи, заросшие кувшинками, где сновали водомерки и зависали над водой стрекозы; я набирал несколько цветов – их толстые сочные стебли уходили далеко в глубину, крепко сплетались друг с другом, и, вытягивая их, я рисковал перевернуть лодку – но дома, поставленные в воду, они быстро чахли и умирали без родной реки. А у высоких берегов, на стремнине, лодку несло быстро вдоль глинистых обрывов с гнездами ласточек-береговушек, которые заполошно влетали и вылетали из своих нор.
После обеда был тихий час, и я лежал в комнате, полутемной от густого леса за окном, слушая одинокие голоса птиц, следя за тенями листьев на потолке. В пять был полдник в столовой, крепкий медный чай из самовара с теплой, свежевыпеченной сдобой, и наступало время тенниса. Отец был не столько сильным, сколько техничным и точным игроком; в юности он занимался у известного московского тренера Вадима Небурчилова. А я, как и в других видах спорта, тоже не занимался в секции, но брал уроки у легендарной динамовской теннисистки Нины Николаевны Лео, многократной чемпионки Союза в 1930-х—1940-х, подготовившей множество знаменитых игроков, включая Анну Дмитриеву. Нина Николаевна была тренером и другом семьи в трех поколениях, давала уроки моей бабушке, затем маме, и, наконец, мне. Думаю, что в лучшие свои годы я играл на уровне второго разряда – в целом, это был приличный дачный теннис, и хотя мне было всего 10—11 лет, мы с отцом составляли боеспособную пару, дольше других остававшуюся на корте в игре по кругу с выбыванием. Помимо самой игры, в теннисе мне нравился ритуал: рукопожатия, переигрывание спорного мяча, извинения за случайно выигранный мяч, задевший трос и изменивший направление – и даже уборка корта между сетами: сначала разравнивание грунта, по которому протаскивали кусок сетки на перекладине, затем заметание линий щеткой – я обычно всегда вызывался делать это.
Но венцом ежедневной программы была вечерняя поездка на велосипедах. Поужинав, мы садились в седла – отец на «Украину», я на «Орленок» – и выезжали из ворот Дома творчества, спускались до шоссе, Большой «бетонки», переезжали мост, в Старой Рузе сворачивали направо и дальше ехали проселками вверх по течению Москвы-реки через поля и деревни (до сих пор помню их названия – Кожино, Полуэктово, Кузянино и Аникино, дальняя точка наших маршрутов), где отец показывал мне детали деревенской жизни. Он был музыкантом широкого профиля – критиком, оперным либреттистом, историком джаза, – но главной его страстью был фольклор: как председатель Фольклорной комиссии Союза композиторов он ездил с экспедициями по Русскому Северу, Вычегде, Печоре и Шексне, выискивал последних носителей традиции, собирал напевы и частушки (помню, его коллекцией матерных частушек живо интересовалась Лиля Брик, которой было уже далеко за 80), и оттуда, как мне кажется, шло его интеллигентское народничество – как и все шестидесятники, что в XIX, что в ХХ веке, он искал правду в толще народной жизни, высоко ценил «деревенщиков», ездил на фестивали в есенинское Константиново и шукшинские Сростки. В позднесоветской деревне он искал признаки умирающей крестьянской цивилизации: показывал мне типы срубов и наличников, учил прибауткам («домик-крошка в три окошка»), заговаривал со старушками на завалинках, непременно останавливался напиться из колодца, хотя уже тогда я смутно понимал придуманность и этнографичность этого интереса.
А мне больше нравилось в полях, где колосилась рожь с васильками, а к концу июля поспевала кормовая кукуруза – другая в наших широтах и не вырастает, зато можно было полакомиться молочной спелости початком, высасывая из него белый сок. Вечерело, над полем начинали со свистом чертить стрижи, солнце неумолимо закатывалось за лес, на блеклом небе появлялся месяц. От реки поднимался туман со сладким запахом травы и горечью полыни; скоро он заволакивал всю пойму, скрадывая очертания прибрежных ив, глуша далекий лай собак. Мы усердно крутили педали в сизой полумгле, только поскрипывали на ухабах рама и пружины седла, да подрагивал звонок на руле. Когда окончательно темнело, мы включали фонарики, питавшиеся от динамомашины на вилке переднего колеса, и приезжали домой уже ночью, пропустив вечерний кефир в столовой. Счетчик километров тоже был механический, там, в окошке, будто в старом кассовом аппарате, выползали цифры, и однажды они показали вожделенную цифру 50 километров.
Засыпая ночью, я ложился поверх жаркого одеяла, вспоминая уходящий день всем телом, всеми мышцами, обгоревшим носом, волдырями на ладонях: блики солнца, скрип уключин и журчание воды у носа лодки, толчками движущейся против течения, глухой удар мяча о грунтовый корт и звонкий – о нейлоновые струны, молочную прохладу тумана и слепое пятно велосипедного фонарика. Наверное, именно тогда я научился памяти тела, тому, что не только глаза, нос и уши, но все оно дано мне в качестве органа осязания, инструмента для открытия мира.
3
И, наконец, был бег. Я бегал всегда, сколько себя помню; как уверяет мама, я побежал раньше, чем пошел. Бежать было таким же естественным действием, как дышать, говорить, смеяться; в младших классах я учился в школе возле гостиницы «Украина», километрах в трех от нашего дома, ехать туда было четыре остановки на автобусе или троллейбусе, но в погожие осенние или весенние утра меня так переполняла жажда движения, что пару остановок я бежал, чувствуя, как за спиной в ранце, словно шары в барабане «Спортлото», что показывали на ТВ по субботам, прыгают учебники и пенал. Современные психиатры наверняка диагностировали бы синдром гиперактивности, вкупе с дефицитом внимания, но по счастью в моем детстве их не было; как в известном анекдоте про дочку Фрейда, видевшую во сне банан, – «бывают и просто сны», а я просто бежал. Иногда я начинал прямо от подъезда. Мама позже рассказывала, что смотрела с балкона и не успевала даже позвать бабушку, как я уже скрывался в паре сотен метров за углом, на Кутузовском проспекте.
Я бежал широкими шагами, далеко выкидывая вперед свои непропорционально длинные ноги, а в голове у меня были картинки с телевизора: кубинец Альберто Хуанторена, выигравший золото на дистанциях 400 и 800 метров с мировым рекордом на Олимпиаде 1976 года в Монреале. Еще у меня были в кумирах британцы Себастьян Коэ и Стивен Оветт, приехавшие на Олимпиаду 1980 года в Москву, несмотря на бойкот – но размашистый бег Хуанторены меня впечатлял больше всего: высокорослый, 190 сантиметров, смуглый атлет бежал в длинных черных гетрах немыслимыми трехметровыми шагами, и в своих снах я хотел бежать так же.
На физкультуре в школе, как и с лыжами, я любил дни с легкой атлетикой, прыжки в длину и в высоту, забеги на набережной. Сам я тоже больше рос в высоту, чем в ширину – худым и длинноногим, и однажды в четвертом классе, в возрасте 9 или 10 лет, прыгнул в длину на 4 с половиной метра, перелетев через два мата и изумив физрука, который долго ходил с рулеткой и качал головой. После этого в школу пришел тренер из спортшколы и долго уговаривал меня пойти в секцию, но мне и в голову не могло такое прийти: бег, прыжки – это часть обычной жизни, зачем из этого делать специальность?
Сегодня, много лет спустя, я думаю, что из меня мог бы выйти неплохой средневик, как минимум мне поставили бы технику бега, которой мне так не хватает сейчас, но что теперь жалеть. В те годы я бежал на голом энтузиазме и генетике – ни выноса бедра, ни захлеста голени, ни постановки стопы под себя – и однако семнадцатилетним, на первом курсе МГУ, выбегал в простых кроссовках километр из 3 минут на дорожке стадиона на Ленинских горах без тренировки и разминки. Теперь мне это кажется отличным достижением для любителя (хотя даже недотягивает до 2-го разряда по легкой атлетике), а тогда я этого не понимал, и, сдав зачет и выйдя со стадиона, закуривал (увы, в те годы я курил) и отправлялся с однокурсниками пить пиво – обычная студенческая жизнь.
Еще в школе, в старших классах, начались мои ночные пробежки. Это случилось само собой, никто меня не звал, не мотивировал. Учебная нагрузка тогда возросла: помимо занятий в школе я ходил к репетиторам по английскому, математике, русскому языку – я хотел закончить школу на «пятерки» и сразу поступить в МГУ, не угодив в армию; хотя я пришел в первый класс в возрасте шести лет и у меня был в запасе еще год до восемнадцатилетия, шла война в Афганистане, и ребята годом-двумя постарше, не поступившие в вуз, прямиком отправлялись в это пекло. Не то чтобы я лез вон из кожи – учился я с удовольствием, даже по предметам типа математики, которые сразу после выпуска благополучно забыл, но нагрузка была серьезная, по двенадцать часов в день, а весной, перед экзаменами, и того больше. К 11 ночи я чувствовал, как мозг отказывается принимать новую информацию, вставал из-за стола, брал беговую обувь – дефицитные лицензионные «адидасы», которые появились в продаже к Олимпиаде-80: они с первого же раза красили светлые носки синим или черным, но выбирать тогда не приходилось – либо они, либо китайские кеды, либо футбольные бутсы со спиленными шипами – и выходил из дома в ночной город, в теплую весеннюю ночь с запахом тополиных листьев.
Я пересекал Кутузовский проспект по подземному переходу, освещенному мертвым голубым светом, пробегал мимо большого сталинского дома с тяжелой лепниной, знаменитой номенклатурной «тридцатки» (Кутузовский, д. 30), и ноги выносили меня на набережную возле городошной площадки, где днем отставные партийные работники в пузырящихся трениках метали биту, выцеливая «колодец» или «бабушку в окошке», а ныне стоит Театр Петра Фоменко. Я бежал вдоль реки, пахшей тиной и мазутом, в маслянистых отблесках фонарей; пробегал мимо домов советской элиты на четной стороне Кутузовского (в доме № 26 жили Брежнев и Андропов), мимо пивного завода имени Бадаева, старой фабрики красного кирпича, которая глухо шумела, дымила и сливала в реку пахучую жидкость неизвестного происхождения – я почему-то думал, что это забракованное пиво. Я бежал мимо гостиницы «Украина», рядом с которой была стоянка большегрузных фур из соцлагеря – болгарских, румынских, венгерских, – где неслышными тенями двигались фарцовщики, скупавшие у водителей дефицит, и валютные проститутки; пробегал под метромостом у «Смоленской», мимо ярких огней Киевского вокзала и гулких объявлений из репродуктора на сортировке, мимо дымов ТЭЦ-12 на Бережковской набережной, пересекал фабричную речку Сетунь, выливающуюся из трубы коллектора, – и оказывался в зеленых объятиях Ленинских гор. Там деревья были статны и самодостаточны, зелень привольна и свежа, и уходила вдаль по набережной цепочка ярких, безупречных фонарей.
Я добегал до станции метро «Ленинские горы» и возвращался тем же путем обратно – только Кутузовский был уже пуст, и я перебегал его поверху. Получалось километров 25, чуть меньше двух часов. В те годы мне и в голову не приходило, что может быть небезопасно бегать в час ночи одному по пустым набережным. Вернее, быть может, опасность и была, но я чувствовал, что это не я погружаюсь в стихию ночи, пустого города, мигающих светофоров – но что я сам часть этой стихии.
Вернувшись домой, приняв душ и опустошив половину холодильника (я брал его методично, полку за полкой), я садился за чтение или за экзаменационные билеты. В пятом часу начинало светать, и я выходил посмотреть на рассвет на лестничную клетку, на верхний, девятый, этаж. Окна ее выходили на восток, и встающее передо мной солнце окрашивало розовым крыши Кутузовского, шпили высоток, золотой купол Ивана Великого. Подавали голос птицы, и деревья шелестом листвы приветствовали новый день. И одновременно с тем, как солнце заливало светом просыпающийся город, у меня в груди росло ожидание нового, важного, предвкушение больших событий, далеких горизонтов. Вспоминая сейчас эти дни, когда я стоял на пороге взрослой жизни, я думаю, что у меня, наверное, было счастливое детство, хотя и не знаю, по какой шкале мерить счастье. Одно я понял точно – кроме книг и мыслей, которые они рождают, кроме юношеских текстов, которые я писал десятками страниц, захлебываясь словами, кроме осознания конечности бытия, своего и своих близких, которое в этом возрасте уже пришло и было пережито и принято как неизбежность – мне было дано еще собственное тело, которое может перемещаться в пространстве на многие километры, дана радость движения, что искупает все жизненные проблемы и невзгоды: в любое время дня и ночи надо просто взять кроссовки, какие бы они у тебя ни были, выйти на улицу и начать бежать, и все остальное приложится, встанет на место.