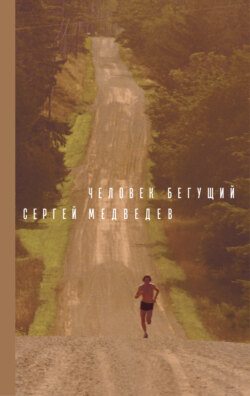Читать книгу Человек бегущий - Сергей Медведев - Страница 4
Рождение героя
Оглавление1
26 апреля 1336 года 31-летний поэт Франческо Петрарка вместе со своим младшим братом Герардо и двумя слугами предпринял восхождение на гору Мон-Ванту в Провансе, «движимый только желанием увидеть ее чрезвычайную высоту». Они стартовали до восхода солнца из деревни Малосен у северных отрогов одиноко стоящей двухкилометровой горы, получившей название «Гигант Прованса» или «Лысая гора», поскольку верхняя часть ее – голый известняк без растительности и деревьев, из-за чего она кажется покрытой снегом круглый год. На деле снег лежит до апреля, и в тот год он сошел лишь пару недель назад, открыв бесплодный каменистый горб, вознесшийся над долиной Роны.
«Долгий день, ласковый ветер, душевная бодрость, телесная крепость и ловкость были на стороне путников, – писал Петрарка в письме своему духовнику августинскому монаху Дионисию из Борго Сан-Сеполькро, – против нас была только природа местности». На пути наверх путешественники встретили старого пастуха, который принялся их отговаривать от восхождения, вспоминая, как сам лет пятьдесят назад поднимался на гору в таком же порыве юношеского задора и ничего оттуда не вынес, кроме раскаяния, усталости и изодранных камнями и колючками тела и одежды, причем никогда ни прежде, ни позднее не было у них слышно, чтобы кто-то решился на подобное. Отчаявшись отговорить братьев от их намерения, пастух прошел с ними немного и указал на крутую тропинку между отвесных камней. Братья продолжили восхождение, при этом Герардо упорно шел по крутому гребню горы, а Франческо искал более пологие участки, но всякий раз лишь петлял, и ему приходилось нагонять брата.
Ближе к закату, добравшись, наконец, до вершины, они нашли там небольшую площадку и застыли в ошеломлении, «взволнованные непривычным веянием воздуха» и открывшейся панорамой: облака остались под ногами, и они увидели долину Роны, Марсельский залив и горный хребет Севенны. В этот момент Петрарка, как он написал позже, достал карманный томик «Исповеди» Блаженного Августина, открыл его наугад и наткнулся на то место в Книге Десятой, где тот рассуждает о памяти: «И люди идут дивиться горным высотам, морским валам, речным просторам, океану, объемлющему землю, круговращению звезд, – а себя самих оставляют в стороне!»2. На обратном пути Петрарка умолк, размышляя о тщете человеческих желаний и благородстве чистой мысли. Стемнело, дорогу путникам освещала высокая луна. Вернувшись в деревню глубокой ночью после восемнадцатичасового пути, он, по собственному признанию, первым делом бросился за стол и записал свои впечатления в письме духовнику, из которого мы, собственно, и знаем об этом восхождении.
Сегодня исследователи сомневаются, что Петрарка действительно сел писать это письмо в шесть тысяч слов на изящной латыни, с точными цитатами, еще до ужина, сразу после многочасового похода. Несомненно, что он не был первым человеком на вершине – на Мон-Ванту поднимались и в языческие времена, и позднее местные жители, а парой лет ранее там побывал французский философ Жан Буридан (автор того самого парадокса про осла – человек, по всем свидетельствам, подвижный и любознательный, недаром молва приписывает ему любовные отношения с Маргаритой Наваррской) по пути в папский двор в Авиньоне, чтобы произвести на горе метеорологические наблюдения. Более того, ставят под сомнение сам факт, что Петрарка поднимался на вершину: учитывая, что на деле это письмо было написано и опубликовано полтора десятка лет спустя после предполагаемого восхождения и через десять лет после смерти его адресата, монаха Дионисия, возможно, что Петрарка придумал этот рассказ, чтобы изложить свои сокровенные мысли.
Однако не столь уж и важно, состоялось ли это восхождение в действительности: история Петрарки стала одной из точек отсчета Нового времени – осознание человеком пейзажа, переживание природы как ландшафта собственной души. В классическом труде «Культура Италии в эпоху Возрождения» Якоб Буркхард назвал Петрарку «подлинно современным человеком», открывшим значение природы для его «восприимчивого духа». Поэт поднялся на гору для удовольствия, без определенной практической цели – because it is there, «просто потому, что она есть», как ответил Эдмунд Хиллари на вопрос, зачем он отправился на Эверест; и хотя некоторые историки культуры называют Петрарку первым альпинистом, это будет некоторой натяжкой, тем более что Мон-Ванту стоит вдалеке от Альп.
Без малого семьсот лет спустя я повторил его восхождение, совершив велосипедное паломничество на легендарную гору. Мон-Ванту обладает особым статусом в велоспорте, наряду с Альп д’Юэз, Стельвио, Мортироло и еще пятью—шестью перевалами, и, несмотря на то, что крутизна подъема не запредельна, средний крутизна его менее 8%, он, возможно, самый грозный из великих перевалов, и причина тому – ветер, который и дал горе ее название, Ventoux, ветреная. Хребет, одиноко стоящий среди равнины Прованса, притягивает все ветры, и самый свирепый из них, мистраль, дующий с северо-запада в сторону моря и выворачивающий с корнем деревья, так что многие из них в Провансе наклонены к югу. На верхней части Ванту ураганные порывы достигают 320 километров в час, но это рекорд, хотя и в обычные дни, восемь месяцев в году, ветер дует со скоростью 90 километров в час, из-за чего дорога наверх часто бывает закрыта. Другая особенность горы – ее каменистый лунный пейзаж, который возник в результате вырубки лесов для нужд французского флота на верфях в Тулоне в полусотне километров к югу: в этом безжизненном пространстве гонщик открыт всем стихиям и уязвим. Тур де Франс регулярно заезжает сюда с 1951 года, и Ванту помнит победы Раймона Пулидора, Эдди Меркса, Бернара Тевене, Марко Пантани в легендарной дуэли с Лэнсом Армстронгом, Криса Фрума и Томаса де Хендта в 2016 году, когда из-за сильного ветра финиш устроили на шесть километров ниже вершины, у горнолыжной станции Шале Рейнар.
Я стартовал рано утром из Арля, на окраине болот Камарг в дельте Роны, миновал Авиньон и к полудню был в Бедуэне, откуда начинается классический 21-километровый подъем с юга. У подножья стояла июльская жара, под палящим солнцем замерли виноградники, гора дрожала в мареве, словно облитая жидким стеклом. На первых километрах дорога еще полога, проходя в густых смешанных лесах, со средиземноморской сосной, дубом и грабом, сил в ногах много, и, читая на густо расписанном асфальте имена своих кумиров гонщиков, ты понимаешь, что приобщаешься к легенде. К середине подъема лес редеет, меняясь зарослями можжевельника, и градиент растет, доходя до двузначных цифр – 12 и местами 15%. На дороге появляются столбики, отмечающие километры до вершины и среднюю крутизну каждого, а навстречу скатываются велосипедисты в ветровках и утеплителях, заставляя удивляться: кому они нужны в тридцатипятиградусной жаре?
Но вот растительность кончается, и я выезжаю на лунный пейзаж с голым известняком и россыпями камней. На открытом месте сразу бьет в лицо холодный порыв ветра, напоминая, что высота уже далеко за 1000 метров. Впереди, между рваных облаков, видна красно-белая телевышка, между мной и ней – километры бесплодной, бездушной пустыни. В дни этапов Тура на этих склонах стоят сотни тысяч болельщиков, но сегодня они пусты, и лишь на поворотах расположились продавцы воды и фотографы, делающие снимки медленно ползущих вверх велосипедистов вроде меня и заботливо кладущие в задний карман джерси свою визитку с адресом сайта, чтобы мы позже могли купить у них фото. Ветер становится все сильнее и холоднее, треплет тебя из стороны в сторону, едва не опрокидывая велосипед, и я вспоминаю рассказы о том, что легких гонщиков-«горняков» здесь иногда попросту сдувает, но моих 75 килограммов и силы мышц хватает, чтобы стоя в седле бодаться с гудящей стеной ветра.
После Шале Рейнар крутизна немного отпускает, и можно перевести дух и поднять голову – вышка кажется все так же далеко, но уже чувствуется ее притяжение. Мы минуем гранитную плиту – памятник 29-летнему британскому велогонщику Тому Симпсону, погибшему здесь 13 июля 1967 года, на 13-м этапе Тура от обезвоживания и теплового удара: на вершине в тот день было свыше 50 градусов. Он упал в первый раз, но был в сознании и просил посадить его на велосипед, чтобы он смог продолжить. Его водрузили в седло и растолкали, но он продолжал ехать зигзагами и через сотню метров рухнул уже без сознания, впал в кому и через три часа умер в больнице Авиньона. В его крови обнаружили алкоголь (он глотнул коньяка в придорожном баре перед подъемом – гонщики в те годы сами забегали в кафе за напитками) и амфетамины: именно они позволили ему отодвинуть болевой порог и заглушить сигналы организма, молившего о пощаде. У памятника лежат вымпелы велоклубов и бачки с водой, которой Тому не хватило на последних трех километрах подъема. По велосипедной традиции оставляю бачок с остатками изотоника и я, вершина близко, и я уже знаю, что доеду – или дойду: известны случаи, когда из-за ураганного ветра велосипедистам приходилось одолевать последние сотни метров пешком.
Ко мне гора была милостива, ветер продолжал дуть сильно, но ровно, как в аэродинамической трубе, после разворота дороги на 180 градусов я рывком одолел финишный торчок, знакомый по стольким кадрам, – иногда из-за крутизны последних метров и встречного ветра победитель даже не может традиционно вскинуть руки, и его подхватывают волонтеры – остановился и огляделся окрест. Равнина была затянута знойной дымкой, на востоке виднелись снежные хребты Альп, на юге оловянно поблескивала гладь Марсельского залива, над которым из черных туч шел дождь. Я пытался представить те мысли и чувства, что испытывал путешественник семь веков назад, неважно, был ли это Петрарка или Буридан, и, подобно поэту, пришел к мысли о безграничности человеческого духа, который может в одной точке соединить пространство и время, и поскольку у меня не было с собой карманного издания «Исповеди», то достал свой старенький мобильный телефон, одну из первых моделей с камерой и сделал фото. Обнаружив недавно этот снимок в архивной папке компьютера, я увидел лишь мутное, размытое пятно в плохом разрешении; в этом смысле память – более надежный союзник.
Большой термометр на метеостанции показывал +7, на 30 градусов холоднее, чем внизу, меня начал колотить озноб, и я пошел внутрь, чтобы выпить чашку шоколада в кафе и утеплиться для спуска: теперь я понимал, почему так одевались велосипедисты, ехавшие навстречу. Спуск с горы в сторону Малосена оказался широким и раскатистым, повороты все хорошо читались, и можно было распустить велосипед до 80 километров в час. На полпути вниз внезапно начался густой сосновый лес, замелькали тени на асфальте: я словно попал в горячую хвойную ванну, так что пришлось спешно останавливаться и снимать лишнее. Я влетел на скорости в сонный Малосен, объехал хребет Ванту против часовой стрелки и направился в сторону холмов Люберона, где пейзаж был спокоен, умиротворен и облагорожен тысячелетиями труда. В полях уже отцвела лаванда, оставив аккуратные бурые грядки, и на вершинах холмов расположились средневековые деревни – словно защитники крепости, плечом к плечу, на склонах стояли по кругу каменные дома, обороняясь от мавров, каталонцев, жары, мистраля, времени. История в них застыла, и когда я, буксуя на крутых мощенных камнем улочках, заезжал туда набрать в фонтанчике воды, то на пустых, уснувших площадях с наглухо закрытыми ставнями мой велосипед был единственным свидетельством современной эпохи.
Где-то между Руссийоном и Боньё, признанными «одними из самых красивых деревень Франции», я ехал на закате среди полей, остывающих от дневного жара, шелеста трав и неумолчного стрекота цикад, как вдруг все резко затихло, природа замерла. Я остановился и в недоумении огляделся вокруг. Прямо на меня на бреющем полете бесшумно летела тройка истребителей. Черными птицами, затмевая солнце подобно всадникам апокалипсиса, «Миражи» беззвучно пронеслись над верхушками деревьев на юг, к базе французских ВВС в Марселе, и следом за ними, раздирая небо, обрушился невыносимый грохот, заставив меня пригнуться, бросить велосипед, закрыть уши. И я подумал, в очередной раз за этот день, как велик гений человека и как порой страшны дела его.
Самолеты скрылись, природа очнулась от ужаса, и поначалу робко, а потом все громче и радостнее продолжила праздновать окончание долгого жаркого дня.
2
Взбирался ли Петрарка на Мон-Ванту или вообразил это в порыве вдохновения – горы еще долгие века оставались для человека преградой и источником опасности, с обрывами и пропастями, где обитали тролли и заблудшие души. Ходить по горам, тем более восхищаться ими казалось странным; легенды рассказывали об охотниках и пастухах, которые терялись в ущельях и на горных кручах, пропадали насовсем или объявлялись годы спустя в виде призраков. Европейский пейзаж, который стал развиваться со времен современника Петрарки Джотто, подступался к горам осторожно: поначалу они были фоном к сюжетам священной истории, аллегорией божественного – или опять-таки символом опасности, преодоления, как в образах бегства святого семейства в Египет или у святого Иеронима в пустыне. Отношения человека и пейзажа впервые заявлены у Леонардо, в скалистом ландшафте за спиной Моны Лизы: он написан в манере «сфумато» – расплывчатым, голубовато-зеленым, словно под водой или во сне; неясность этого горного пейзажа, его ускользающая светотень так же загадочны, как и полуулыбка Джоконды.
Еще более интимные отношения с пейзажем сложились к северу от Альп: одним из пионеров горного пейзажа считается немецко-швейцарский художник Конрад Витц, живший в первой половине XV века в Базеле и изображавший снежные пики во многих своих работах, например, в алтаре собора Святого Петра в Женеве; а столетие спустя в холстах и гравюрах Альбрехта Альтдорфера и других представителей «Дунайской школы», объединившей Австрию и Баварию, появляется и чистый пейзаж как объект созерцания. В Нидерландах в это же время появляется тип композиции под названием Weltlandschaft, «панорама мира» – воображаемый панорамный вид с горами и низинами, строениями и маленькими фигурками людей, словно видимый с возвышенности: именно такой взгляд характерен для Питера Брейгеля-старшего, например, в «Охотниках на снегу», где за типичным голландским пейзажем вдруг встают фантастические высокие горы.
Идиллический пейзаж периода классицизма, где горы становятся декоративной кулисой, аллегорический пейзаж эпохи барокко, стремившийся передать отношения людей через бурную жизнь стихий, уступают место естественному идеалу эпохи Просвещения, экологической утопии Жана-Жака Руссо, утверждавшего, что природа – это свобода. Наступило время сентиментализма и романтизма, где герой может излить душу природе и в ней же почерпнуть жизненную силу. Манифестом новой эпохи становится Der Wanderer – «Странник над морем тумана» немецкого романтика Каспара Давида Фридриха.
Молодой человек, в котором по растрепанной светлой шевелюре угадывается сам художник, взошел на вершину и, стоя спиной к зрителю, смотрит на расстилающийся под ногами горный ландшафт, затянутый клочьями тумана. Перед ним расщелины и хребты, поросшие деревьями; горизонт проясняется, туман поднимается. Как и во многих картинах Фридриха, мы входим в пейзаж через фигуру странника, одинокого человека, созерцающего ландшафт, но здесь он представлен более фактурно, является центром композиции: романтический герой, гордый и сильный, смотрит на горы взглядом равного, буря чувств в его душе соизмерима со стихией перед ним, он признает ее величие, но одновременно бросает ей вызов, в нем чувствуется фаустовский дух исследователя.
«Странник» был написан в 1818-м. Наполеон доживал последние годы в ссылке на острове Святой Елены, но фермент свободы бродил по миру: Симон Боливар завершал освобождение Южной Америки от испанского господства, в России был создан «Союз благоденствия», из которого впоследствии вышло движение декабристов. В Британии выходили последние песни «Чайльд-Гарольда», воображение Европы захватил байронический типаж, провозгласивший свободу тела, мысли, поведения и непочтительность к любой власти. Эпоха романтизма явила нового героя-одиночку, покорителя стихий и сердец, свободолюбивого и готового бросить вызов правителям, вступиться за угнетенных – лорд Байрон защищал восстание луддитов и права женщин, испанских крестьян и греческих повстанцев.
Важной составляющей этого образа была телесная крепость, смелость и ловкость, которые герой должен был проявить не только в бою, как в рыцарском идеале прошлых веков, но в испытаниях и приключениях. Тот же Байрон прославился тем, что переплыл Дарданеллы, что впоследствии считал своим самым большим достижением: „I plume myself on this achievement more than I could possibly do on any kind of glory, poetical, political or rhetorical“3.
Рожденный хромым, со склонностью к полноте (говорят, что в 17 лет он весил больше 100 килограммов при росте 172 сантиметра), он решил преобразить свое тело, занявшись в Кембриджском университете плаванием – и стал одним из лучших пловцов своего времени, без труда проплывая по 8–10 километров. В своем первом зарубежном путешествии, двухлетнем гран-туре по Средиземноморью в 1809–1810 годах, он посетил Испанию и Португалию, Албанию, Грецию, Турцию и Малую Азию, – и там же совершил свой легендарный заплыв.
Дарданеллы, который древние греки называли Геллеспонтом – это узкий и бурный пролив между Европой и Азией, соединяющий Эгейское и Мраморное моря. Из-за разной солености Средиземного и Черного морей здесь существуют два течения, поверхностное, с опресненной черноморской водой, идущее вдоль европейского берега из Мраморного моря в Эгейское, и придонное течение, с более соленой и плотной водой, идущее в обратном направлении. Из-за множества бухт в проливе возникают водовороты, а сильный ветер постоянно поднимает волну. В самом узком месте, между европейским Сестосом и азиатским Абидосом, всего полтора километра, но из-за сильных течений плавание здесь крайне опасно. В античном мифе юный Леандр из Абидоса полюбил Геро, жрицу Афродиты, жившую на другом берегу, в Сестосе, но их любовь должна была оставаться тайной. Каждую ночь Геро зажигала огонь на башне, и ее возлюбленный переплывал пролив, ориентируясь на этот свет; но однажды в бурю пламя погасло и Леандр сбился с пути. Наутро его тело прибило к ногам Геро, и в отчаянии она бросилась в море с башни.
Эта легенда, воспетая Овидием и Шиллером, а также Кристофером Марло в своей знаменитой эротической поэме, была, несомненно, хорошо известна Байрону, и он решил покорить Геллеспонт в том же самом месте, чтобы доказать, что заплыв Леандра был вполне возможен и история двух возлюбленных – не миф. Первая попытка состоялась в апреле 1810 года, но из-за сильного течения и холодной воды заплыв был остановлен. Вторая попытка была удачной: 3 мая 1810 года лорд Байрон и лейтенант Королевского флота Уильям Экенхед переплыли Дарданеллы в сопровождении лодки, и хотя расстояние между двумя берегами по прямой составляет полтора километра, пловцы из-за сильного течения проплыли более шести. Плыли они брассом – кроль пришел в Европу лишь в середине XIX века от американских индейцев, но еще долгое время считался «варварским» стилем – при этом Байрон истратил 1 час 10 минут, а Экенхед был на 5 минут быстрее, хотя об этом факте Байрон впоследствии упоминал весьма расплывчато. В любом случае, это было выдающееся достижение: сегодня рекорд на том же маршруте (вольным стилем и в гидрокостюме) составляет 48 минут. Байрон этим по праву гордился и даже упоминал в своем «Доне Жуане»: описывая, как его герой плавал в родном Гвадалквивире, поэт без ложной скромности замечает:
He could, perhaps, have passed the Hellespont,
As once (a feat on which ourselves we prided)
Leander, Mr. Ekenhead, and I did 4.
Герой-романтик и герой-покоритель рождался и как герой-атлет, для которого его физические достижения и рекорды были ничуть не менее важны, чем успехи на военном, политическом или поэтическом поприще – новой эпохе нужно было новое, спортивное тело.
3
С заплыва Байрона началась эпоха плавания на открытой воде – пловцы по всему миру покоряют реки, озера и проливы: Гибралтар и Ганг, холодный Иссык-Куль и Мессинский пролив на Сицилии, Байкал и пролив Кука в Новой Зеландии, известный своей холодной водой и акулами (британец Адам Уолкер рассказывал, что во время заплыва рядом с ним постоянно были дельфины, которые отгоняли акул), Берингов пролив (американка Линн Кокс пересекла его в пятиградусной воде) и, конечно, 35-километровый Ла-Манш, плавание в котором превратилось в отдельную дисциплину. С первого пересечения пролива в 1875 году в Кале или в Дувре финишировали почти 2 тысячи человек возрастом от 11 до 73 лет, причем у некоторых этот путь из-за течений удлинялся до 105 километров, которые англичанке Джеки Кобелл пришлось плыть почти 29 часов.
И, конечно, вслед за Байроном пловцы преодолевают пролив между Европой и Азией – только не Дарданеллы, а Босфор, в самом сердце Стамбула, между мостами Султана Мехмеда Фатиха и Босфорским мостом. Заплыв через Босфор проходит каждый год в июле уже тридцать лет и считается входным билетом в мир большой воды. Нередко говорят, что переплыть пролив может каждый, умеющий плавать и не боящийся открытой воды, но Босфор не так прост, как кажется. Трудности все те же, что были во время заплыва Байрона: три разнонаправленных течения, одно по центру и два других вдоль берегов, волны и ветер. Но главное, что он проходит в Стамбуле, самом бурлящем и ностальгическом городе мира, где сходится мощь двух континентов, двух мировых религий – и одновременно оседает пыль веков, античной, византийской, османской, кемалистской эпохи, где тени прошлого населяют запущенные ялы, виллы османской знати, смотрящиеся в свое отражение на воде, и где в дух города, по словам его сегодняшнего певца Орхана Памука, входит «хюзюн»: печаль, тоска по минувшему.
Собственно, книги Памука, что привили мне любовь к этому городу и ностальгию по чужому прошлому, и привели меня на старт этого заплыва – мне нравилась идея увидеть Стамбул с воды, из той стихии, которая его и создала: «Здесь, в сердце огромного, древнего и осиротевшего города, живет свобода и сила глубокого, могучего и своенравного моря, – пишет Памук, и слог его подобен течению пролива. – Человек, быстро плывущий на пароходе по неспокойным водам Босфора, чувствует, что грязь и дым перенаселенного города остались на берегу, чувствует, как он наполняется силой моря, и понимает, что и здесь, в этом людском муравейнике, все еще можно быть одному и оставаться свободным. Это водное пространство в центре города не похоже на амстердамские или венецианские каналы или на реки, делящие пополам Париж и Рим, – нет, здесь движутся морские течения, дуют вольные ветра и волны вздымаются над темными глубинами».
Я готовился к Босфору не в бассейнах, а на даче под Москвой, возле Звенигорода, плавая против течения в Москве-реке. В наших местах она домашняя, почти ручная: где-то мелкая, по колено, а где-то и с головой, со стремнинами, раскидистыми ивами и старыми купальнями по берегам, с песчаными косами и островками, поросшими крапивой и иван-чаем. Я каждый день купал в ней свою собаку Бруно, метиса легавой и отличного пловца, наблюдал, как он с усилием выгребает против потока, стремясь за заветной палкой – и решил попробовать сам. Найдя место поглубже, я надел плавательные очки и поплыл. Течение было бодрым, вода журчала вокруг меня, и я не без труда продвигался вверх. Перед глазами шныряли мелкие рыбки, проплывало дно с отборным речным песком, уложенным аккуратными волнами, словно пюре на тарелке в школьной столовой, там и сям поблескивали перламутром ракушки, струились длинные пряди водорослей, как волосы Офелии.
С тех пор я регулярно бегал тренироваться на реку – два километра по полям туда, заплыв против течения на условных три километра, и два километра бегом обратно, – храня в теле речную свежесть. Бывали жаркие дни, когда вода, тихая и прозрачная, журчит над песчаным дном, которое ты то и дело цепляешь рукой, и я далеко заплывал вверх, почти до самого Звенигорода. А после дождей, или когда сбрасывали воду из верхних водохранилищ – Рузского, Можайского, Озернинского, – река поднималась на метр—два, становилась мощной и мутной, несла ветки и смытые с корнем растения, и я с трудом удерживался на месте, гребя на полной мощности, борясь со встречным потоком и быстро сдаваясь на его волю.
Но главным было ощущение реки как живого существа, ее силы и нежности, запаха чистой речной воды, ее неумолимого безмолвного бега. Словно это река времени, и ты борешься с его потоком, проходишь сквозь него. Гребешь и думаешь: это же та самая река, на которой прошла добрая половина русской истории, и баржи подваливали к причалам Зарядья, и зимой лабазники выпиливали кубы льда и везли на санях в магазины, и на масляную сходились на льду кулачные бои стенка на стенку, и смывали кровь с разбитого лица – и журчит все та же вода, век за веком, безразличная к царствам и судьбам, как метафора вечности, которую ты сейчас разгребаешь собственными ладонями, но она ускользает сквозь пальцы.
И все же эти домашние тренировки не могли подготовить меня ко встрече с Босфором. Я прилетел в Стамбул утром накануне заплыва и сразу отправился на ознакомительную прогулку на пароходике, предоставленном организаторами. Пара сотен пловцов сгрудились у борта, отмечая ориентиры – пролеты моста Султана Мехмета, маяк Румели Хисар, Военная академия и остров Галатасарай. Шутки затихли, когда мы увидели всю ширину и мощь Босфора, неумолимое бурлящее течение, волны и водовороты, гигантские танкеры и сухогрузы с ржавыми, потертыми бортами: завтра движение судов закроют на время заплыва, но сейчас их внушительный размер был под стать величию этого места.
Вечером я пошел ужинать к пристани Эминеню у входа в залив Золотой Рог. Это настоящее сердце Стамбула, рассылающее потоки крови по артериям города, где бьется вода под винтами десятков паромов, ежеминутно отчаливающих в разные районы на обоих берегах Босфора, сшибаются двухметровые волны, выхлопные трубы пароходов выплевывают сизый дым вперемешку с водой и с криком пикируют чайки на взбаламученную пену. На Галатском мосту уже зажигались огни, под яркими лампами бурлил Египетский рынок с полными лотками специй, призывала к вечерней молитве Новая Мечеть, и ей сверху эхом вторила азан сказочная воздушная мечеть Сулеймание. Вдоль пристани стояли жаровни, где продавали «балык-экмек», багеты с филе макрели на салатном листе, и мидии, нафаршированные рисом. От жажды жизни и полноты ощущений я умял два бутерброда, запив их свежевыжатым гранатовым соком, который продавал тут же из тележки меднолицый турок в феске, разрезая надвое большие гранаты и давя их прессом с длинным рычагом. Я купил и третий экмек, но уже не осилил его и поделился с ленивыми бездомными псами, обжившими центр Стамбула и ставшими городским достоянием – их тут берегут, чипируют, лечат, поят, и каждый желающий может их покормить из специальных автоматов, отсыпающих им в миски сухой корм в обмен на пустые бутылки. Большой добродушный пес с чипом в ухе понюхал булку, из вежливости взял кусок рыбы, подержал в пасти и уронил.
Пить кофе я отправился на полусонный вокзал Сиркеджи, расположенный в двух шагах от пристани, в затейливом здании в стиле модернистского ориентализма. В былые времена сюда прибывал «Восточный экспресс», но сегодня о былой роскоши свидетельствовали лишь ретроресторан и станционный колокол, когда-то возвещавший об отправлении и прибытии поезда. Вокзал был пуст, одиноко горели лампы на пустых столиках, бармен дремал, уронив на грудь гордый нос с роскошными усами – эпоха, несомненно, завершилась.
Наутро я проснулся в шесть от молитвы первого луча, голоса минаретов вступали один за другим в пронзительной полифонии. В моем мини-отеле завтрак так рано еще не подавали, и, подхватив рюкзачок, я выскользнул в утреннюю прохладу района Ортакёй – в лабиринт узких улочек, спящих рынков, книжных развалов, накрытых пленкой от ночной сырости. Кафе еще были закрыты, но на углу работала круглосуточная лавка с шаурмой, где подавали свежевыпеченные лепешки и пили чай из маленьких пузатых стаканчиков мусорщики и работники ночных смен. Я тоже взял чайник медного, густого чая с мятой и чабрецом и к нему «симит», горячий бублик с кунжутом, в который клали масло и сыр. Утреннее солнце дробилось на пятна сквозь листья платанов, и в глубине ветвей уже вовсю горланили птицы.
К парку Куручешме в районе Бешикташ стекались сотни людей, разминались на траве, мазались солнцезащитными и разогревающими кремами – вода в главном течении по фарватеру пролива будет холодной. У пристани нетерпеливо качались и фыркали катера, сверху жужжал рой операторских дронов, еще выше над ними завис вертолет. В 9 утра мы начали заходить на два трехпалубных парома, которые должны были отвезти нас к месту старта на причале Канлыджа на азиатском берегу: сотни людей разного возраста, пола и комплекции в плавках или купальных костюмах, шапочках и очках – часы, гаджеты, браслеты, кольца строго запрещены, так же, как и неопреновые гидрокостюмы, и маршалы зорко следят за этим на входе. На пароме везут твою голую жизнь, помеченную только номером на шапке и чипом на ноге, чистую человеческую экзистенцию, нервно вибрирующую от предстоящей встречи со стихией. Чувство беззащитной телесности усугублялось тем, что все были в одинаковых тряпичных тапочках, как в гостиничном номере, которые выдали организаторы.
Паром долго швартовался к стартовому понтону, в 10 часов была дана команда на старт, и мы медленно и торжественно, палуба за палубой, стали спускаться на понтон, один за другим прыгая в воду. Внизу оказался ковер из сброшенных белых тапочек: разбежавшись по нему, я услышал писк чипа и прыгнул солдатиком, придерживая очки руками, чтобы заплыв не закончился, едва начавшись. Вынырнув, я быстро отплыл вперед, чтобы не угодить под прыгающих следом, увидел впереди мост Султана Мехмета, и поплыл, ориентируясь на красный флаг в его среднем пролете. Довольно быстро я ощутил, что попал в прохладную воду, и это был хороший знак – попутное течение из Черного моря в Средиземное на 2–3 градуса холоднее встречных потоков и заметно быстрее, скоростью до 5 узлов, 9 километров в час. Оглядевшись вокруг, я обнаружил, что рядом почти никого нет – пловцы растянулись широким фронтом по проливу, каждый ловя свое течение и траекторию. Я был один на один с Босфором, в окружении мостов, ялы, мечетей, чинар и далеких холмов, что едва угадывались в дымке.
Сверху набежала густая тень, сразу похолодало: мы вплыли под мост. Но вот мы его миновали, а сумрак все не уходил – это набежали низкие облака и поднялся сильный встречный ветер, нагонявший волну. Пристрелянные ориентиры на берегу скрылись в пелене, а компьютера на руке не было, чтобы отмерить расстояние. Я начал считать гребки, чтобы понять, какую дистанцию проплыл и когда надо сворачивать к европейскому берегу по параболе – иначе течение унесло бы меня к Босфорскому мосту (переименованному пару лет назад в Мост мучеников 15 июля): под ним дежурили лодки спасателей, отлавливавших неудачливых пловцов, чтобы тех не унесло в Мраморное море, и возвращавших их на финиш с бесстрастной пометкой DNF (Did Not Finish) в протоколе. По плану я должен был начинать поворот напротив острова Галатасарай, но за волнами и моросью начинавшегося дождя он все не появлялся. А когда я наконец увидел европейский берег, то был уже напротив двух больших желтых буев, обозначавших финишный створ, и течение неумолимо несло меня мимо них к мосту.
Повернув под 90 градусов, я начал изо всех сил грести на берег, но желтые шары уходили все правее, и я уже думал оставить борьбу и сдаться на волю течения, доплыв до спасателей, как вдруг почувствовал, что тяга его ослабла и вода потеплела: я попал в противоток из Мраморного моря в Черное, который начал потихоньку нести меня к финишу. Еще несколько минут напряженной, до судорог в ногах, работы, и я приближаюсь к финишному понтону с лесенками, но возле него встречное течение особенно сильное и сносит меня вверх. Вместе со мною борются еще десяток пловцов, мы гребем бок о бок, задеваем друг друга руками – тут я понял, почему нельзя брать с собой часы – кто-то цепляет меня за лодыжку, одновременно я получаю удар пяткой в ухо, но все же подбираюсь к спасительному поручню, хватаюсь за него ослабевшими руками и вытаскиваю себя наверх. Меня подхватывают сильные руки, снимают чип, укутывают полотенцем, я унимаю стучащие зубы и что-то отвечаю на вопросы, а сам смотрю на разволновавшийся серый пролив, на разрозненные группы пловцов, сражающихся с течением перед понтоном, на укрытые одеялами тела, что лежат под капельницами в палатке медиков – и ко мне приходит ощущение финиша и масштаба всего того, что произошло. Нам обещали увеселительный заплыв по течению, а в итоге получился античный эпос с битвой стихий.
Позже я узнаю, что встречное течение оказалось небывало сильным, как бывает раз в десять—пятнадцать лет, и те, кто заходил на финиш по правильной глиссаде, не могли с ним справиться и гребли на месте по 30–40 минут, пока не лишались сил и не поднимали из воды руку с шапочкой, сигнализируя спасателям; в результате почти треть участников, 700 человек, не смогли финишировать или не уложились во временной лимит в 2 часа. А мне, напротив, повезло: потеряв в непогоду ориентиры, я гораздо позже свернул на финиш, и в итоге противоток мне помог. Дождь припустил сильнее, перешел в ливень, и я пошел в раздевалку, сочувствуя сотням людей, еще борющихся с волнами. Мое итоговое время было 1 час 20 минут – на десять минут медленнее, чем у Байрона, покорившего похожую дистанцию больше двухсот лет назад, без спасателей, вертолетов и плавательных очков.
4
Байрон был не только первоклассным пловцом, но во время учебы в Кембридже преуспел также в верховой езде и боксе – необходимых умениях истинного джентльмена – не отказывая себе, впрочем, в попойках, кутежах и картежной игре, отчего постоянно залезал в долги. Он стал иконой своего времени, на многие десятилетия вперед задав западной культуре образ бунтаря-одиночки, бросившего вызов обществу, власти и филистерской рутине – но также и физическим пределам организма. Герой времени был романтическим мечтателем не только с тонкой душой, но и с закаленным телом. Спорт входит в кодекс джентльмена как основа, на которой развивается деятельная, предприимчивая и гармоничная личность эпохи.
Здесь важно само происхождение английского понятия «джентльмен», которое связано с названием сословия gentry – нетитулованное мелкопоместное дворянство, что активно включалось в новый хозяйственный и социальный уклад. Это были не праздные феодалы, живущие на ренту от своих владений, а люди нового времени, благородного происхождения, имеющие право носить оружие (каковое право, впрочем, покупалось) и живущие за счет своего труда: открывая рудники и мануфактуры, участвуя в войнах на Континенте, служа при дворе, в торговой компании или адвокатской конторе, которые возникали в то время в изобилии. К концу XVI века сложилось четкое различие между дворянином и джентльменом, а к XIX веку джентльмен стал не сословным понятием, а социальным типом, что включало в себя определенный образ жизни, строй мысли, самостоятельность и стремление к совершенствованию. Помимо образования и профессиональных качеств джентльмен должен был обладать широтой интересов, в том числе обязательно иметь хобби, которое могло поглощать значительную часть его времени. Многие гордились успехами в своем увлечении больше, чем в своей основной профессии: известно, что Владимир Набоков, создавший классический образ джентльмена в XX веке, ценил свои достижения в энтомологии выше, чем на литературном поприще – и он же, кстати, в Берлине зарабатывал на жизнь уроками тенниса и бокса.
В интересы джентльмена непременно входил спорт: само это слово, идущее от старофранцузского desport, «игра», «забава», изначально подразумевало любое развлечение, от охоты до скачек, но со временем стало обозначать физическую активность. Переломным моментом тут стала Славная Революция 1688 года, которая отменила пуританские запреты на увеселения. Британцы стали адаптировать различные деревенские игры – борьба, кегли, футбол – и аристократические развлечения, такие как скачки и фехтование, под запросы растущего городского населения. Одновременно стало популярным делать ставки на участников или на результаты соревнований, что вскоре привело к выработке правил и появлению первых спортсменов-профессионалов. В XVIII веке при дорогих ресторанах и модных кафе стали возникать клубы по интересам, и в их числе, вслед за охотничьими, возникли спортивные клубы: яхтсменов, гребцов, игроков в крикет – последний особенно был популярен, называясь «первой из всех спортивных дисциплин».
Идея спорта проникает в элитные учебные заведения, воспитывавшие тех самых джентльменов: среди студентов культивируется гребля (знаменитая лодочная регата Оксфорд – Кембридж на Темзе проводится с 1829 года), плавание, метание копья, прыжки. Английские педагоги наследовали идеям Просвещения о естественном порядке: Руссо учил, что ребенок должен формироваться в борьбе с силами свободной природы – лазать по деревьям, прыгать по камням, перелезать через каменные ограды, плавать. Реформатор образования и ректор колледжа в Регби Томас Арнольд, сам блестящий специалист по античности, в 1830-х годах включил физические упражнения в обязательную программу обучения и стал нанимать профессиональных тренеров в качестве педагогов – его считают отцом слова «спорт» в современном значении, и там же, в Регби, родилась одноименная разновидность игры с мячом.
Подобное воспитание тела и духа привело в начале XIX века к тому, что спорт вошел в ежедневный обиход нового городского класса, и прежде всего джентльменов как законодателей мод. В нем сочетались аристократизм, выраженный в понятии fair play, и определенный демократизм: в гимнастическом зале и на боксерском ринге представители разных сословий были поставлены в равные условия. Важным элементом спорта стала работа над телом – одновременно с тем, как развивалась культура дендизма с ее маниакальным вниманием к платью и внешности, спортсмены занимались своим физическим телом: манежи и клубы украшались атласами мышц, иллюстрациями атлетических тел с указанием идеальных пропорций. Спорт культивировал идею самосовершенствования и успеха и одновременно – страсть к измерению окружающего мира: он становился наукой о секундах, сантиметрах и таблицах, о строгой сертификации рекордов. Вслед за всеобщей рационализацией и бюрократизацией, в нем устанавливались правила, кодексы, хартии, появлялись федерации, менеджеры и чиновники. В то же время – спорт был во многом иррационален, как и законы капитализма, и свободную игру рыночных стихий в нем представляли ставки и пари; а свойственный спорту авантюризм отражал опасности и риски эпохи глобальных путешествий. Спорт выражал сам дух Нового времени и нового человека.
Но тот же самый капитализм порождал не только героя-индивидуалиста, но и массовое общество индустриальной эпохи, с задымленными городами, цехами, промышленными центрами, куда стекались миллионы работников: им нужен был не только хлеб, но зрелища, идея, идентичность, которая давала бы смысл их еженедельному трудовому циклу, эмоциональный спектакль, в котором можно было выразить свое недовольство, гнев, агрессию, надежду, жажду единства. Таким зрелищем для масс стал спорт, и прежде всего футбол, развивавшийся в промышленных центрах: в фабричном Манчестере, портовом Ливерпуле, шахтерском Кардиффе; названия клубов британской Премьер-лиги – это география промышленной революции. Сценарий этого спектакля наследовал площадным представлениям в эпоху Средневековья, позволял выплеснуться низменным страстям, облекал грубость и жестокость в формы сценического действа. Интересно при этом, что регби – игра, казалось бы, основанная на куда более жестком физическом контакте, эволюционировала в сторону большего аристократизма: на рубеже веков в Британии родилось известное высказывание, которое ошибочно приписывают, как и все цитаты в мире, то Уинстону Черчиллю, то Оскару Уайльду: «Футбол – это спорт для джентльменов, в который играют хулиганы, а регби – спорт для хулиганов, в который играют джентльмены».
Одновременно спорт стал сценой для главной страсти эпохи: национализма. Вслед за Британией и Францией в мир наций вступали Германия и Италия, объединенные Бисмарком и Гарибальди, вздымались новые флаги и воскрешались древние мифы, звучали Вагнер и Верди, строились оперные театры с патриотическим репертуаром, рождалось коллективное тело наций. Этот процесс имел и физическое измерение – патриотизм становился телесной практикой, отправление национальных ритуалов включало в себя гимнастические упражнения и единоборства, военно-спортивные игры. В Германии развивалось движение турн-гимнастики, возникшее еще во времена борьбы с Наполеоном и ставшее особенно популярным в эпоху национального возрождения: «турнферайны» (аббревиатуру TV по-прежнему носят многие немецкие спортклубы) устраивали коллективные упражнения, маршировали с барабанами, строили пирамиды из тел. Тем же самым занималось сокольское движение в Чехии, основанное в Праге в 1862 году: «соколы» в своей подготовке делали упор на фехтовании, тяжелой атлетике, маршировке и особой «сокольской гимнастике», на их многотысячных спортивных фестивалях, «слетах», пропагандировались идеи чешского национализма и панславизма.
К началу XX века эпоха романтического национализма окончательно уступила место эпохе империализма и войны. Массовый спорт был присвоен большими государственными машинами по производству насилия, и тон здесь задавали тоталитарные режимы. В фашистской Италии тысячи людей маршировали и делали гимнастические упражнения с винтовками в палестрах и римских амфитеатрах под надменным взглядом Дуче. В нацистской Германии спорт стал религией, воспетой Лени Рифеншталь, которая возвела арийский культ тела к древнегреческому мифу и к античной пластике; Олимпиада 1936 года в Берлине была важнейшей частью фашистского идеологического проекта, как и проведенная впервые эстафета олимпийского огня, зажженного в священной роще в Афинах. В сталинском СССР спорт был «приводным ремнем» полувоенного государства, готовившего население к труду и обороне:
Эй, вратарь, готовься к бою,
Часовым ты поставлен у ворот!
Ты представь, что за тобою
Полоса пограничная идет! —
призывала песня, и любое спортивное действо виделось метафорой войны, близкой и неизбежной. Обнаженные стройные юноши в трусах и девушки в трико маршировали по Красной площади, кричали «ура!», строили гимнастические фигуры – трактор, танк, паровоз: государство распоряжалось телами как послушной, пластичной биомассой. Оставалась всего пара лет до того, как все они были брошены в мясорубку Второй мировой.
После войны огосударствление спорта в Советском Союзе вышло на новый уровень: теперь он виделся не только как средство мобилизации населения на трудовые и ратные подвиги, но как витрина социализма. В 1952 году, еще при жизни Сталина, СССР вышел из добровольной спортивной самоизоляции и присоединился к олимпийскому движению. Была поставлена задача «догнать и перегнать» Запад по количеству рекордов и медалей, и под нее выделены ресурсы и отстроена целая отрасль: снизу была система массовых стартов (в основном показушных, для бюрократической отчетности) и сеть детско-юношеских спортшкол, сверху – спорт высших достижений. Вся система подготовки атлетов и распределения ресурсов строилась с прицелом на олимпийские медали, спортивная индустрия превратилась в стратегическую отрасль по добыче золота.
Все начиналось с детских спортшкол, где происходила жесткая селекция только самых перспективных, а остальные, не пройдя сито отборов и соревнований, отсеивались на ранних стадиях, нередко получая проблемы со здоровьем и стойкое отвращение к спорту на многие годы вперед. Сколько я видел таких бывших спортсменов, не знавших в детстве ничего, кроме тренировок, переездов, сборов и отборов, выполнивших к своим 18–20 годам норматив мастера спорта, но затем не попавших в молодежную сборную, потому что на какие-то доли секунды не уложились в зачетные нормативы, и махнувших рукой, завязавших со спортом: люди начинали пить и гулять, добирая упущенные развлечения, набирали вес – и возвращались к занятиям лишь 15–20 лет спустя, уже в качестве любителей.
Единственным критерием были медали: победители получали от государства награды, машины, квартиры, депутатские мандаты, а те, кто не пробился наверх, – подорванное здоровье и в лучшем случае тренерскую работу: спортивная машина превращала тела в рекорды и отбрасывала отработанный материал. Основатель современного олимпизма Пьер де Кубертен вывел в 1913 году свою знаменитую формулу: «На сто человек, занимающихся физкультурой, должно быть пятьдесят, занимающихся спортом; на пятьдесят, занимающихся спортом, должно быть двадцать, специализирующихся в отдельной дисциплине; на двадцать специалистов должно быть пятеро, обладающих удивительными возможностями», из этих пятерых, добавим мы, один становился олимпийским чемпионом. В этой идеальной «пирамиде Кубертена» основанием были физкультура и массовый спорт, в них следовало делать основные вложения и из них путем естественного отбора вырастали бы атлеты мирового уровня. В СССР же эта пирамида была поставлена с ног на голову: массовый спорт существовал «для галочки» и для бравурных газетных отчетов, а реальные ресурсы направлялись только в спорт высших достижений, где производился искусственный отбор, ставились медицинские и биологические эксперименты и выращивались «лабораторные атлеты», призванные доказывать преимущества социализма.
Вслед за Советским Союзом во всемирную гонку спортивных вооружений включались сателлиты: ГДР, Румыния, Куба, создававшие допинговые машины по примеру советской. Особенно преуспела в этом Восточная Германия, относившаяся к спортивной медицине за гранью этики и прав человека с чисто прусским педантизмом: применение анаболиков и гормональных средств было в сборной ГДР обязательным, а порой и принудительным, причем включали в нее уже с 12-летнего возраста. Допинговая программа искалечила целое поколение восточногерманских атлетов: одни умерли от цирроза печени или получили диабет, другие от приема тестостерона превратились из женщин в мужчин, как легкоатлетка Хайди Кригер, ставшая Андреасом Кригером, у иных женщин случались выкидыши и рождались дети с дефектами конечностей. Некоторые из рекордов московской Олимпиады 1980 года, проходившей без участия команд западных стран, где подавляющее большинство медалей было выиграно атлетами социалистического лагеря, не побиты до сих пор – допинг-контроль того времени ловил лишь малую часть запрещенных веществ и проходил под надзором советских спортивных чиновников.
Впрочем, мало что может сравниться с допинговой аферой России на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году, когда спортсмены принимали специальный коктейль «дюшес» из анаболических стероидов с «мартини», маскирующий запрещенные вещества, а по ночам агенты спецслужб проникали в опечатанную антидопинговую лабораторию через заранее прорубленную дырку в стене и подменяли в шкафах грязные пробы мочи российских атлетов на чистые, взятые задолго до соревнований. Когда перебежчик из России, биохимик Григорий Родченков, который долгое время был «мозгом» российской допинговой программы, раскрыл шокирующие подробности этой операции, санкционированной высшим руководством страны, российскую команду исключили из мирового олимпийского движения, и спортсменов из России сейчас приглашают на Олимпиады лишь в индивидуальном качестве.
И если российская допинговая программа впечатляла своими масштабами и государственной поддержкой, то в целом проблема допинга является системной в профессиональном спорте во всех странах мира – и здесь работает уже не политическая, а коммерческая мотивация: погоня за призовыми, успехом и славой. Особенно преуспели в этом виды спорта на выносливость, где врачи колдуют над повышением транспортной способности крови – чтобы она доставляла к мышцам больше кислорода – и используют для этого почечный гормон эритропоэтин (ЭПО). Мой любимый велоспорт уже больше двух десятков лет сотрясают допинговые скандалы, от дела «Фестины» в 1998 году, когда французская полиция обнаружила целый букет запрещенных препаратов у представителя команды, до «операции Пуэрто», когда в клинике испанского доктора Фуэнтеса были обнаружены сто пакетов с кровью ведущих велогонщиков. На допинге (или аномально высоком гемоглобине или гематокрите) попадались ведущие спортсмены – Марио Чипполини, Эрих Цабель, Ян Ульрих, Александр Винокуров: считалось, что в в 1990-х и 2000-х годах на ЭПО ехала большая часть профессионального пелотона.
Кульминацией стало разоблачение в 2012 году кумира поколения (и в тот момент моего тоже) американца Лэнса Армстронга, который не только выиграл при помощи допинга свои рекордные семь титулов Тур де Франс, но и принуждал принимать допинг членов своей команды: молодых велогонщиков будили среди ночи и сажали на велостанки, заставляя крутить педали – иначе вязкость их крови, загустевшей от повышенного гемоглобина, в сочетании с низким ночным пульсом могла привести к остановке сердца. Преуспели в допинге и другие циклические виды спорта: можно вспомнить олимпийских чемпионов легкоатлетов канадца Бена Джонсона и американку Марион Джонс, а также грандиозный допинговый скандал на чемпионате мира по лыжам в Лахти в 2001 году, когда в употреблении ЭПО была уличена вся сборная Финляндии, включая легенду лыж Харри Кирвисниеми.
Проблема допинга гораздо больше, чем спорт, – это императив современной цивилизации, ищущей «волшебную пилюлю», легкий путь к успеху, это культ модификации тела, от пластической хирургии до генной инженерии, и возможно, в секретных китайских лабораториях уже выращивают генно-модифицированных атлетов. Есть много сторонников допинга, которые говорят, что надо разрешить любые эксперименты с телом ради зрелищности и новых рекордов, что это новая антропология и этап в эволюции человека с использованием технических достижений, «человек плюс», трансгуманизм. Мне эта логика чужда – человек в ней превращается из субъекта в объект, в носителя заемных медицинских, фармацевтических и генетических технологий, исчезает свобода воли и идеал самосовершенствования. Допинг – это не столько обман других, сколько обман себя; для меня спорт – это увлекательная работа с собственным телом, с его физическими и психологическими пределами, которые можно расширять при помощи упорства и воли, победа естественного порядка над искусственным, природы над цивилизацией, и любой внешний агент, типа таблетки или импланта, разрушит этот процесс самосовершенствования.
У меня есть собственный, годами проверенный, допинг: перед стартом за ужином выпивать пару бокалов красного вина – для повышения гемоглобина, для помощи желудку при поглощении гаргантюанских порций углеводов и для крепкого сна. Впрочем, я и в обычной жизни сажусь ужинать с вином – привычка, которую приобрел в Италии и от которой не отказываюсь уже двадцать лет – но накануне старта она обретает характер священнодействия. Однажды зимним вечером в Москве, накануне 50-километрового лыжного марафона имени Кузина и Барановой, которым обычно открывается марафонский сезон в столице, я готовил ужин: уже кипела вода для спагетти, был натерт на крупную терку пармезан, нарезана пластами моцарелла, и бакинский помидор, политый оливковым маслом, искрился кристаллами на срезе. Я достал из буфета бокал и вдруг с ужасом понял, что в доме кончилось красное вино. Я в панике взглянул на кухонные часы: на них было 22:50. Я, как был в домашних штанах, вскочил в кроссовки, схватил пуховик и кредитку, в лифте зашнуровался, вылетел из подъезда и по обледеневшей улице спринтовал к ближайшему супермаркету в километре от дома. Бежал я, думаю, в темпе гораздо быстрее 3:30 минут на километр, влетел в магазин в 22:59, за минуту до закрытия продажи алкоголя, схватил попавшуюся под руку бутылку сицилийского Неро д’Авола – а на единственной открытой кассе очередь! Пять человек!
– Вино! – кричу я сзади.
– Вино! – отвечает эхом очередь и передает по рукам мою бутылку, как младенца в кинофильме «Цирк», прямо к кассиру, которая сканирует ее, и очередь ждет, затаив дыхание: успел ли? Терминал издает писк, я сую кредитку, вылезает чек: успел! Люди выдыхают, улыбаются, кассирша меня поздравляет, я выношу бутылку из магазина аккуратно, как приз, и обратно уже бегу по льду осторожной трусцой. Макароны, кстати, почти не переварились. Приготовились пусть и не до итальянской жесткости al dente, но до среднеевропейских значений. А вино оказалось молодое, но уже с сильным и терпким характером региона, где солнце светит триста шестьдесят дней в году.
Крепкий алкоголь я перед гонкой пить не стану, хотя эспрессо с рюмкой граппы (caffè corretto, «приправленный кофе», как называют его в Италии) после хорошего ужина никак не навредит – и, кстати, кофеин является для меня еще одним разрешенным стимулятором, роль которого признают многие атлеты и который входит в состав спортивных гелей и напитков; сам я выпиваю ежедневно до 4–5 порций крепкого кофе и не представляю свой день без пары чашек на завтрак. А после старта, особенно летом, отлично восстанавливает бутылка пива: оно пополняет запасы углеводов, витаминов и кремния, необходимого для костей; мысль о бокале светлого лагера или пшеничного белого придает силы на последних километрах длительной воскресной пробежки по жаре. Хотя, бывает, пиво помогает и зимой: после финиша Тартуского лыжного марафона, одного из самых уютных и домашних стартов, в финишном городке в Элве дают горячее темное пиво – бархатное, горько-сладкое, одновременно утоляющее жажду и голод: я, бывает, выхлебываю его по два полных бокала и не чувствую ни малейшего опьянения, только тепло и сытость разливаются по венам. Еще один разрешенный стимулятор – музыка перед стартом. Я помню, на одном из забегов (это был горный марафон в Лихтенштейне) за пять минут до старта организаторы включили магическую песню AC/DC Thunderstruck: я и в обычной жизни от нее прихожу в экстаз, и однажды в машине, когда ее передавали по радио, пришлось съехать на обочину и там уже оторваться по полной, – а тут я буквально выстрелил из стартового створа и понесся вдоль берега Рейна. Хард-рок и хеви-метал вообще хороши в качестве ускорителя, разгоняя кровь, учащая пульс, настраивая одновременно на боевой и возвышенный лад, – но точно так же для меня работает и музыка барокко, что не случайно: рок и барокко родственны по своей ритмической структуре, основанной на остинатном басе, Ричи Блэкмор преклонялся перед Бахом, и у меня есть запись, где Rainbow играют на репетиции рок-версию Английской сюиты соль-минор. Так что перед стартом вполне можно послушать баховские токкаты или вступительный хор из «Страстей по Иоанну». Впрочем, в качестве энергетической зарядки подойдет масса классической музыки, от финалов симфоний Брукнера до финала Третьей Шуберта, летучей тарантеллы, от которой ноги сами пускаются в пляс.
И наконец, природа – тоже вид допинга. На лыжных или кроссовых забегах в лесу я заключаю тайный союз с деревьями вдоль трассы, чаще всего с осинами и елями. На просмотре дистанции я выбираю самые статные и красивые деревья – обычно они растут группами, по соседству, в отмеченных природой местах – и прошу их дать сил во время гонки; впрочем, помощниками могут быть и камень, и ручей, и скамейка в поле. Не уверен, что они действительно прибавляют скорости, но точно дарят радость узнавания, словно по трассе стоят болеющие за тебя друзья.
А настоящий допинг не раз и не два проходил мимо меня – намеками назывались спортсмены и тренеры, у которых можно было купить «витаминки», я знал пару известных российских любителей, побеждавших на международных стартах, которые были пойманы на использовании кровяного допинга и дисквалифицированы. А остановившись однажды в гостинице с сильными лыжниками перед марафоном «Праздник Севера» в Мурманске, я стучался по номерам в поисках кипятильника – и во многих комнатах не открыли: как мне сказали потом, там гонщики лежали под капельницами. Это были, конечно, их частные амбиции – забежать в десятку, в призы – но сама культура допинга есть порождение советской, а позже российской, спортивной машины. И по большому счету, является одним из тупиков современной цивилизации с ее «биополитикой», по определению Мишеля Фуко, которая превратила спорт – и тело – в придаток больших механизмов государства, идеологии и рынка.
5
Новый ренессанс человеческого тела наступил в 1970-х. На Западе началась социальная революция, вызванная пришествием нового поколения: оно не знало тягот войны, выросло в относительном благополучии и взбунтовалось против прежнего дисциплинарного порядка, потребительского общества и традиционной морали. Хиппи и панки, рок-н-ролл и наркотики, движения против войны во Вьетнаме и за права женщин, цветных, сексуальных меньшинств и угнетенных народов слились в общий поток, пошатнувший патриархальные устои. И, как и первый, исторический, Ренессанс, этот переворот был эмансипацией телесности, в которую главный вклад внесла сексуальная революция: «отчеты Кинси» о сексуальном поведении человека, распространение надежной и доступной контрацепции и открытие женского оргазма радикально изменили наше представление о сексе. Отныне он был отделен от репродукции и становился делом удовольствия и индивидуального выбора каждого и в особенности каждой: женщины получали права на собственное тело. В коммунах хиппи и на фестивальном поле Вудстока, на антивоенных маршах и на баррикадах Сорбонны молодые тела требовали свободы – от призыва в армию и от семейной жизни, от диктата бюрократов и профессоров, от дисциплинирующей одежды и от стрижки волос.
Важной частью новой телесности стала аэробика: женщины, а за ними и мужчины разных возрастов и комплекций облеклись в лосины и трико веселых расцветок и вместе с секс-символом поколения Джейн Фонда стали делать перед телеэкраном свободные и порой двусмысленные телодвижения – на подмогу пришел только что изобретенный японцами видеомагнитофон, который отвязал человека от диктата телевидения и коллективного просмотра. Но, пожалуй, ни в чем американская страсть к свободе, индивидуализму и покорению пространства не проявилась так ярко, как в беговой революции 1970-х. Отсчет здесь обычно ведут от телевизионной трансляции марафона на мюнхенской Олимпиаде 1972 года, который выиграл американец Фрэнк Шортер. Телезрителям запомнился драматичный финиш, когда перед Шортером выскочил на трассу и первым выбежал на стадион неизвестный человек в беговой форме, которого публика приняла за лидера забега, и комментатор на телеканале ABC, писатель Эрих Сегал (сам бегун-любитель), закричал в прямом эфире на всю Америку: „It’s a fraud, Frank!“5 Этот эпизод познакомил миллионы американцев с понятием «марафон», который из состязания для суперменов превратился в понятную человеческую историю.
Вместе со Шортером на той Олимпиаде на дистанции 5000 метров бежала другая легенда американской легкой атлетики, молодой Стив Префонтейн, восходящая звезда, харизматик и любимец публики, бегавший отчаянно и бескомпромиссно, всегда на первой позиции от старта до финиша, и бивший один за другим все национальные рекорды. Ему прочили мировую славу, но он погиб в автокатастрофе в возрасте 24 лет, и сегодня по всей Америке ему поставлены памятники и проводятся беговые мемориалы в его честь.
Вслед за своими кумирами побежали десятки миллионов американцев, включая тогдашнего президента Джимми Картера (да и все последующие хозяева Белого дома занимались бегом за исключением, естественно, Дональда Трампа, который предпочитал гольф) – к концу десятилетия в США регулярно бегали 25 миллионов человек. Повинуясь императиву движения, заложенному еще пионерами на своих фургонах, что двигались на Запад в поисках земли обетованной, Соединенные Штаты стали первой в мире нацией, освоившей автомобиль, а затем и первой в мире бегущей нацией. Джоггинг сделался образом жизни, национальным хобби американцев, от колледжа до глубокой старости, евангелием, которое они несли в мир. Помню, как потрясло мое детское воображение зрелище пробежки по Садовому кольцу охранников из американского посольства. Для Москвы конца 1970-х это был культурный шок: машины притормаживали, люди оборачивались, когда вниз по Новинскому бульвару, тогда еще улице Чайковского, неторопливо, трусцой бежали четыре—пять морпехов, из них пара чернокожих – накачанные, сытые, в ослепительно-чистых майках и в шортах, всегда в шортах, в любую погоду; в их беге был вызов гранитной серости Москвы эпохи позднего социализма, недоступная простым смертным свобода. Это инопланетное зрелище, наверное, повлияло на то, что подростком я начал свои регулярные ночные пробежки.
Беговая революция в США запечатлена в главном американском эпосе конца ХХ века, фильме «Форрест Гамп»: спасаясь в детстве от злых мальчишек, Форрест чудесным образом избавляется от ортезов и костылей и начинает бежать под крик своей подружки Дженни: „Run, Forrest, run!“ Он бежит по полю американского футбола, получив роль «раннингбека», игрока, несущегося с мячом по направлению к задней линии противника, бежит во Вьетнаме, спасая в джунглях из-под огня бойцов своего взвода, а утратив смысл жизни, он встает с качалки на террасе своего дома в Алабаме и принимается бежать без видимой цели и причины. Он бежит через свой город, графство, штат, через всю Америку, добегает до Тихого океана, до пирса Санта-Моники, разворачивается и бежит обратно к Атлантике, до маяков штата Мэн. По дороге он обрастает поклонниками и учениками, случайно брошенные им фразы становятся мемами, от shit happens до have a nice day со смайлом; он бежит ровно три года, два месяца, 14 дней и 16 часов, пока вдруг не останавливается посреди легендарного американского пейзажа, у Долины монументов на границе Юты и Аризоны, обросший и значительный, как библейский пророк, и не произносит: «Я устал. Я пойду домой», оставив в растерянности бегущую за ним паству.
В своих странствиях по Америке я не мог проехать мимо этого места. В тот раз я решил пересечь страну от океана до океана – пока еще не бегом, хотя, быть может, когда-нибудь и дорасту до этого подвига медитации, а всего лишь на машине – но при этом пробегать по 10–15 километров на каждой остановке. Я взял машину по схеме drive away – хозяину автомобиля необходимо доставить его в другой город, часто на другой конец страны, а тебе надо туда попасть, и ты забираешь у него машину и в условленный день пригоняешь ее по указанному адресу. Я нашел по объявлению девушку из Ньютона, штат Массачусетс, пригорода Бостона, которой надо было перегнать Ford Explorer с вещами в родительский дом в Лос-Анджелесе. Мы созвонились, сговорились, я приехал на тихую улочку с белыми колониальными домами и аккуратными газонами. Она мельком взглянула на мой паспорт и вручила ключи от внедорожника, в котором были ящики с одеждой и книгами, торшер и телевизор.
На дорогу до Тихого океана у меня были щедрые девять дней, и я построил сложный маршрут, пробежавшись для начала по трассе Бостонского марафона, от знаменитого подъема Heartbreak Hill до финиша у реки Чарльз и дальше, через Чайнатаун и финансовый район до пирсов Бостонской гавани, с которой начиналась история американской независимости. На следующий день я уже бегал по бесконечным песчаным пляжам озера Эри, на третий – в глуши Миннесоты: там еловые леса, деревянные амбары, выкрашенные охрой, и боковые проезды, названные нордическими именами Олафссон, Петерссон и Йонссон, напоминали о милой моему сердцу Скандинавии. Пустынные перегоны Южной Дакоты и Вайоминга, где под бескрайним небом единственными ориентирами были ветряки и силосные башни, привели меня в Йеллоустоун, где на ночлегах в кемпинге надо было прятать в контейнеры еду, чтобы не пришли на запах медведи, а оттуда – в один из моих любимых штатов, Юту, которая для меня земля не мормонов, а каньонов, божественных фантазий на темы геологии и истории Земли. Я бегал по крутым тропинкам в парке Арчес, где скалы застыли в виде гигантских арок, заехал в национальный парк Каньонлендс, едва не наступив там на гремучую змею, которая предупредительно выставила свою погремушку, и заночевал в лихом молодежном Моабе, мекке маунтинбайкеров, днем осваивавших местные отполированные скалы, slickrock, а по ночам – бесчисленные пабы. На седьмой день своего путешествия я приехал в то самое место под Кайентой, на границе Юты и Аризоны, где остановился на дороге Форрест Гамп – бородатый, в бейсболке и зеленом плаще.
Был августовский полдень, жара перевалила за 100 по Фаренгейту или 38 по Цельсию, вокруг раскинулась выжженная красная земля, поросшая креозотовым кустарником, а впереди, словно мираж, виднелись в мареве скалы Долины монументов, над которыми, повторяя их контур, громоздились облака. Я остановил машину на пустой парковке, где стоял заброшенный мертвый киоск, надел кроссовки и снял майку. Жара почти не чувствовалась, бусинки пота моментально испарялись в горячем сухом воздухе, тело не отбрасывало тени. Дорога шла под уклон, и я побежал в сторону Долины, стараясь вдыхать неглубоко, чтобы не обжечь бронхи раскаленным воздухом от асфальта. Пробежав минут десять, я остановился. На шоссе ни спереди, ни сзади не виднелось ни одного автомобиля – я был один в пустыне. Скалы были все так же далеки и несбыточны, воздух дрожал, стояла вселенская тишина. И тогда снова, как на вершине Мон-Ванту или в водах Босфора, я ощутил себя, свое тело частью большой истории, в которой поколения людей преодолевали пространство и открывали пейзаж. Это движение бесконечно, этот сюжет вечен: стоим ли мы возле морских волн, подобно Байрону, или на вершине горы, подобно Петрарке, бежим ли без цели, подобно Форресту Гампу – мы воспроизводим весь цикл культуры Нового времени, архетип того фаустовского человека, который желает объять Вселенную, остановить мгновение и готов отдать за это свою бессмертную душу. В последние минуты жизни он переживает откровение и произносит заветную фразу, торжествующий Мефистофель собирается забрать его душу – но ее перехватывают ангелы и возносят на небо: искания и стремления Фауста становятся для него залогом спасения.
Вдалеке, со стороны Долины монументов и резервации навахо, показались огни автомобиля: они отражались от горячего асфальта, как ото льда. Я развернулся и побежал к своей машине. Позади были три тысячи миль от побережья Атлантики, леса, озера, прерии, Скалистые горы, впереди была еще тысяча миль: через Гранд-Каньон, на северном «риме», крае, исполинскую мощь которого я впервые увидел и понял, откуда берется американская гигантомания; через Вегас, самый вымышленный город на планете, к обманчивым огням которого я спустился на закате с гор; были солончаки и лунные пейзажи Долины Смерти, были сплетения хайвеев и плотный трафик по пути к побережью, были золотящиеся вдали башни даунтауна Лос-Анджелеса, хрестоматийные холмы Голливуда, и, наконец, тот самый пирс в Санта-Монике где я догнал убегающее на запад солнце и прикоснулся к нему перед тем, как оно погрузилось в океан.
2
Пер. М. Сергеенко.
3
Я горжусь этим достижением больше, чем любой другой славой, которой я мог бы добиться в поэзии, политике или риторике.
4
Он переплыл бы даже, несомненно, // И Геллеспонт, когда бы пожелал, – // Что совершили, к вящей нашей гордости, // Лишь Экенхед, Леандр и я – по молодости. Пер. Т. Гнедич.
5
Фрэнк, это обман!