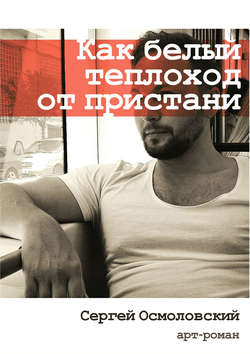Читать книгу Как белый теплоход от пристани - Сергей Осмоловский - Страница 3
Самородский Алексаша:
То ли ещё есть и будет
Оглавление18 февраля, 2003 год
Я долго ждал какого-нибудь нового этапа в жизни. Чтобы, как водится, бросить всё, перечеркнуть уверенной рукою, и начать заново. Новые этапы медлили. Не приходили. В конце концов, решился приурочить дневник к началу нового года. Зря, что ли, мы постоянно в ночь на 1-е января гремим дурацкими тостами и пузыримся пуще советского шампанского? Может, первое утро года, и станет тем «этапом» и хоть отчасти поможет мне повлиять на линию судьбы?
Вот так я думал. Однако почти полтора месяца от последнего удара Курантов, перо моё не поднималось, чувства лихорадило, а эмоции вообще пахли мертвечиной. Вчера было ровно сорок дней, как новогодний водитель навсегда увёз от нас Женьку.
Накануне Женька открыл мне свою комбинацию. Я бы даже сказал – стратегический план, реализация которого должна была вернуть его в сердце любимой девушки. Помню, как, сверкая глазами, он рассказывал о той розовой галиматье, которую для них двоих напридумывал, но: «С такими романтическими слюнтяями, как вы, это может сработать», – авторитетно оценил я. и которая может сработать только в случае двух искренно любящих друг друга людей. Следующей ночью, дрожа от новых, манивших успехами замыслов, он вышел из клуба и поймал такси. Эх, праздничный тонус и зажигательная иллюминация ночной Москвы, не правда ли, так благоволят беспечной езде!..
Дальше была больница и ББББ: бескровно безмолвно бессонные, бл.., ночи друзей. Неподвижные глаза Катюши – возлюбленной Женьки, вернувшейся к нему тогда, когда сам он к ней впервые не доехал.
Женька умер не сразу. Первую неделю покоился в коме, а потом ещё трое суток мучился, пока отказывало сердце. Мы пытались пройти к нему – нас не пустили даже за стекло.
Когда полтора года назад мы получили известие о гибели Мишки из неправдоподобно далёкой Одессы – тоже было нелегко. Но далеко. За два года мы привыкли находиться без него, поэтому с того трагического дня его не было с нами так же, как не было и два года прежде. Но здесь… Женька умирал рядом – буквально в двух шагах, – пронзая болью пропитанный тревогой, тягучий воздух больничных коридоров. Если я не мог быть вечером в больнице – звонил его отцу, и тот ледяным голосом Левитана передавал мне слова врачей, как сводки с передовой. А мы – Серёга, Максим, Андрейка и я – до раннего утра, как тыловые крысы, делились между собой ничего незначащими прогнозами и тёплыми воспоминаниями, обретшими для нас неутешительную слёзную горечь.
Тяжело невероятно! В такие минуты в мужских слезах не может быть ничего предрассудительного…
Мы познакомились с Женькой ещё в институте. И он мне сильно не понравился тогда. Про его жизнь я подумал: без цели и без смысла. Ни детей, ни планов, ни забот, ни попыток яркого самовыражения, ни мало-мальски определённых стремлений, ни вообще каких бы то ни было акцентов по следованию жизни. На мой первый, поверхностный, взгляд, его интересы сводились к шмотью и развлечениям. Шик и блеск пригламуренного столичного фантика. Без малейшего намёка на шоколад, который мог бы когда-то лежать в этой обёртке.
Имея общих друзей, мы были вынуждены время от времени пересекаться от столовой до поэтических вечеров в общаге. Первокурсницы там обнажались быстро, а вот Женька открывался для меня постепенно, увлекая, словно книга из тех давних времён, когда книги ещё можно было читать без тошноты. Со временем стал «удобочитаемым» текст, проявились яркие цветные картинки как иллюстрации к портрету, в шелесте страниц различались мудрость и ум. И я обнаружил в нём черты, совершенно не свойственные современному… мне, например.
Женька был (есть) необычайно добр. Запредельно. Настолько, что высмеять его доброту или как-то использовать её в личных интересах казалось низостью и даже святотатством. Эти качества проявлялись в нём так часто, что у нас, простых и смертных, не оставалось другого варианта, кроме как привыкнуть к ним и относиться с плоской широтой потребителя. Теперь же, когда «не уберегли» и горько плачем, вдруг обнаружили в себе умение, наконец, оценить его. Ни одна другая потеря в жизни ни Серёгу, ни Максима, ни Андрейку, ни меня не заставит мёрзнуть от тоски так безнадёжно, как без всеобогревающего сердца этого человека…
Как-то будним ноябрьским утром пошли мы с Женьком в институт. Двинулись прямиком с ночной дискотеки, слегка расшатанные клубной вибрацией. Ситуацию воспринимали кисло и плелись, в темноте развлекая друг друга нытьём о том, как хорошо нам было, как плохо нам стало и как ещё будет ещё хуже, если, таким же танцующим шагом немедленно не повернём обратно к тем двум парам вожделенных силиконовых холмов.
Через сто метров проворный мороз сунул свои грубые лапы мне даже в для меня самые непозволительные места. Моя походка сделалась твёрже, я зашагал решительней, и ничто сентиментальное не заставило бы меня сбавить ход. А Женька остановился. Встал напротив бездомного пьянчуги, ради «Вдовы Кликó» готового даже зимой заложить последние ботинки. Последнюю рубаху, а также исподнее алчущий уже, по-видимому, пропил, так как наг он был до последней возможности. Совершенно. Даже волосья, ржавыми пружинками скрючившиеся на груди, не внушали согрева. Никудышный и жалкий, промороженный и насквозь пропитый он топтался на пустой автобусной остановке, как сонный петух балансирует на жерди. Никакой симпатии – хоть режь! И я летел за порцией знаний мимо него по измёрзшей Москве без тени сантиментов.
Женька же без слова подошёл, скинул свою верхнюю обновку и бережно укрыл ею пьяного голодранца. Ни за грош, ни за спасибо2 отдал пиджак prêt-à-portér, в котором только что с успехом штурмовал одну из двух пар силиконовых холмов. Поступок тем более примечателен, что в ту пору Женёк ещё не был востребованным графическим дизайнером, каким умер сорок дней назад, а был всего лишь студентом третьего курса со всеми вытекающими отсюда нестабильными заработками. Тогда его гардероб не пестрил обилием штанов и курток, на трюмо не громоздились импортные ароматы, в «стиралке» не болтались комплекты шёлкового постельного белья. И стеснённый в средствах Женёк ещё две недели после того случая сморкался, хрипел, чихал и кашлял, пока не расщедрился папа.
Доброта была его органикой. По-другому он не умел. Раздаривать кусочки горячего сердца, как хлеб-соль предлагать душу с золотого подноса и было главным движущим смыслом, оправдывающим существование. Разумеется, увидеть такое с первого взгляда невозможно. Понять, наверное, – тоже…
Где-то за месяц до катастрофы мы компанией гудели на квартирной вечеринке. Беспечные, ненужные трудностям и живущие вечно. Набились, как запах в солдатские сапоги, и, подливая, красовались, делились друг с другом идейной и творческой бессмыслицей. В общем, обычный сюжет. Когда мы уже были хороши, порядочно разошлись и беззастенчиво шлёпали по ляжкам случайно подхваченных с собой малознакомых девиц, вошёл Евгений. Почти – Онегин. Впереди лёгким шагом ступала внутренняя красота, чуть проникновенно грустная от расставания с любимой девушкой (той самой Катей). Мы встретили его шутками, лихими и простецкими возгласами «О-оо! Кто это к нам пришё-ол!» и «штрафной» стопкой. Но бокалы с пойлом возгорелись от стыда за неуместность, и мы как-то сразу притихли, едва он коснулся каждого взглядом Кабирии3 и произнёс:
– Мир вам.
Я долго пытался понять: в чём же корни такого отношения к миру? Анализировал повседневные привычки Женьки, его образ жизни. Отъявленный пижон, завсегдатай самых высокомерных столичных ночных заведений он вместе с этим был человеком редчайшей, подчас абсурдной душевной чуткости. Как это могло помещаться под одной грудной клеткой, для меня было загадкой.
Я уверен, что врождённые качества тут ни причём. Черты характера всегда формируются при семейном участии. Качество воды внутри именно этого аквариума и определяет цвет плавников и величину жабр рыбок, его населяющих.
Назвать семью Женьки неполной – это сильно преувеличить её количественный показатель. Она почти не существовала. Не было ни матери, ни дедушек, ни бабушек, ни братьев, ни сестёр, ни тёть, ни дядь, ни кузенов, ни кузин. На земле жили только два человека с одинаковой фамилией, связанные кровным родством, как яблоко и яблоня: сам Женя и его отец, Игорь Валерьевич. Жили мирно, в ясной душевной тишине, как разорённая большевиками церковь.
Я, зелёный нигилист, привык не доверять взрослым. Но Игорь Валерьевич переучил меня той основательностью, выдержкой, крепостью, которые от него исходили. Сила, шедшая от его ненавязчивых суждений, буквально завораживала формирующуюся мужественность молодого человека. Проникнутый пониманием жизни, внутренне богатый, словно золотой прииск, он говорил не много. И только в тех случаях, когда этого требовала воспитательская мудрость. Из широкой и ровной груди его, придерживаемой заправленной под мышку рукой, выходил звук голоса уверенный и чистый, как эхо веков. Всегда точно попадавшие фразы он чутко перемежал паузами – для осмысления их незрелыми студенческими умами. Уже тогда я легко принимал на веру всякий его тезис. А со временем, нахватав собственным лбом ссадин и шишек, выстрадал и тысячекратную аргументацию к каждому из них: «Мужчину делают Мужчиной потери, а женщину Женщиной – приобретения».
Даже если бы я не любил Женьку ради него самого, стоило бы с ним подружиться ради знакомства с его отцом, которым я искренно гордился и горжусь по сей день. «Примерив на глаз» многие черты Игоря Валерьевича, я старался их примерить, как наряд, как багаж за спиной, не оплаченный жизнью. Но я глубоко задумался, нужен ли мне такой багаж, когда однажды подвыпивший сын обрушил на меня откровение о содержимом этой отцовской «ноши», делающим её такой ценной, а её носителя таким богатым. Основная мысль свелась к тому, что бегущему мальчику Игорю кривая старуха Жизнь бросила путеводный клубок – трагический.
С рождения оставшись без материнской заботы, Игорь первое, главное слово в каждой судьбе произнёс скорее риторически, повинуясь одному лишь младенцу понятному импульсу, нежели переживая тёплый подъём адресных эмоций. Воспитывался у деда и бабки на сдобных пирожках, шерстяных вязаных носках, на тяжёлом запахе махорки. Да и те довольно скоро преставились, наказав успешно кончить школу.
Далее был бессмысленный подвиг духа как расплата народом за слабость Генсека ЦК КПСС к интернациональному долгу. Сухой «Афганец» сдувал боевых товарищей с поверхности Земли так часто, что с течением времени потери стали восприниматься отрешённо даже самым чувствительным сердцем. Держаться солдату-очевидцу помогала только мечта о счастливой личной жизни после службы. Но добрую память ветерана войны о первой любви, обещавшей «помнить и ждать», перечеркнули рассказы друзей о её свадьбе с «каким-то мажором из МГИМО».
Год за годом клубочек разматывался, и нить его казалась длиннее человеческой жизни.
Начались проблемы с жильём, психикой, алкоголем. Однако сила духа, претерпевшего афганской закалки, помогла справиться с каждой из них поочерёдно. Как засадная обманка на пару-тройку лет установилось некое затишье, но потом клубочек снова пустился под гору: на кочке подлетел – родился сын, Женя, и опустился – не выдержав родов, умерла супруга.
Теперь вот не стало и сына.
Игорь Валерьевич стоически переносил потерю. Ни когда нёс цветы за гробом с телом собственного сына, ни когда, одиноко сторонясь, слушал панихидные речи, ни даже когда бросал в могилу первую горсть сырой от дождя земли – ни мускул не дрогнул на его бледном лице. Среди размякших и залитых слезами оно казалось вылитым из металла. Возникло ощущение, что человек свыкся с трагической судьбой и уже не реагирует болью на её удары. Но, когда все разошлись, а я на правах близкого друга сына задержался и заглянул к Игорю Валерьевичу в кухню с предложением помочь, то вдруг увидел, как застигнутый врасплох он конфузливо прятал в карман брюк скомканный носовой платок. Красные, воспалившиеся глаза его наконец-то сказали всю правду.
– Спасибо, Саша, не надо. Ступай домой. Я сам тут… – выговорил один на всём белом свете мужчина.
1 марта, 2003-й год
«В творчестве только гармония есть…» – почти цитата. Из песни. Из песни, как моя жизнь. Нет, в самом деле, мне делается сладостно от мысли, что я чем-то занимаюсь. Чем-то заполняю свою жизнь. Не пустóты в жизни в виде свободного от работы времени, а саму жизнькак дар божественной воли.
Но заполняю не работой, конечно, – эта позиция не сопряжена с «божественной волей» настолько, чтобы стать её главным оправданием.
Не воспитанием детей. Их нет пока. Ровно как нет и предпосылок к их появлению. Признаться, если бы и были – бросили бы своего старика рано или поздно. И что осталось бы? Сознание продолженного рода и скомканной, как грязные пелёнки, молодости? В общем, отпрыски в этом смысле, к сожалению, способ малоубедительный.
А чем ещё можно располагать, чтобы чувствовать себя по-настоящему живым? Набором мимолётных романов? Интим-досуговых развлечений? Но так надоело, если бы вы знали, так надоело использовать женщин, обманывая их природную слабость и страх навсегда остаться в одиночестве. Если уж этот мужчёнка оказался рядом, то он нужен ей. Не на час или два, а – вообще. И сколь короткой ни была бы ночь, сколь распутной ни старалась бы казаться сама женщина, она успевает привязаться к тебе ниточками света, каким-то немыслимо волшебным образом задержавшимся в её сердце с тех ещё времён, когда маленькая девочка, закутавшись в тюль, воображала себя невестой. И она до последнего момента, до хлопка дверью не верит, что кто-то очередной (на сей раз – ты) оставит её так же просто, так же равнодушно, как и многие прежде. Видимо, я набрал своего рода критическую массу таких уходов – и теперь меня тяготят отождествления с подонком. Я устал и больше не рассматриваю варианты, только прибавляющих чувства опустошения в душе.
А развлечения – это лишь иллюзия заполнителя. И то – до поры, пока не найдёшь себя неизвестно где, неясно когда, в невнятном состоянии в постели с каким-то пидор..сом.
Отшельнический подвиг? Молитвенное уединение на далёком острове? Для этого я слишком слаб.
Поэтому, за неимением любви, моей залатанной душонке не осталось ничего, кроме как спасаться творчеством. Литературой. Собственного, так сказать, сочинения. И мне, ей-богу, легче живётся, когда я вижу, как подрастает стопочка моих эпистолярных стараний. Это – цена моей самодостаточности. Да, иногда я бываю амбициозен, тщеславен даже, но никогда голословен. Маленькие успехи и неофициальное (пока!) признание, которые мне удалось снискать на этом поприще, позволяют думать, что я до некоторой степени умею владеть и словом, и творческой мыслью, а значит, возможно, могу быть полезен и для – не хо-хо! – а Всемирной Истории Искусств.
В целях самосовершенствования одолжил у любимой Ируньки книгу зарисовок Фаины Георгиевны Раневской о собственной жизни. После Женьки и вышеупомянутой Ируньки, она единственная, с кем мне так космически хорошо. Космически – это когда ты с человеком незнаком, но вдруг обнаруживаешь, что един с ним чувством, переживанием, стремлением и мыслью, то это «хорошо» становится вашим общим достоянием – неопределённым, как воздух.
С Фаиночкой Георгиевной интересно, как мало с кем из современников. Она дразнит, тревожит, радует, учит. В общем, не даёт отвлечься. Я окунаюсь в строки, погружаюсь в её мир, встречаю людей, среди которых актриса ушедших подмостков, педагог и лучший друг Раневской – Павла Леонтьевна Вульф. Культурная, образованная и воспитанная она постоянно вздыхала по девятнадцатому веку, непостижимым образом стремясь в него обратно.
Чистота, красота, ум, просвещённость, вера, любовь… Раньше, по наивности, мне казалось, что вечные ценности актуальны всегда. Даже если у пробегающей мимо эпохи нет времени задуматься над ними. Но повседневье убеждает меня, что я ошибался – вечные ценности никому не нужны. Они потому и вечны, что никто никогда на них не ориентировался, не равнял себя по ним, не разочаровывался, видя своё коренное им несоответствие, а то давно скорректировали бы. Их всегда держали только в уме – для рифм и вздохов.
Чтобы в этом убедиться, достаточно лишь оторваться от строчек Раневской. Силы выжить среди безмозглых пней и бурелома безнравственности мигом исчерпываются. Сплошное отчаяние. Знакомлюсь в книге (больше негде) с прекрасными людьми – и отчаянье захлёстывает. Хочется свалить куда-нибудь подальше отсюда – как Павлочке Леонтьевне: в век девятнадцатый. А в этом – среди невежества и хамства – никак не могу найти своей ниши.
Семейный триллер. Начало
«Середина лета. Погода стояла теплее обычного. В северном городе лагерем расположилась сумеречная ночь – напоминание о своих белых подружках, бывших здесь недавно проездом. Тёплый ночной ветерок мягко шуршал ситцевыми шторами у настежь распахнутых окон спальни, разливая по комнате блаженство, как звёздную пыль, подхваченную в небе.
Она прижалась к нему и мягко, словно кошечка, прильнула щекой к его плечу. Её молодое тело тихо постанывало от только что пережитой бури удовольствия, а нежная, безо всяких признаков загара, белая кожа ещё пылала жгучим восторгом любовной ласки. Она лежала обнаженная, и разнузданный ветер, играя тенью от шторок на ее совершенном теле, то открывал, то, будто устыдясь своего нахальства, снова прикрывал ее наготу. Большими, тёмными, полными нежности глазами Она смотрела на своего любимого, рассчитывая если не на продолжение ласки, то хотя бы на ее справедливое, логическое завершение.
«Милый, скажи мне что-нибудь», – мысленно обратилась Она к нему, прикрыв лучики чувственного счастья долгими ресницами.
– Спокойной ночи… дорогая, – едва слышно пробурчал Он, даже не взглянув на свою «дорогую». Затем Он небрежно провел рукой по её волосам, без желания поцеловал в лоб и отвернулся, чтобы тут же уснуть.
Но вдруг Он очнулся от прикосновения чего-то обжигающе влажного к его плечу. Оттуда, где Она лицом прилегала к его телу, Он заметил два сверкающих хрустальных комочка, стремительно бежавших вниз по его груди, расстилаясь в две влажные блестящие дорожки.
– Ты любишь меня? – всхлипнула Она, обращая молящий взор к его бледным губам.
И ему вдруг так стыдно стало за себя, что Он рывком повернулся к ней, горячо поцеловал в губы и жарко выдохнул ей прямо в ухо:
– Спи. Люблю.
Однако с некоторых пор это стало неправдой. И Он знал это. Она также об этом догадывалась, но предпочитала не замечать, а хранить иллюзию – во всяком случае, пока Он ей это позволял. И Он снова ей это позволил. Видимость отношений была восстановлена, и на остаток ночи Они дружно погрузились в теплое течение сна, расцепив холодные объятья…»
3 марта
Эх, Женька, мой Женька – а жизнь-то продолжается…
Завтра у Андрейки пересдача кандидатского. Андрейка – ни в одном глазу.
Накануне он поинтересовался, что я думаю и, главное, что могу сказать по теме его курсовой о политической философии. Мне такое внимание лестно, но, откровенно говоря, о политике я хочу думать, меньше всего. Знаю, что все они подлецы там, и этого достаточно. Знать остальное автоматически теряет смысл. Есть лишь одна политическая история, под которую могу чавкать без изжоги. Она случилась в те ещё времена, когда надзор за всем секретным и оборонным был соответствующим:
В одном студенте из Африки, сыне крупного функционера тамошней коммунистической ячейки, зарделось светлое и неразделённое к русской девице с загадочной душою, но вполне определёнными по международном стандартам запросами. Страдая без взаимности, очернённая насмешками и клеветой широкая душа его решила отомстить. Самоубийством. Но не тихим, забитым и одиноким, как обычные самовольные жмурики, а громким и славным – так, чтобы от его исхода неприятностей хлебнуло как можно больше человек. И не ампулу он с ядом приобрёл. Не верёвкой с мылом он разжился. Не чёрный пистолет купил на Большом Каретном. Каким-то немыслимыми путями он раздобыл кусок оружейного урана, примотал его к спине и так стал ходить. Недолго, правда. Вместо скорой и героической кончины, окутанной легендами потомков и нравственным укором современникам, заработал мучительное, ступенчатое угасание всего молодого негритянского организма.
Сначала заболела поясница. Потом отнялась печень. Затем по-предательски отключилась селезёнка. Отказались работать двенадцатиперстная, толстая и прямая. Глаза стали видеть сплошные фиолетовые круги. Круги были красивы, но оптимизма их красота почему-то не внушала. И только когда с безумным трудом стали передвигаться полинявшие ноги, африканец, смекнув, что так дело дальше не пойдёт, обратился за помощью к бесплатной советской медицине.
Сделав качественный осмотр и сокрушённо покачав умными головами, врачи нечаянным движением смахнули с насквозь облучённого пациента остатки волос, умыли свои белы рученьки и дали сигнал, куда следует. Там, «где следует», умирающему задали несколько провокационных вопросов и с первым же рейсом отправили помирать на историческую родину.
На следующий же день по возвращению своего отпрыска в знак непримиримой оппозиции к политике апартеида всё партийное население африканского государства сошло с освещённого Марксом и Лениным пути таким же бодрым маршем, каким заступило на него одним чёрным днём своей истории. Об этом «вопиющем случае» с возмущённым дребезжанием обвислых щёк поведала народу советская «Правда». Сколько оборонщиков за недобросовестный догляд послетало тогда со своих должностей!..
5 марта
«Писать надо только тогда, когда каждый раз обмакивая перо, оставляешь в чернильнице кусок мяса»… А? Каково? Донцова, интересненько, Дарья пользуется этим наказом графа Толстого? Я вот дефективов не пишу, нигде не издаюсь, посему взял за правило сей наказ Его крестьянского светлейшества. Тешусь надеждой, что моя эпистола царапает бумажную плоть лишь тогда, когда остриё её заточено авторской внутренней болью, поиском чувств, эмоций, испытанием страстей, анализом переживаний. Мои «чернильницы» – капканы вдоль жизненной беспутицы, в каждой из которых осталась моя отгрызенная волчья лапа. И быть бы уже моей тушке вконец раскромсанной и разбросанной окоченелыми кусочками под толстым слоем гниющей листвы. Но – я всё ещё ползаю, всё ещё раздражаю «волчьим запахом» нюх охранных псов и даже привычки время от времени радостно помахивать хвостом не утратил. Клыки мои по-прежнему легко вонзаются в засмердевшую падаль.
Завёл дневник – записываю всё. Растрачиваю «мясные куски», потому что всё, что бы ни произошло, солью сыплется мне на ранки, не позволяя им зарастать новой плотью. Основы нервной системы расшатаны настолько, что выводят из себя даже, казалось бы, мелкие, мещанские передряги.
Например, пассажиры метро. Мастера изворотливости и напора. Чемпионы по просачиванию в трещины. Штрихи к их портретам, почерневших от запаха ежедневной борьбы, уже стали частью фольклора. Едва я отчистил ботинки, как наступили вторично. А потом – ещё раз. (А ботиночки-то замшевые – пачкаются легко.) И ни тебе «извините», ни «пожалуйста, подвиньтесь». Обменяли в кассе на более конвертируемое «побыстрей». Ладно, скрежетнув зубами, отойду в сторону, отчищу. Понабрался от Женьки привычек приводить себя в порядок, и теперь мне это даже в кайф. Мне – в удовольствие. А вам? Вы, гражданедорогиероссияне, вы же разрушаете свою общинную среду такими вот движениями. Представьте, что того, кто справа, вы затолкаете в асфальтовые пробоины и щели. Того, кто слева, затопчете. Подомнёте под себя того, кто мешает впереди. Насядете на того, кто напирает сзади. И что тогда станется с вашей плотною толпою? Что будет с вашим чувством локтя и плеча? С вашей скованностью одной цепью? Как вы пойдёте вперёд, если никто не прикроет ваш зад?..
Семейный триллер. Продолжение
«Следующие два дня были ничем непримечательны. Утром Они вставали, сонливо потягивались, холодно приветствовали друг друга, завтракали кто чем и отправлялись на работу, привычно пожелав друг другу удачного дня. По вечерам же, когда Они встречались дома, чтобы снова убить время в добродетельности брака, в воздухе начинала гудеть какая-то необъяснимая тревога, напряжённость, угрожая окончательно заглушить музыку взаимопонимания, сопереживания и любви.
Раньше, когда колодец семейного счастья казался неиссякаемым, а крепость и чистота чувств были сродни бриллиантовым, каждый вечер и все выходные Они проводили вместе, наслаждаясь любовью и упиваясь лаской. Тогда ещё грели воспоминания о безрассудных приключениях недавней юности: как Они убегали в осенний лес, чтобы заблудиться там и вернуться домой уставшими и счастливыми только под утро. Как Он однажды нагрянул к ней среди ночи и повел гулять по крышам и смотреть на звёзды, отсчитывая каждую из них поцелуем. Как Они, перехитрив охрану музея Императорского дворца, остались там ночью одни и в огромной роскошно убранной зале танцевали вальс, пока Их, забывших об осторожности, не обнаружили и не заперли в одном кабинете с прокурором. Как Он часами сидел у изголовья её кровати, когда Она серьёзно заболела, и читал ей детские сказки, пока голос не осипнет, а книжка не вывалится из рук от усталости. Как Она тогда вся светилась от жизневозраждающей любви и, когда Он засыпал, тихо, чтоб его не разбудить, плакала от счастья, не веря происходящему. Как… Да мало ли было всего!.. Уже позже, когда Они повенчались и расписались в загсе, времени на приключения стало не хватать, и Он поддерживал этот огонь в сердцах, каждую ночь читая ей стихи и поэмы.
И Они смотрели друг другу в глаза и не могли насмотреться. Дышали друг другом и не могли надышаться. Возникавшее желание заняться любовью у одного тут же поддерживалось другим. Каждый вечер, возвращаясь домой с работы, Он приходил с букетом свежих цветов для своей любимой, и вечерние встречи по своей теплоте походили на предложение руки и сердца. А Она после приветственных объятий, поцелуев, цветов и слов смотрела на него полными слёз благодарности глазами, в голове носилось: «Любимый… Ты – мой единственный!.. Господи! спасибо тебе!.. Спасибо…»
9 марта
Что может принести год, начавшийся гибелью близкого друга? Как там говорится: «Что ни делается – всё к лучшему»? Хм, интересно, к чему же такому «лучшему» это может привести. К депрессии? Снобизму? Самоизоляции? Чувствую себя разделанной лягушачьей тушкой на блюде. Обнажённой до того предела, когда самое щадящее дуновение пробегает болью по голой кости. Что это? Критический возраст? Очередной этап подведения итогов прожитого и нажитого? Просто дурное настроение?
С утра до ночи занимаюсь самым неблагодарным делом: ищу Человека. Бесплодные поиски приводят к истощению. Устаю сильнее, чем после ночной разгрузки вагонов худыми руками студента. Ну разве многого я требую? Разве многого? Да и не требую я, а – прошу. Умоляю. Мне бы только чувств да ответственности, да благодарности к богу за щедрость на таланты. Да ещё людской увлечённости хоть в чём-то. Увлечённости, а не безразличия, как на лицах в метро: неживых, тупых, бездеятельных, с глазами, полными приобретённого скудоумия. Ведь ничего же, ничего проникновенного для таких не найдётся. Им и судьбина бездомных мальчишек интересна лишь в вопросе сканворда: резвая ручка тут же напишет по вертикали ответ – «беспризорник».
Сидят, тупят и перемещаются, как холестериновые частички, которых кровь сама несёт по сосудам. Искусственные и безынициативные. Они для жизни, что пугало для птиц: вроде и поза есть, и руки расставлены широко, и выражение лица таинственно сокрыто под соломенной шляпой, но в движение способно прийти, лишь когда ветер задует. Да и не тот ветер, что ветерок-безобразник, а тот, что ураган, который разметёт в клочья ветошь их голов, повалит и шарахнет оземь, вырвав их гнилое корневище… Сами умирать они, естественно, не хотят. Цепляются за жизнь, за своё право быть ничтожеством с упорством вирусных бактерий. И пары умудряются создавать! Бледные, скучные, обречённые на безмолвное затухание в беспощадных бытовых страстишках, выращивают потомство под светом телевизионного экрана и в тепле стоптанных домашних тапок.
А я – нет. Я хочу эмоций, ощущений. Чувств-с желаю я! Я не хочу покоя лежачего камня, я хочу восходов—закатов в душе. Хочу, чтоб цветы в ней распускались. Чтоб ветер срывал и разносил их семена по полянам!..
Скажете, это много? Да нет же! В самый раз. Не мечта какая-нибудь из розовых снов гимназистки, а реальное предназначение, для которого нас рожали мамы – быть счастливыми. Но слишком много всего произошло, и мы, наверное, разучились это делать, а подсмотреть у других нам не хватает ни ума, ни инициативы. А это ведь так просто – быть счастливым. Спросите у итальянцев! За их умением легко жить незаметно, что им не всегда хватает на креветки или вальполичелло, при этом bello, benissimo и grazie4 у них всегда в избытке и на себя, и на соседа, и даже на русского туриста остаётся. Они полны интереса к простым удовольствиям, растворённым в воздухе, как аромат балконных цветов.
А мы? Ходим с печатью прожитых неудач на лице и либо, остерегаясь друг друга, просто огрызаемся, либо презрительно фыркаем друг другу в глаза, едва заметив в них человеческую слабость.
Мы ненавидим весь мир за то, что он смеет тягаться с нами по масштабу и уже в целых восемь раз крупней нашей «великой и необъятной». И мы как будто мстим всему миру за то, что его благополучие так от нас далеко, что тянуться до него, как до «того света», но, раз в жизни дотянувшись, отжигаем там так, что на долгую память аборигенам оставляем широкую, от души, по-русски, как мочой на снегу, выведенную имперскими вензелями и хохломскими узорами роспись в своём варварстве.
Мы ненавидим всех «их» за то, что у них есть свобода волеизъявления, а у нас – право голосовать за Путина. За то, что они мылом моют улицы, а мы – намазываем мылом верёвки. За то, что испанец с гитарой в руках, итальянец с веткой оливы, англичанин с тростью или ирландец с ножницами для стрижки овец так и зыркает, подлюка, как бы напасть на нас, перепившихся и безоружных, и захватить, чтоб отнять последнюю тельняшку.
Мы ненавидим себя за то, что у нас остался всего лишь один повод для гордости – 9 мая. За то, что даже с помощью Победы мы так и не смоги перелезть с телег в самые безопасные автомобили, что так и не переобули кирзу на самую удобную обувь, что так и не сменили рупор на технику самого чистого звукового воспроизведения. За то, что самым надёжным и качественным жильём в Москве до сих пор считаются дома, возведённые пленными немцами, а мы ничего путного своими руками делать так и не научились, кроме того, как орудовать киркой на лагерных рудниках да перегонять нефть в самогонку.
Мы ненавидим своих предков за то, что разбазарили и прокутили их наследство, что в душе не осталось ничего, о чём со слезами восхищения пели Чехов, Бунин, Тютчев, Пушкин, Есенин. За то, что сами, добровольно, обменяли молочную сладость великого и могучего тургеневского на приправленный жаргонный хруст и разговорный иноземный смак. Книги пишут райтеры, читают их ридеры, пользуют – юзеры. Фрилансеры креативят, а продюсеры пиарят. В супермаркетах – дисконты, в найтклабах – пати.
Любите речь родную, граждане, уважайте её! В ней – ваша врождённая индивидуальность. И улыбайтесь. Ладно я такой смурной – я родного друга только что похоронил. Но вы-то, вы-то обязательно улыбайтесь! Поверьте, это куда действенней, чем толкаться локтями, и совсем не касается того, что я брюзга. Да, я брюзга, я это знаю. Я зануда. Я недоволен, настойчив, нетерпим. К себе – в том числе. Хочу жить не, как принято, за забором гнилым со злющей собакой, а по образцу savoir vivre.5 И что же? Я зануда после этого? Брюзга?.. Пусть так, но с дневником-то я могý этим поделиться? Я бы с радостью прокричал об этом всем и каждому, но кому это надо? В рот смотрящей публики навалом, а слушателей – ни одного. Душа загадилась, ей бы высраться, а жопы нету. Потому я и сел за дневник, потому и выбрал этот вид испражнения, что поговорить-то не с кем. Вот и остаётся испытывать терпение бумаги. Рубить правду-матку втихаря на этих туалетных страницах…
Семейный триллер. Продолжение
«Любовь текла плавно и размеренно, как молочная река, огибая крутые выступы и благополучием орошая сладкие, плодородные берега жизни. Обычно такое орошение приносит обильный цвет и богатые урожаи. Но то ли солнце их сердец припекало слишком, то ли затор какой случился по течению – скисла речка, заквасилась.
Что-то теперь изменилось. Причем как-то неожиданно. Как-то вдруг. И никто не мог внятно ответить: что и почему. Просто – раз и всё. И голоса по-другому стали звучать, и глаза по-другому стали смотреть. Фокус размылся, и в его отражении картина семейного счастья предстала нестройной мозаикой из тысячи разрозненных кусочков.
Только вот ей не спалось. В очередной такой раз Она лежала на боку, нервно кусая губы и вея холодом неудовлетворенной плоти, а мысли в голове спутывались в комок: «Что случилось?.. Почему?.. Ведь он никогда не был таким раньше… У него кризисный возраст. Но надо что-то делать. Я не хочу его потерять. Надо как-то вернуть его к жизни…»
Так Она проворочалась до трех ночи, потом не выдержала – встала и набрала номер.
– Алё, – послышался сиплый, заторможенный голос с того конца провода.
– Дорогая, это я… Извини меня… Ну лапуль… Я знаю, который сейчас час… Я знаю, что я «редиска такая», но мне очень нужна твоя помощь. Просто необходима. Тут такое… Я не могу… И по телефону – не могу… Я сейчас забегу к тебе, окей?.. Ну пожалуйста! Я не шучу, правда… Спасибо, зай, я мигом… Ну всё, целую.
Она повесила трубку, быстро оделась и вышла, оставив мужа прикидываться спящим в одиночестве. Подруга жила в этом же доме, на несколько этажей выше, поэтому путешествие к ней было лёгким и совершенно безопасным…»
10 марта
Дневник – это место, где с одинаковым удовольствием рады всем моим друзьям. Всем, о ком, рассказывая, перо летит без оглядки вскачь по гладким строчкам. Женька умер. Женьки теперь нет и, увы, больше никогда не будет. Приходится искать силы, чтоб окончательно примириться с этой мыслью. Возможно, помогут другие близкие тире дорогие.
Однажды вскользь и без сравнений упомянул о б Ируньке. Кто она и что делает в моей жизни?
Любовниками мы с ней никогда не были. Обходимся без грязи.
То, что существует между нами, не поддавалось описанию ни тогда, когда всё это по малолетству началось, ни сейчас, когда словарный запас ощутимо пополнился. Никто, в том числе и мы сами, не в состоянии до конца постичь всю глубину таинства, высоту духовности и безбрежность чистоты наших отношений. Какие-то попытки предпринимал в своё время Зигмунд Фрейд, но и он, извиваясь мыслями исключительно промеж собственных теорий, не найдя взаимосвязи, вскоре бросил это дело за полной безнадёжностью как-то в нём разобраться.
Природу наших чувств друг к другу нельзя ограничить ни одной из известных взаимностей. Это, скорее, симбиоз самых достойных и лучших человеческих флюидов. Квинтэссенция. Эдакий коктейль. С удивлением обнаружив, что с противоположным полом можно прийти к согласию не только в вопросе «Который час?», мы в две пары рук преподнесли горячий личный интерес, окропили его схожестью во взглядах, для аромата покрошили туда наличие вкуса, приправили теплом нерастраченных чувств, здоровым цинизмом всё это дело усугубили и, признанием в высокой любви пожелав друг другу приятного аппетита, приступили к трапезе, смакуя, облизываясь, но ни в коем случае не пресыщаясь.
Будучи рядом, мы отдыхаем. Блаженствуем. Кровь друг другу не портим. И очень опасаемся потревожить нашу нежную любовь развитием её до принятых между мужчиной и женщиной стандартов. Нас нельзя назвать ни семьёй, ни парой, ни любым другим словом, обозначающим гнездо. Поэтому меня не волнует, умеет ли она готовить что-нибудь кроме чая. А ей совершенно безразлично, до какого состояния я занашиваю одну и ту же пару носков, прежде чем выбросить. К проблеме: кто, позвонив ей среди ночи, упорно и взволнованно молчит на другом конце провода – я полностью равнодушен. Она же не стремится узнать о моей страсти петь, закрывшись в уборной. Я не интересуюсь, какую долю от её красоты составляет косметика. А ей абсолютно всё равно храплю ли, смеюсь ли, разговариваю ли я во сне.
Мы не тревожимся подозрениями о взаимных интрижках на стороне, и самим уровнем отношений как бы застрахованы от бытовых, междоусобных стычек на тему: «Кто сегодня моет посуду, а завтра – пылесосит?» или «К говядине надо было купить нормальный хлеб! Бородинский! А не это сено с отрубями!». Мы ни в чём друг друга не упрекаем и обязанностей не навязываем – любим смиренно. И был бы я жив – я бы памятник нашим отношениям поставил. В виде праздничной вербной веточки с расцветшими почками.
Где-то с полгода назад у каждого из нас появилось новое увлечение, посильнее «Фауст» Гёте. У меня – театр, у Иры – верховая езда. И можно сказать, что я частенько изменяю Ирине с Мельпоменой. Она в это же время изменяет мне с лошадьми. Причём на глазах у конюших. Так что, пока мои нервические вспышки о недостаточном внимании теряются в топоте копыт – господа Островский и Шекспир пристраивают к её голове изящные рожки. Статус кво сохранён, паритет установлен, мир приведён в равновесие и жизнь продолжается.
Да, Женька, да, родной, продолжается…
11 марта
Мне кажется, я умею писать (перекрестился – ничего не изменилось). Облекать мысли в доступную для прочтения форму. Особых оснований утверждать это у меня нет, но я почему-то уверен в своих способностях. И пусть я не кончал «академиев» и школ литературного мастерства, пусть не увешаны дипломами стены уборной и никто из авторитетов не цокает от услады языком: «Ай да сукин сын!», но я – пишу. Не понимаю – что и не осознаю – как, а просто сажусь, кладу перед собой белый лист и просто иду. Вперёд, не глядя под ноги и не озираясь по сторонам.
Спустя какое-то время, там, наверху, что-то такое чудесное открывается и обрушивается на меня всей своей беспокойной массой. А я, как медиум, разгадываю одному лишь мне понятное послание. Вот в этот самый миг и постигает разгадка. Чувствуешь, что знаешь ответ на всё на свете. Что нет больше вопросов, на которые не мог бы ответить. Становишься человеком, которому есть чем оправдаться в факте своего рождения. И дрожь пробирает до кости! Ответственность? Пожалуй. Но вместе с тем такое удовольствие!.. Вот и выходит: не понимаешь – что, не осознаёшь – как, но точно знаешь – зачем.
Семейный триллер. Продолжение
«Стоял прекрасный летний вечер. Подобный тем, какие обволакивают тебя запахом шампанского, бессовестно пьянят душу, и хочется назначить свидание незнакомой девушке, и всё легко и просто, и не хочется думать, что на самом деле всё гораздо сложнее. В такие вечера сами собой всплывают в голове тёплые воспоминания и мечты о безумных дерзновениях юности, о добрых переживаниях и счастливых событиях, и сами собой эти мысли плавно перетекают в романтическое сердце, сотворяя в нём грусть и печаль умиротворения.
После работы ему совсем не хотелось идти домой, а наоборот, настроение и мысли полностью располагали к прогулке. Он неторопливо двигался по любимому проспекту своего любимого города. Свежий ветер с реки ласково трепал его податливые волосы, и солнце на золотистых куполах церквей широко улыбалось всеми лучами, от души желая ему приятной прогулки.
Конец проспекта приветливо забликовал глянцевыми волнами спокойной и сильной Невы. Фланирующий шаг его упёрся в гранит набережной. И точно так же упёрлись мысли в проблему семейных отношений. Он отдавал себе отчёт, что чувства изменились. Любовь к супруге если и жила ещё в сердце, то лишь как осколок стекла в сердце Кая из сказки о Снежной Королеве. Конфликт назрел, и пришла пора что-то кардинально менять. Но как до этого дошло? Как он, влюбчивый и безответственный, сумел однажды полюбить так, что, казалось, и жизни не хватит, чтобы в этой любви изъясниться? Тогда, стоя перед алтарём, Он ведь не лгал – Он действительно чувствовал в себе силы на борьбу, «пока смерть не разлучит их». А теперь… Она по-прежнему старалась быть для него самой лучшей, и Он это чувствовал и изо всех сил старался оценить. Но силы, видно, были уже не те…»
12 марта (среда)
Раневскую читаю неотрывно. Почему, когда она говорит, что «Анна Каренина» в балете это пошлость, – с этим большинство согласится, а остальные хотя бы задумаются, но когда то же самое вслух скажу я, то большинство станет крутить у виска пальцем, а остальные бросят небрежно: «Самый умный»? Ясно: всё дело в авторитете! Вес мнения, которого у меня недостаток. И на лавры рупора эпохи я не претендую. Даже на голос поколения едва ли сгожусь. Просто мне противно видеть, как образ бандита стал романтичным, и культивируется, обыгрывается киношной индустрией среди нестойкой психики подростков как Героический столп Нашего Времени (да не потревожу я прах Михаила Юрьевича).
Печально, что велением современной реформы «кофе» стал среднего рода, а эмансипация довела женщин до мужского.
Прискорбно, что бутылка пива стала для девушек таким же атрибутом прогулки, как некогда для барышень зонтик.
Раздражает, что мерилом успеха выступает количество пройденных, продавленных голов.
Немыслимо, что в наши дни вдруг снова возможна купля-продажа людей.
Коробит, что ходьба по набережной превратилась в эквилибристику между соплями, блевотиной, мочой.
Дамская сумочка, этот всего лишь элемент туалета, стоимостью в годовой доход учительской семьи кажется мне совершенно неприличным.
Пять детских жизней, спасённых операцией по пересадке косного мозга, эквивалентны стоимости часов с золотым браслетом. Без комментариев!
И, конечно, меня удручает, что обвинение человека в бесчестии не воспринимается теперь как оскорбление. Не будоражит подлеца, не рождает в нём пусть и ложное, но стремление восстановить честь имени в окружении, подающим ему руку.
Павлочка Леонтьевна, возьмите меня, что ли, в век девятнадцатый…
Семейный триллер. Продолжение
«Он спустился к реке и сел на скамейку. За спиной шелестел беззаботный гомон. Лёгкий ветер обдавал прохладой его расслабленное тело, а невесёлые мысли разогревали голову кровью.
«Я не знаю, что делать, – отвечал Он на этот назойливый шепот в голове. – Не могу решиться, но и болтаться между тоже не могу: надо либо уходить, либо оставаться. Уйти? Но я не могу с ней так поступить… Она не заслуживает… Она всё ещё любит меня, хоть я такая скотина. Слова ей говорил, обещал всего… Сколько потрачено времени, нервов! А сил!.. Она же верила мне!.. Уйду – буду последней сволочью и мразью. В общем-то, я сволочь и есть, это правда, но не хочу, чтобы она об этом знала.
А если остаться – что тогда? Изображать муженёчка и выдавливать раз в день нежное «люблю»? Отравить жизнь терпением, превратить её в раздоры, дождаться ненависти, а потом наговорить друг другу проклятий за бесплодность лучших лет и разбежаться с мокрыми лицами и камнями в сердцах? Не знаю, как она, а я так с этим камнем прямо к речке и прибегу. Утопиться к чёртовой матери и покончить с этим!».
Он разгорячился и местами уже напоминал безумца. Он ходил туда-сюда, резал ладонями воздух, тискал себя за волосы, рвал узел галстука, закатывая глаза, будто от удушья совестью. В итоге, упал на скамейку, снял ботинки и бессильно отложил решение проблемы на «как-нибудь потом». Полежал, сгрыз ногти, затем обулся, сломав на ботинке задник, встал и пошёл домой, расталкивая плечами прохожих. Вечер был безнадёжно испорчен…»
15 марта (суббота), вечер
Отчасти с перепугу, отчасти из любопытства взял да и перечитал всё вышенаписанное, топором невырубаемое. И? Ведь, казалось бы, – сформировавшийся человек: юность от меня уже на расстоянии трёх загнанных коней. Вот-вот и молодость потянется за стремянной. Но как до сих пор я малоопытен и наивен – удивительно даже!
Например, сейчас, ознакомившись с содержанием дневника, сделал «открытие»: нет-нет-нет, Саша, записывать за собой нужно только поостыв, а анализировать и подводить итоги можно только на холодную голову. Итоги же таковы: безнадёжный сноб. Как неутешительно звучит…
А может, всё не так плохо? Не совсем ещё безнадёжный? Может не безнадёжный, а надёжный? Опустим приставку-то. Надёжный сноб! Так уже лучше. Хотя бы потому, что смешнее.
15 марта (суббота), ночь
Нет большей трагедии для мужчины, чем полное отсутствие характера (С. Довлатов).
Сноб так сноб!
17 марта
Я щас подумал…
Если бы вещи, подобные запискам, позволял себе в публичной жизни, то наверняка не избежал бы предостережений, мол, в старости будешь ворчуном, пердуном и бубнилой. А так, вольностей себе на людях не позволяю, и – милейший человек-с!
Дневник – это своего рода лакей. Слуга, брошенный в одно погребище вместе с усопшим хозяином. Некая компенсаторная возможность сказать себе всю правду о себе. Не подыхать лицемером двадцать первого века. Выпустить вонь из себя, помочь выстраться душе своей – освободить в ней место для Человека. Предугадываю заранее, что ничего из этой затеи не выйдет. Но, как проникало в нас из вечного стиха: «Авантюра не удалась, за попытку – спасибо».6
Семейный триллер. Продолжение
«Он явно нервничал. Недавняя лёгкость и умиротворение бросили его ради других. Родной город казался безразличным – и это раздражало. Он шёл рывками, скрипя зубами от злости, и даже не озирался – так всё вдруг опротивело. Ноги привычно несли его по маршруту домой, лицо хранило печать злобного невмешательства.
И вдруг его взгляд, тупой и разбитый, как стёклышки очков, прояснел. Среди мутных и ненужных силуэтов выдвинулась фигура. Девушка двигалась, будто плыла, мерно покачивая бёдрами и кокетливо увиливая от липкого внимания прохожих. Темноволосая, в белом обтягивающем платье до колен с глубоким вырезом на груди и в открытых белых туфельках на шпильке! Она выделялась в толпе не просто красотой, а какой-то исключительной особенностью, загадкой более непостижимой, чем улыбка Джоконды. Перед такой силой обычно рассыпаются в прах самые непробиваемые двери. Подошвы таких ножек, как правило, умащены слезами самых чёрствых самцов. Такие улыбки проскальзывают в сердца самых закоренелых интровертов, разжигая в них неведомый огонь жизнелюбия.
Такие улыбки пронизывают насквозь, как иголки сердца бабочек в гербарии коллекционера. И Он застыл – беспомощно, точно коряга посреди людского течения, и колыхнулся не раньше, чем девушка скрылась из виду, нанизав его потрясение на каблучки. «Какая она красивая! – осилил Он вслух. – Глаза! Волосы! Осанка!.. А улыбка! Боже мой, улыбка!.. Как жаль, что больше никогда…». Он не договорил. И даже не успел додумать. Обречённые мысли прервало что-то молодое и смелое, которое схватило его за лацканы и швырнуло бегом в ту сторону, куда скрылась его прекрасная и таинственная незнакомка.
«Чёрт!.. Растерялся, как первоклассник! Женился, что ли – хватку потерял», – Он всё тянул шею, всё высматривал совершенный образ, растаявший облаком в дымке людей. Тщетно. Вскоре, кое-как успокоившись, Он развернулся и зашагал в общем строе, глядя поверх голов…»
21 марта (пятница)
Мне приснилась женщина. С усами.7
Всё же, думаю, что это была не женщина, а девушка. Почти девочка. Разница принципиальная – усы её только-только зарождались. И развивались уверенно – как срамная болезнь. Уже через несколько мгновений невинные уста её оказались полностью сокрыты под исключительно пышной меховиной.
Девочка стояла в фате, под руку с каким-то офицеришкой (безусым, кстати) и вся меркла под ветвистыми гирляндами усов, будто углём нарисованных детской ручкой.
Она молча стояла и смотрела на меня. Я тоже смотрел на неё и тоже молчал. Молчал оттого, что мне совершенно нечего было ей сказать! И все приглашённые вокруг – молчали. Без звуков, без движений ждали, во что выльется наша с ней встречная бледная монументальность. Если и может быть ещё тише, то только после смерти.
Ассоциация с физической кончиной прилипла к сознанию, точно стафилококк на кожу, превратив забавный сон в кошмарный. Не без доли брезгливости я ощутил, как, повинуясь второму закону Ньютона, со лба, превозмогая рельеф лицевого устройства, к моему подножию устремились борзые капельки пота.
Известно, что при определённых обстоятельствах молчание – золото. Не уверен, входит ли сновидение в число таких обстоятельств, однако наше упрямое безмолвие явно прилежало к чему-то ценному и постепенно материализовалось в свадебные подарки. Я пригляделся: все они были на моё имя. Но распаковывать их бросился почему-то женишок в погонах. Делал он это второпях – некрасиво, жадно и почему-то молча! Выглядел церемониал жутковато…
И пока мы с усатой девственницей бестолково молчали друг на друга, её суженый неловкими руками расстроил механизмы всего, что должно было работать, грубой челюстью надкусил всё, что можно было съесть. Помню, я был против такого его поведения. Возмутительный факт с подарками причинил мне, впечатлительному человеку, расстройство. Молодая же вовсе утаилась под сенью чёрного надгубного боа, разросшегося пуще пальмовых ветвей.
Страшный сон длился недолго. Но за каких-нибудь пять—шесть минут подо мной на простыни успело скопиться граммов двести убедительной солёной влаги.
А потом на меня напала голодная муха, и я проснулся. Подумал о том, что с четверга на пятницу сны, как говорят, сбываются, и с тягостным чувством вслух пропел: «Мне приснилась женщина с усами».
23 марта (воскресенье)
Думается мне – начинаю постигать истоки своей асоциальности, когда если и хочется поговорить с кем-то, то скорее с лошадью, как делает Ира, нежели с людьми. Ухватил за кончик одну причину, потянул её, как ниточку, а обнаружил клубок. Даже не клубок, а целую обмотку, укатавшую меня, точно кокон. Это значит, что процесс пошёл. Что я перерождаюсь. И не в бабочку совсем, а скорей наоборот – в мерзкую, ядовитую гусеницу с вонючей утробой.
Это значит, что в жизни настала пора что-то менять. Кардинально. И начать лучше всего с работы. Во-первых, это всегда самый неустойчивый из социумных террариумов, во-вторых, если оставить всё как есть – можно уже сейчас писать о себе некролог – до самой смерти ничего не изменится: то же болото, те же хором орущие жабы, та же вонь и зараза, та же погибельная ниша. Наглотавшись тины, реагирую на неё спазмами желудков. Сказать, что уже тошнит от этого – не сказать ничего. Выворачивает.
Это всё, конечно, образность, но за ней стоит, колышется самым незначительным дуновеньем, то, что вполне можно пощупать руками. Это моя тонкая, блин, натура, алчущая комфорта и гармонии с окружающим миром. Это и сам окружающий мир, готовый на диалог с «натурой» при определённых условиях. А условия просты и незатейливы, понятные даже кухарке: творческая реализация, душевное равновесие и материальное благосостояние. (Фу, какие протокольные слова я произношу!)
Творческая реализация – это больная тема, о ней распространюсь чуть позже, выслушав ещё пару рецензентов. Морально ещё как-то помогает держаться эпистолярная дрожь (рецензентам назло), а материально – журнальные заказы статей. Но, разумеется, этого совсем недостаточно, чтобы планировать жизнь.
Всё! Менять работу! Уходить, уносить себя, спасаться бегством! Решение принято – и завтра же я без оглядок вступаю в пору его осуществления… Однако если б это было так просто…
Семейный триллер. Продолжение
«Пережитое, конечно, не могло пройти для него даром. Возвращаться домой теперь расхотелось полностью, и Он нашёл кинотеатр на окраине достопримечательностей, где шла ретроспектива фильмов с участием Греты Гарбо. Посетителей в зале было не много – и Он расположился, где захотел, безо всяких стеснений, смутив школьников, пришедших сюда целоваться.
События на экране его занимали мало. С гораздо большим увлечением Он отдавался мыслям о той девушке, одной улыбкой подарившей ему всё богатство влюбленного. Почему-то Он назвал её Бонни.
«Как она сверкала! Как росинка на лепестке ландыша в лучах рассветного солнца. Бонни… Твоя улыбка… Она прожгла мне сердце, уничтожив в нём сорняки бессмысленных лет и бесцельного отчаяния жизни!»
Когда фильм кончился, уже была ночь. Он вышел из кинотеатра, вдохнул грудью прохладный воздух, закинул пиджак на плечо и с мечтательным взглядом в пространство двинулся домой. Наступили выходные, и торопиться спать было не к чему. Он шёл медленно, слегка покачиваясь и озираясь на звёзды, и благодарил жизнь за такие вечера, как этот, когда эти самые звёзды становятся непостижимо яркими даже в пелене городского смога. Ведь, если подумать, что такого – улыбнулась незнакомая девушка… а как изменилось настроение!
Вдохновенные мысли быстро сменялись, плавно перетекая одна в другую. Не сказать, чтобы все они были о Бонни – скорее о чём-то общем, ностальгическом и перспективном одновременно, выскользнувшем на язык фразой:
– Я зажег бы на небе звезду, было б это кому-нибудь нужно…»
6 апреля (воскресенье)
Молчание бывает от бессилья, как во сне, а бывает от могущества. Бывает от пустоты, но случается и от крайнего переполнения… Наверное, мне необходимо кому-то оказаться нужным. Кому-то, кто появился в этом мире неслучайно. Потому-то я и спросил Ируньку:
– Как, по-твоему, воспринимала бы меня Фаина Георгиевна, если б мы с ней познакомились?
Нет на земле человека, которого я любил бы нежнее Ирунки. Моя любовь к ней настолько космически обоснована, что без грязи и намёков будет жить, пока во мне держится душа. Если и на самом деле у человека несколько жизней, то нынешняя – это моя последняя, а во всех предыдущих я был Ируньке любящим братом.
Крепко сбитая и стремительная что пингвинчик в стихии воды она, как и я, имеет в фундаменте личности благородные польские корни. А также несправедливую фамилию Самусько, против которой бесплодно сопротивляется вся её величественная и претензионная натура.
С безупречным чувством вкуса во всём, к чему так или иначе прилежат её жизненные интересы (а это прежде всего – искусство), она мудра и не по годам рассудительна. Иронична, честна и откровенна. Если кто-то в её присутствии «звóнит» или «красивéе» – того она открыто презирает. Поцелованная Богом везде, где может целовать только Бог, она ещё задолго до сознательного возраста определилась со способом реализации себя, избрав театральный путь. Сейчас учится на втором курсе. Единогласно признана одной из лучших студенток в актёрском амплуа.
И вот это Творение четырёх элементов на мой вопрос, не смутясь, ответило:
– Она влюбилась бы в тебя, Самородский.
– Ты шутишь? – спросил я, страхуясь от её особого чувства юмора.
– Абсолютно, – опровергла Ира, помотав головой.
Тогда я подумал: «А в самом деле! К чёрту бы всех этих подхалимов, лицемеров, вампирш с красивыми ногами, приспособленцев разных мастей, если б моей обожательницей стала не кто-нибудь, а Фаина Раневская, чьей неземной любовью в свои времена бывали Качалов, Станиславский, Ахматова, Вульф, Михоэлс, Тренев, Певцов, после спектаклей с которым она, потрясённая, рыдала и не могла уняться даже в гримёрной». Встать, пусть и гипотетически, в один перечень с этими людьми – и можно умирать спокойно…
Мы ещё поговорили с Ирой немного, настраиваясь на священнодейство, и уселись смотреть чудом добытую кассету со спектаклем «Дальше – тишина», снятым на сцене театра имени Моссовета аж в 1978-м году.
Какого бы каскада эмоций мы ни ожидали, актёрские работы застали нас врасплох. Раневская – величайшая. Парадоксальная. Всю вторую половину спектакля Ира заливалась тихими слезами сострадания, глядя на те огромные глаза умной коровы – глаза с трагедией жизни, утаить которую едва ли возможно даже под светом софитов.
Мы смотрели «Дальше – тишина», не проронив ни звука. И всё, что в тот вечер было между нами дальше – тишина. Потому, что молчание бывает не только от пустоты, но и от крайнего переполнения.
1 апреля (вторник)
С радостным, трепещущим от возбуждения сердцем посвящаю этот вечер записи одного очень конкретного факта из последних событий!
Мне довелось вступить в контакт с существом иноземным. С существом, не по-человечески чутким. С лошадью. Более того, с женщиной среди лошадей – с кобылой, что, как и в случае с людьми, только преумножает сложность характера. Надо ли говорить, как сильно я волновался, на эту женщину пузом залезая? Тем паче, когда, оценивая прыть насмешливыми взглядами, меня покалывали несколько пар глаз мастеровых кавалеристов. Впрочем, я с высоты лошадиного крупа легко поплевал на производимый собою эффект и забылся в гармонии слившихся движений, эмоций и чувств – в конце концов, все когда-то начинают. Придёт время, и я так же беззлобно буду стебаться над новичками.
Справедливости ради надо отметить, что я отнюдь не по собственной инициативе очутился у стойла, среди скопища мух и возмущённого ржания. Меня туда привели. И привели не какие-нибудь сезонные обострения романтизма, а любимая Самусько. Просто-напросто у опытной лошадницы обнаружился в крови острый недостаток энкефалина.8 И я, видите ли, должен был ей его восполнить: сопроводить в конюшню и разделить там незнакомую мне радость наездника.
Не скажу, что мне только дай кого-нибудь в конюшню сопроводить и что я так охотно на это пошёл, но Ирка знает всё о слабостях моего чуткого мужского сердца и за эпоху нашего знакомства управлять им научилась – мастерски. Дрожа подбородочком и моргая влажными, как у рыб, глазами, она воспалённо канючила, громко стенала, всхлипывала, как водонасос, и минут сорок, изнемогая от страданий, на русском и французском признавалась, как дóроги ей изгибы конских спин, как важно ей чувствовать щекой тёплый турбулентный поток воздуха из их ноздрей, смотреть в огромные яблоки доверчивых очей, как она по всему этому истосковалась, как её все бросили и осталась надежда только-де на меня одного, на зов удалой доли казачьей крови в моих артериях и венах.
– Чё за блажь, Самусько? И вообще, как это понимать? – возмутился я вслух через сорок минут слёзного женского монолога. – Такое чувство, что я для тебя всего лишь унитаз, который становится лучшим другом на сильно тошнотные моменты или на моменты, когда чрезмерно пучит от гадостей! Ты обращаешься ко мне только тогда, когда тебе отказывают все другие? Мне обидно, между прочим. Ты когда в последний раз ко мне с чем-нибудь позитивным приходила? Для сопереживания счастья мы, – («мы» – это я себя иногда так скромно исчисляю), – не годимся, что ли? Анфасом-профилем не вышли?
Мне, в самом деле, было обидно. Значит, как бесплатные контрамарки на спектакли – так каким-нибудь фуксиям, а как экскременты с лошадиных копыт соскребать – так Самородский. На что это похоже?
– Да потому, – ответила Ира, нападая, – что ты, кроме своих полуголодных аквариумных рыбок и собственных гормонов, больше никаких животных не видишь в упор! К тебе обращаться – только расстраиваться.
Я слишком люблю Ируньку, чтоб сказать ей, мол, это – неправда, что в упор я очень даже увижу всякую зверюгу – и большую, и малую. Даже блоху на её диване от подобранного котёнка. Но спорить не стал – иначе мы ввязались бы в перепалку и скатились бы до мелочных обвинений, типа «Ты мне испортил всю жизнь!». Близилась ночь. Или, как это обычно говорится в подобных случаях, – смеркалось… Честно сказать, вся эта затея с верховой ездой в столь позднее время была мне, культурно выражаясь, не очень по душе. Тем более что я был не ужинамши. Но я покорился и, ослабленный стрессом и девичьей слезой, смиренно позволил транспортировать себя вниз по Рязанскому проспекту до пункта назначения.
Мы вошли в полночь и робко попросили смотрящего (или как там он у них называется). Смотрящий, молодой человек с природной пушкинской завивкой волос, был склонен к дневному образу жизни – на зов откликнулся с плохо скрытом на заспанном лице раздражением. Мы робко попросили у него экипировку для выездки (или как там она у них называется) и с извинениями пожелали его кучерявой голове удобно пристроиться на подушке.
В стойлах перебирали ногами полусонные лошадки. Копытные недовольно фыркали и настороженно подносили к незнакомцу кожаные футляры морд. Катьку я до этого никогда не видел. Но, братцы, когда я увидел её, эту аристократку белой кости и белой масти, я умилился, сердцем – размяк, а душой – взбодрился. Во мне проснулись казаки по материнской линии. Зачарованный я видел себя чубастым молодцем, карьером летящим по степи в гудящей лаве. Над головой моей высекала из воздуха искры вострая шашка, на могучей груди, заполненной громовым «ура!», подпрыгивали и, стучась друг о друга, позвякивали в полном наборе Георгиевские кресты, а ноздри приятно щекотал дым сожжённого неприятельского лагеря. Я принял позу. В движения вошло раздолье и грозная решимость. Мне захотелось верхом.
Тем временем Ира живо обхаживала кобылу, подготовляя к выездке. С некоторых пор эта конюшня стала для Иры вторым (после театрального) домом. Кобыла ещё не прилежит к числу движимого имущества полячки, но знала её далеко не первый месяц и только с лучшей стороны, а потому спокойно отдаётся заботливым рукам своей хозяйки.
Извергов, которые тревожат бедное животное среди ночи по одной своей бабьей прихоти, кроме нас, больше не нашлось. Манеж был свободен и открывал широту для маневренной выездки. Утомив животное галопированием и мастерской вольтижировкой, взмыленная наездница Самусько, торжественно подвела Катьку ко мне и вместе с уздой, седлом, лукой и стременами отдала в пользование, словно вручила переходящую награду, сопроводив жест вызывающе сакраментальной фразой:
– Бери. С тобой женщина остынет.
Я не сробел – принял под уздцы. Полез, хотя страх опозориться сказывался даже в том, чтó и кáк я промямлил Ире в ответ.
Надо сказать, Катька – барышня с характером. Норовистая, немного капризулька – впрочем, какой и должна быть любая женщина, по-моему. С объятьями незнакомого мужчины долго не соглашалась. Перекатывая мускулатурой меж моих деревенеющих ног, выражала свой протест тотальным игнором корявых дилетантских команд. В итоге я запарился и запутался вконец, дёргая её направо вместо лева и наоборот. Пришлось заговорить с лошадью по-русски, матом, чтоб быть убедительней. Грубая сила голоса вынудила её признать моё превосходство, и с той минуты наш тандем стал подлинным украшением манежа: как трон, исполненная достоинства и грации блондинка, а поверх неё – Иван-дурак, на мгновение ставший царевичем, с напряжённой улыбкой, оживлённо переваливающийся с бока на бок при каждом движении женщины снизу. Куда там, думаю, карьером – шагом бы осилить…
И вот я сижу сейчас, быстрыми строчками заполняю собственную память, едва не пылаю лихорадочным жаром. Наверно, я заболел. Дело не в ноющих бёдрах и спине. Дело в движении естественном и в то же время аномальном, в двустороннем общении с умными глянцевыми глазами, сопереживающими, ведающими, кажется, самую потаённую твою тревогу. Дело в губах, что мягче материнской груди, и в том, как бережно эти лоскутки бархата снимают морковку с твоей ладони. Дело в бескорыстии, с которым лошадь отдаётся на волю слабому младшему брату – человеку.
Я даже не буду пытаться жить без этого теперь, когда о многом узнал из приглушённого рассказа копыт. В моих силах сделать это спутником жизни.
Семейный триллер. Продолжение
«Едва Он подошёл к входной двери и звякнул ключами, как дверь распахнулась, и его взору предстала шикарная белокурая женщина. Супруга стояла, опершись о косяк двери, нарочно дразнясь изгибами тела. Подняв соскользнувшую с плеча бретельку платья, Она улыбнулась ему и пригласила войти, слегка растягивая слова:
– Милости просим, барин. А мы уж вас заждались совсем.
– Ты прекрасно выглядишь. Чё это на ночь глядя?
«Барин» вошёл, и Она захлопнула дверь. А потом потянулась за его поцелуем, но вдруг отстранилась и произнесла:
– Проходите, барин, и всё сами узнаете.
В который уже раз Он отметил про себя её красоту, ум, характер, мастерство управлять отношениями. Было время, когда Он это бесконечно ценил, а сейчас… «Ну ладно – попробую ещё раз».
Свет в квартире был погашен, ориентиром служило лишь слабое мерцание из гостиной. Он причесался, вытер лицо и руки о влажную салфетку и пошёл на свет. Ожидание сюрприза расплылось в улыбке…»
6 апреля, 2003 год
В Ирке бродит молодость. Гуляет душа моя напропалую, а о Катьке вспоминает лишь для того, чтобы заботу о ней целиком и полностью взвалить на горб моей вдруг очнувшейся совести. Я её понимаю: в 21 меня тоже тяготила бы любая ответственность, и усыпанные стразами инстинкты меня тоже больше бы влекли в московские клубы, нежели в конюшню. Ну, ладно. Мне-то хорошо, мне-то – как бальзам на раны, а вот Катюха тоскует…
7 апреля (понедельник)
То ли родить от смеху, то ли умереть на месте!
Рассказываю.
«Дальновидное» начальство впервые на моей памяти поступило разумно: в попытке удержать ценного и перспективного сотрудника (то есть – меня) повысило ему (то есть – мне) зарплату. Такие же конвульсивные вздрагивания бывают у мозга, когда к нему перестаёт поступать кислород. Это зовётся агонией. Проблески гениальности при общем маразме. Вспышки энтузиазма на фоне делового упадничества.
Видимо, я настолько приучил их к собственному безволию, что решили, подкормившись, мне будет совестно обижать их своим заявлением. Им трудно понять, что мотив Поступка может лежать вообще вне финансовой неудовлетворённости (особенно в случае угрозы личностного распада). Что глаза человека могут открываться не только на ширину монеты, и что зубы могут щёлкать не только в унисон банкомату.
Кому-то длинный рубль напоминает спасительную соломинку, мне же больше – ксиву чекиста. Он лишает инициативы. Он разрушает бдительность и отравляет решимость. Он гад навязывает свою волю и вынуждает подписать гибельные для тебя бумаги. Ты становишься желеобразным, невнятным, похожим на образ совковой единицы. Замшелый, безликий и жалкий снова садишься спокойно наблюдать, как зеркальное отражение тебя гибнет в диссонансе среды и собственных возможностей.
Уберите прочь свои проклятые серебряники! В отличие от многих ваш рубль – пахнет! И не просто пахнет – он воняет. Воняет, смердит разложением личности. Он произрос на прахе погибших замыслов и шелестит могильным плачем деятельного ума. Ваш хлеб – заплесневел, ваше масло – прогоркло! Я ухожу не от трудностей. Трудностей я не боюсь – я желаю их! Я ухожу от правила Прокруста, где мерят под себя и под себя же режут!
Теперь, внимание: хотите – записывайте, хотите – запоминайте. Я дышу свободнее – и звучать буду ещё патетичней!
Прощай, о мой сосуд подавления! Я покидаю тебя налегке, как возмущённая пена покидает бутылку с шампанским вином! Я салютую и оставляю тебе всю твою дрожжевую затхлость! Пробку – долой, я – высвобождаюсь. И пусть удаляющийся стук моих уверенных шагов раздавит тебя в пыль, как фанфары марша победителя! А я прослежу, чтоб ни пылинка не зацепилась за подошвы моих сапог. Аминь.
Семейный триллер. Продолжение
«Войдя в комнату, Он сразу огляделся, как обычно делал в местах, куда попадал впервые. И хоть всё здесь ему было хорошо знакомо, Он не чувствовал себя дома. Всё было по-старому, но как-то иначе. Что-то мешало, давило, казалось необязательным или вовсе чужим. Быть может – жена, эта хранительница очага, гармонии и равновесия в доме? Нелепо было такое подумать – но он подумал. И встал в проходе, пока Она сама его не пригласила шутливо и нараспев:
– Ну что же вы, ба-арин? Так и будете в дверях-то стоя-ать?
Затем Она встала и включила музыку.
Он сразу приосанился, распрямился, выдвинулся вперёд и расположился за столом, который Она своими силёнками как-то передвинула на середину зала. Стол был украшен серебряными приборами скорее для красоты, потому что есть-то по сути было нечего, кроме одного-единственного блюда. Но этим блюдом был маринованная в белом вине рыба, названия которой он не знал. Рыба лежала в центре стола на широкой тарелке, дно которой было художественно устлано листьями салата. Кроме этого, на столе красовалась бутылка вызывающе дорогого белого вина, а по обеим сторонам от рыбы в струнку вытянулись две изящные свечки. Небогатое освещение от них плавно растекалось по комнате и, сглаживая все углы и неровности предметов, выставляло их в самом выгодном свете. А возле стола, на комоде, Он заметил книгу её любимых сказок Андерсена, как будто случайно забытую…»
13 апреля (воскресенье)
У моей Ируньки есть любимая подруга. Тоже – Ирунька (на самом деле – Ирэн, но кого этот пижонистый нюанс интересует!). И тоже актрисуля. Красивая, как чертовка, и недоступная, как миллион долларов. Премилое создание с тончайшими запястьями, разлётными бровями и кавказской фамилией, известной в народе вызывающе европейской наружностью её обладателей. Творчество Набокова и двойной эспрессо она глотает с одинаковым аппетитом постоянно растущего интеллекта.
Она меня робеет почему-то.
Не знаю, чем я мог её так напугать, но даже на провокационные расспросы сокурсниц обо мне она всегда отвечает только правду. Портит, словом, мою репутацию. Могла бы и соврать, между прочим. Но на вопрос «Харатьян, ты спишь с Самородским?» она несколько раз прерывисто выкрикивает «Нет!» и надувает пухлые губки, словно в обиде за то, что я их никогда не целовал.
Вдруг позавчера она изловила меня в эфире ночной столицы. За вечер разработала агрессивный макияж и к полуночи скрыла под ним все комплексы и страхи. А также ум, здоровье и маломальский жизненный опыт. В общем, начисто утратила собственную личность и портретное сходство с паспортом. И обновлённая встретила новую ночь с волевой упорностью амазонки.
Чертовка знала, где меня искать. Поэтому сразу пошла по дешёвым кабакам. Есть на Китай-городе одно заведеньице, где стеллажи уставлены книгами. Предполагается, что и чужой водкой и чужими мыслями из борзописного ширпотреба здесь следует упиваться одновременно. Мы с Женькой любили его, хоть при этом тусклом и затабаченном свете так и не смогли прочесть ни строчки.
Позавчера мне не пилось. Мой стакан упал, и у меня даже ничего не ёкнуло, когда пиво бросилось на свободу через его стеклянные стены. Харатьян нашла меня, когда я сидел за столом и мутно смотрел, как хмель утекает в трещину стола, точно годы молодые. Она подсела, не поздоровавшись, и нагло спросила:
– Ну что – много прочёл?
– Неа, – помотал я головой.
– А что так?
– Если я начну интересоваться тем, что думают и пишут идиоты, у меня не останется времени на мысли умных людей.9
– Жаль. А то я вот тоже зашла книжоночку на ночь полистать.
– Романчик с неприличным названьем?10
Эта ассоциация мне показалась смешной, и Ира увидела в ней знак для несдержанных действий.
– Мой неприличный романчик – это ты, Самородский, – сказала она, и провокация искрой пробежала по её зачернённым ресницам. Я приоткрыл было рот для внеочередной сальности, на которые так горазд, но в самый последний момент вспомнил, что нахожусь на пути к исправлению.
– Забудь, обо мне, уважаемый читатель, – из меня все страницы теперь вырваны.
– А я, может быть, юный книголюб! – продолжила она. – Я проглажу тебя горячим утюжком и вклею все твои недостающие листочки.
Тут она взяла меня за руку, вывела под свет уличного фонаря и, преломлённая в талии, выставила передо мной своё аппетитное бесстыдство, как бы вопрошая:
– Ну, что скажешь?
– Ты, как Масленица.
– В смысле?
– Столько же теста, жареного на масле, – пояснил я.
– Ты что – дурак, Самородский?
Её реснички задрожали, подбородочек затрясся, каблучки начали оступаться и проваливаться в щели брусчатки. Ну, что мне оставалось делать? К тому же она была так красива…
– Я у тебя первый, конечно? – подмигнул я, когда мы снова вышли под свет московских фонарей.
– Ну, – чирикнула она, намотав бронзовый локон на указательный пальчик, – если не считать предыдущих, то – да, первый.
Она порхнула ресницами и сгинула в тумане предрассветного утра.
Я же остался стоять на китай-городском пустыре, растворяясь в ультрамариновых парах своего сексуального экспромта. Повернулся лицом к витрине, где, как в зеркале, без всякой лести отразилась моя изломанная беспутством фигура, и подумал: «Наверно, она так передо мной извинилась. За весь тот священный позор, которому прилюдно меня много раз подвергала. А я, стало быть, её извинил. И что ж теперь? Друзья?..»
Семейный триллер. Продолжение
«Ах, как Она была соблазнительна в отблеске этих свечей! Тени от ресниц ложились на щёчки глубоко и ровно, глаза укрупнились и потемнели и стали похожи на две океанские впадины с несметными сокровищами затонувших кораблей в их недрах. Малейшее движение было преисполнено кошачьей грации и изящества. Бретелька то и дело соскакивала с её хрупкого плеча, а в глазах и на губах играла роковая томность, уверенно сочетаясь с вороватой застенчивостью.
– Ты прекрасна, – выдавил Он из себя комплимент и, смилостивившись, добавил: – Я восхищён.
– Спасибо, любимый, это всё для тебя. Разреши, я за тобой поухаживаю.
Она распределила по тарелкам самые красивые куски рыбы, а Он налил в бокалы вино и ласково в пространство произнёс:
– За тебя, красавица.
– За нас, – подхватила Она, протягивая бокал для соприкосновенья. Он сделал вид, что не заметил этого движения и выпил свою порцию без промедления, залпом.
– Я очень люблю тебя, – проговорила Она и в свою очередь опустошила бокал.
– Я тоже, – отозвался Он, не уточняя, однако, кого именно.
С первой же вилки Он признался:
– Боже, как вкусно! Изумительно вкусно! Почему ты раньше не готовила ничего подобного?
– Потому, что раньше ты не давал мне для этого повода, – попыталась пошутить Она. Шутка не показалась смешной. Во всяком случае Он над ней не посмеялся. И даже бровью не повёл, будто не понял, о чём речь.
Спустя полтарелки и два бокала волнение испарилось, уступив место самоуверенной расслабленности. Отрывочные фразы преобразовались в добрую беседу, не отвлекавшуюся более на тосты. Прошло ещё немного времени, и из собеседника Он превратился в пассивного слушателя. Она всё лепетала и лепетала что-то про любовь, про радости семейного бытия, а Он её не слушал. Он смотрел на волосы, лицо, плечи, руки, пальцы, заглядывал в декольте и любовался, потягивая вино. Вскоре её черты поплыли. Он всматривался в них, напрягая уставшие глаза, и от напряжения заметил в них образ Бонни…»
14 апреля (понедельник)
Прекрасным апрельским днём старые друзья-приятели наконец-то высвободились из праздничных пут городской холостяцкой жизни и собрались вместе. Четвертью века проверенную компанию составили нордический красавец и циник журналист Толоконников, южнославянский «томагавк войны» Максим, пухленький боровичок Андрейка и я, ведущий неказистые эти строки.
Очередной провал Андрейкой кандидатского минимума, ясное дело, не мог не послужить поводом для мальчишника, хотя друг друга мы убедили, что собрались просто посмотреть футбол. И пообщаться.
– Ну? Чё молчим-то? Может, поговорим? – предложил Макс, спустя сорок минут.
«Спартак» играл вяло, пиво быстро иссякло, и, мучаясь, как изжогой, игрой любимой команды, мы переглянулись.
– О чём? – зевнул Серёга во всю пасть «акулы пера».
– Ну понятное дело, что не о «Спартаке» вашем, – хмыкнул Максим, с малолетства отдавший свою совесть аббревиатуре «цска», давно утратившей былые значение и смысл.
– А о чём тогда?
– О футболе.
– Это о Марадоне, что ль, твоём любимом? Я уже и так татуху «d10s»11 набил под влинянием твоих пламенных речей. Мы все уже признали его лучшим футболистом мира, успокойся.
– Кстати о мире. Граждане с чувством ответственности здесь присутствуют? – выступил я, подгоняя в бокале язычком остатки пивной пены.
– Тамбовский волк тебе гражданин, – икнул Серёга.
– А что, Самородскай, – заинтересовался Андрейка, – есть сомнения?
С недавних пор теле– и радионовости, как рот мальчиша-плохиша12, заполнились единственной документалистской сладостью, которая не то чтобы сильно меня волновала, но дискуссию обещала интересную.
– Друзья мои, – начал я, – англо-американцы вторглись в Ирак. Прошло уже столько времени, а мы – ни в одном глазу. То есть – ни ухом, ни рылом. Как-то неприлично продолжать обходить эту тему стороной, я считаю, тем более что Марадону мы уже обсудили вдоль и поперёк всех полосок на его аргентинской майке.
Собутыльники дружно закивали.
– По моему скромному мнению, – продолжал я, – Россия от этого только выиграет. Свою точку зрения готов обосновать на шпагах. Но для начала хотелось бы услышать ваши мысли, господа. Прошу вас – высказывайтесь. Но по одному, ибо – регламент.
Умами собутыльников Мысль – и родился Спор. Жаркий и беспощадный. Мужской. Это когда кулаками по столу, пятками в грудь, и чтобы никаких баб.
Первым взял слово наш политолог Андрейка.
– Господин Самородскай, – сказал он и грохнул опустевшим бокалом о стол, – совершенно не понимаю, чтó Россия может выиграть от войны, сска, в Ираке. Многолетние советско-российские инвестиции в нефтяную промышленность этой страны пошли прахом. По окончании войны эРэФ в числе делящих нефтяной «пирог» не окажется. Может, корочку подгоревшую кинут в виде всемилостивейшего, сска, допуска наших геологов и инженеров на их предприятия. – Он облокотился о колено, чуть подался вперёд, указательным пальчиком ткнул в пространство и заговорщицки проговорил мне в розовое лицо: – Саддам Хусейн, конечно, нехороший политический деятель. А как человек – возможно, ещё хуже. Но это личное, сска, дело иракского народа! Вот если бы в Ираке была гражданская война, и были бы официальные просьбы о помощи через ООН – вот тогда другое дело. А сейчас, сука, – агрессия в чистом виде в погоне за контролем над нефтеносным районом.
Слушать политическую мысль Андрейки – это всегда сплошное, сска, удовольствие. Однако на вопрос мой он всё же не ответил. Или не успел ответить – встрял боевитый Максим.
– Теперь ясно видно, – разверз он уста в праведном обличении, – что хвалёные профессионалы Пендосии и воевать-то толком не могут! И если им в голой пустыне люлякей дают, то что было бы в нáших полесьях! А если б эти сволочи вошли в Косово!.. С нетерпением жду случая, – раздухарился он, – как-нибудь… Миккимаусы вонючие! Отомстить им за казаков Лиенца!
– Многоуважаемый господин Самородскай, – сказал Андрейка, выдвинув под столом свои полные ножки, – редкий случай, когда могу целиком согласиться с господином Зениным.
– Ну, – отозвался я, – предположим, что и я согласен с «господином Зениным». Речь-то не об этом.
По-моему, в этот момент «Спартаку» красиво занесли в самую «девятку».
– Господин Толоконников, – поинтересовался Максим, – а вы-то согласны с господином Зениным?
Серёга вальяжно поднял веки, скосил глаз и начал:
– Тамбовский волк тебе господин. Я был против войны ещё до её начала. – Сердца наши едва не зашлись: каким-то чудом вратарь отвёл новую угрозу от спартаковских ворот. – Так вот. Я был против начала войны в том её виде, в котором она предполагалась и, собственно, зачиналась: с пох..истистикой на мировое общественное мнение. Но уж коль она началась, то я поддерживаю америкосов так же, как я сопляком поддерживал советских солдат в Афгане. Не берусь предполагать, кто из этого выиграет и сколько, но считаю, что с террором разговаривать может только сильный и только с позиции силы. Обороняться от него только нападением. Нефть или не нефть – для меня как для простого жителя планеты это вопрос вторичный уже. Пусть мировые корпорации там сами потом разбираются – мне параллельно, у кого из них бензин покупать. А вот шествие исламизма по миру меня тревожит. Неспокойно как-то за близких и самому ещё хотелось бы при конституции пожить, а не под законом шариата. Поэтому давить эту гадину! Хоть с ООН, хоть без. И в её же логове.
– Вот-вот, – поддакнул я.
– Многоуважаемый господин Толоконников! – в очередной раз взял слово Андрейка так, что от негодования взметнулся к потолку его всегда послушный чёрный хохолок. – Я категорически отказываюсь понимать, кáк можно поддерживать захватчиков!..
– Как? – ухмыльнулся Максим. – Под белы рученьки!
– Зенин! – взвизгнул Андрейка, и на могучем пузе его отлетела пуговица. – Щас, сска, вылетишь отсюда! – Максим снисходительно промолчал, Андрейка же вновь овладел всеобщим вниманием. – Кáк можно поддерживать захватчиков, самым беззастенчивым образом нарушивших все возможные законы международного публичного права? Практически уничтоживших данную отрасль права! К чёрту Хусейна – не о нём, сска, речь! – «Спартаку» заколошматили ещё «баночку», а Андрейка явно казался увлечённым проблематикой беседы. – Давно в мире не было столь откровенной, ничем неприкрытой агрессии против другого государства, со столь откровенными колониальными целями! Или что – вы настолько, сска, наивны, что порошочек в пробирке, которой Пауэлл13 потряхивал на совбезе ООН, приняли за оружие массового уничтожения и поверили, что Вашингтону есть дело до тех, кого им будут массово уничтожать?! Нефть, нефть и дестабилизация региона у российских границ, – Алчущий понимания он простёр к нам руки, точно проповедник, – вот, что я хочу донести до вас, смертные!
В этот момент прозвучал свисток, возвестивший об окончании первого тайма, и команды с разными чувствами отправились по раздевалкам на аудиенцию с тренерами. Максим оперативно собрал со всех деньги и начал собираться в магазин, я же отдался раздолью мысли.
– Друзья мои, – говорю, – я не совсем об этом. Прав ли папаша Джо или нет – можно спорить долго, и консенсус на эту тему мы выработаем вряд ли. Я спросил, – говорю, – о выгодах и роли России в этой войне. В любом случае «священная наша держава»14 выигрывает политически, что гораздо важнее, и вы с этим согласитесь, сиюминутных экономических выгод. Смотрите сами. – Я хрустнул остатками вяленой рыбёшки и, поводя в воздухе пятернёй, стал гипотетически предполагать: – Вариант первый: США доводят своё дело до победного – тогда система международного права окончательно посрамлена и вые..ана. ООН остаётся в дураках, и наступает глубочайшая конфронтация между цивилизованным миром и интересами Штатов, их политикой навязывать этому самому миру свою первостепенную волю. Внимание! Все чаяния и взоры молебные на кого падут? Ну не на Китай же. Правильно – на Россию на матушку, единственную, кто способен противопоставить США хоть что-то внятное. Вариант второй: Буш увязнет в арабии, как муха в говне, либо во время войны, либо в её последствиях. Здесь мама-рашша выходит на арену мировой политики, гордо воздев подбородок, как владелица самого громкого голоса против войны. Мол, мы говорили, мы протестовали, мы предвидели заранее и предупреждали, а нас никто не слушал. Естественно, что в данной ситуации к её мнению тогда не смогут не прислушаться, в то время, как авторитет США начнут стремительно упадёт. В общем, в интересное время живём, граждане, – что-то да будет.
У неутомимого политолога Андрейки, как всегда нашлись возражения. Сию же минуту.
– Многоуважаемый господин Самородскай, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Ты упустил ещё один вариант, сука, развития событий, – не без самодовольствия сказал он. – Америка выигрывает войну и делит Ирак с Англией. Так как вся система международного права вместе с ООН, как ты совершенно верно заметил, посрамлена и вые..ана, вслед за Ираком оккупируются другие, не менее лакомые страны нефтеносного Ближнего Востока и мира. Венесуэла, например. Часть из них не станет сопротивляться и подвергнется «мягкой» колонизации. Часть будет захвачена, сска, вооружённой рукой. Перед Евросоюзом встанет вопрос ребром: либо мы такие честные и справедливые и в разделе не участвуем, либо – «господин барон, присоединяйтесь». Но – раз пошла такая пьянка – режь последний огурец! Евросоюз, подсчитав в уме прибыль и убытки, на этот раз к агрессии присоединится… Кстати, а рыбка ещё осталась? Серёнь, подай кусочек. Спасибо… Так вот. – За мыслью он следил строго – цепь последовательностей никогда от него не ускользала. – Китай, сокрушённо кивая головой, под шумок прихватит какое-нибудь из сопредельных государств. Мир, сска, будет поделен, и Россия в этом дележе участия не примет, так как реальных сил у неё для этого просто-напросто нет. Одни понты, которых хватит, разве что, на новый состав команды «Зенит». В результате захвата основных нефтяных месторождений цены на чёрное, сска, золото резко упадут, а это чревато для России экономическим крахом. Как естественная реакция на территориальные захваты и передел мира, прибавят в весе национально-освободительные движения радикального фундаменталистского толка, а также крайне, сска, левых и крайне, сска, правых течений в Ливии, Сирии, Египте. И вот тут-то, сука, начнётся самое, как ты сказал, интересное… Надеюсь, – заключил Андрейка, обсасывая хвостик, – что этого всё же удастся избежать.
Вслед за Андрейкой свой вариант сценария не замедлил предложить ещё один бог-аналитик – Толоконников.
– Кстати, – встрял Серёга, – если ООН и осрамится, то в лицах оонистов не произойдёт ровным счётом никаких изменений. Там такие одарённые артисты сидят, что состроить рожицу а-ля «янеприделах» им не составит усилий (как это, замечу, было уже неоднократно). И «работа» продолжится в привычном режиме: недееспособная ООН убедительно настаивает, что-де по-прежнему вершит судьбы народов, а НАТО, убеждённо с этим соглашаясь, беспрепятственно ведёт свои творческие поиски оружия массового уничтожения дальше, заглядывая всё глубже и глубже в нефтяные скважины. Все – счастливы, все – при деле, Россия – одна со своим не пришитым к манде «гласом вопиющего в пустыне».
– Вот именно, – поддакнул Андрейка. – Так что, какие тут выгоды?
Политический спор, как и бывает в подобных случаях, почти полностью подчинился инициативе Андрейки. Тем не менее, под языком у меня ещё нашлась парочка аргументов.
– Какую печальную картину вы нарисовали, братцы, – отреагировал я. – Как и вы, как и большинство, надеюсь, разумных людей, полагаю, что подобное всё-таки не произойдёт. И не произойдёт это по той причине, что вы сильно преувеличиваете военные способности США.
– Я не преувеличил – не умеют они воевать, – вклинился Макс, ни дня не прослуживший в армии, и выскочил за дверь.
– Ну не совсем же полные идиоты там, в Вашингтоне, сидят! Они ж академиев наканчали и должны понимать, что время римов и рейхов прошло и удержать в своей деснице полмира уже не выйдет. Джин из бутылки выпущен, и теперь такая катавасия пойдёт – не до нефти им будет (и, между прочим, на очереди стояли не нефтеносные страны, а Северная Корея, если мне память не изменяет), дай бог самой Америке не развали: Техас, Калифорния… Ещё три-четыре таких года, и силы экономики этой страны будут истощены. Они и так при Буше в долгах по самую Миссисипи, а военные походы по Востоку и вовсе выжимают из них последнюю кока-колу. И предложенный тобой, – с вызовом взглянул я на Андрейку, – вариант развития цивилизации больше на страшную сказку похож: ведь сказано же в пророчествах, что перед концом будет рассвет России, и золотой православный крест ещё воссияет над куполом Святой Софии в Царьграде. Так что флаг – нáм в руки, священный, трёхцветный!
Ах, как я пожалел, что в эту минуту рядом не оказалось Максима – уж он бы ухватился за фразу! уж разошёлся бы ученик Ильи Муромца!.. Андрейка же так возмутился и, возмутившись, так напрягся, что потные градины повисли даже на мочках ушей.
– Многоуважаемый господин Самородскай! Саша, – схватился он за голову, – что ты несёшь?! Что ты, сска, мелешь?! Ты что, к бабкам ходил? Какие нахрен пророчества? Какая, к едрене матери, сска, Северная Корея?! Перекрестись, брат! Я тебя уверяю, что при всех реверансах Кондолизы15 в сторону Ким Чен Ира, следующей в очереди будет не она по трём причинам. Причина первая. – Андрейка принялся загибать пухленькие пальчики. Предваряя первую причину, загнул почему-то сразу два. – Наплевать им на отсутствие или наличие там демократии. Их интересуют деньги и только деньги, которые они там смогут сделать. В Корее, – говорит, – нет ничего такого, за что не жалко было бы гробить солдат и губить дорогую технику. Причина вторая. – Мыслящий Андрейка промокнул салфеткой увлажнившийся лобик. – То, что у Саддама нет оружия массового уничтожения, доказала комиссия ООН, после чего успокоенные америкосы туда и полезли. А у Северной Кореи вполне может оказаться что-то весьма, сска, серьёзное. Где гарантии, что из десяти баллистических ракет хотя бы одна не долетит? А этого будет вполне достаточно. Или есть сомнения, что тамошний режим засмущается перед мировым сообществом шарахнуть в ответ на агрессию? – Андрейка поддерживал мысль целостно и широко: пораскидал вокруг себя рыбьих очисток, Серёгу дважды задел размашистым вспомогательным жестом. – И наконец – третья. Если даже у Северной Кореи ничего опасного и нет, то несомненно, что там есть джунгли, к которым американцы с некоторых пор стойкое отвращение имеют. Там есть самая, сска, многочисленная в мире армия, а также агрессивно-фанатичное население, истинное настроение которого никому неизвестно и которое не возьмёшь измором: они и так уже сколько лет, сска, голодают в отличие от избалованных нефтедолларами иракцев – привыкшие. Я полагаю, – подытожил он, – можно сделать вывод: если агрессия против Северной Кореи и будет, то не в ближайшем будущем. Хотя, может, я и ошибаюсь. Что вряд ли. Но – время покажет.
Некоторое время спор ещё продолжался. По инерции, без напора. Когда команды вышли на второй тайм, реплики немного поутихли. А когда «Спартак» стал методично сравнивать счёт – схлынули вовсе. Тут ещё Максим приволочился, отягчённый добычей – и мы славно долежали тот день… тот вечер и тут ночь.
Из утренних новостей узнали, что «Спартак» сгонял-таки вничью. А из новостей годиков так через пять было бы интересно узнать, чей же прогноз оказался точнее.
Семейный триллер. Продолжение
«Как же она поразительно похожа на Бонни», – пронеслось у него в голове. Он зажмурился на миг, мотнул головой, чтобы прогнать «чёртовы мысли», но наваждение не исчезло, а, напротив, только усилилось. «Сумасшествие какое-то!..». Алкоголь резко ударил в голову, дыхание участилось. Бонни распаляла его каждым словом, движением, жестом. Изнутри грудь уже подпирало какое-то необъяснимое юношеское волнение, а из живота туго давило взрослое желание соблазненного мужчины.
Последняя капля вина соскользнула с горячих губ, когда сдерживаться больше не было сил. Не отрывая от неё взгляда, Он поднялся и, обогнув стол, встал сзади. Затем нежно взял её за плечи, наклонился к уху и жарко выдохнул, облизнув губы:
– М-ммм, как я хочу тебя…
Окончание фразы пронеслось только у него в голове: «Бонни!»
Утолившись сперва на столе, за которым они едва успели доесть рыбу, затем в коридоре на полу между обувными рядами, Он укрывал её сплошным ковром из поцелуев в спальне, беспрестанно, словно в бреду, что-то шепча. Она всё напрягала слух, силясь понять его неразборчивый шёпот, но вскоре просто расслабилась и отдалась мыслям, крутившимся в голове, не достигая осознания: «Боже мой, неужели получилось?! Казалось, такой пустяк, а как подействовало!..»
15 апреля
Сколько себя помню – всегда со мной происходят какие-то казусы. Какие-то несуразные, плохо объяснимые с точки зрения логики вещи.
То меня с моими жизненными установками угораздит родиться в конце двадцатого века в России.
То меня дружно командируют выигрывать для школы титул «Мистера» среди мальчиков не старше семнадцати лет.
То вокруг меня накрепко завяжутся узлы дружбы с блатарями.
То я успею нахамить декану, даже не начав студенчества толком.
То меня каким-то нелепым образом заметёт в вагон метро с фанатами «цска», и, пока они меня там от души охаживают, мои отчаянные соратники-спартачи подбадривают меня воинственным кличем за стеклом соседнего вагона.
То обеими ногами вляпаюсь в беспроцентное кредитование – да так, что эти «беспроценты» будут отщипываться даже от зарплат моих внуков, поминающих дедушку со слезами.
То в какой-нибудь истории с контрабандой отмечусь, хотя контрабандист из меня, как из Промокашки балерина16.
В связи с этим у меня и возникло подозрение: а не слишком ли опрометчиво было уволиться в Великий-то пост?..
16 апреля
Собрали междусобойчик.
Сначала думали нагрешить у Максима. Но у Максима воспротивилась собака, лохматая кавказка с отрезанными ушами и патетичной кличкой – Фрау Рифеншталь. Единственная дама на жилплощади она, услыхав о том, что предполагается присутствие ещё каких-то сук, выразила протест недвусмысленным образом. К тому же собачку уже сутки как не выводили.
Пошли к Толоконникову. Толоконников прихватил не особо мнительных женщин, Макс – гитару, я – собственное холостяцкое кредо. Словом, живописание такое:
Макс в комнате с тётками ведёт подготовительную работу, куплеты с припевами в горло под гитару разливая. Мы же с Толоконниковым в кухне ввязались в делопроизводство. Водку приготовили, мастерим закуску.
Как человек ответственный у Серёжи интересуюсь:
– А кубики куриные бросил?
– Куриные кубики, – отвечает, – нет. Бросил, – говорит, – козьи шарики.
Нагрубил подлец и даже не отвлёкся.
Я на какое-то время замолкаю и с пристрастием в себе разбираюсь. В чувствах, которые превалируют.
Банальная, надо признаться, картина, не раз кончавшаяся внесюжетной экспрессией: за тоненькой стенкой Макс об одной-единственной романсы голосит не уставая; три отборные тётьки вздыхают и хихикают, что, безусловно, хороший признак; перед моим взором маячит и гремит посудой хам и циник невозможнейший; а я мучительно соображаю – то ли придушить на месте гада, чего он давно заслуживает, то ли отдаться дружеской любви, чего он заслуживает не меньше, и заложить себя с потрохами его цинизму.
Как человек богобоязненный жизнь всё-таки решаю не отнимать. Интересуюсь:
– Шарики, говоришь, козьи? Для остроты, что ли?
– Для отупения, – молвит Сергей беспристрастно.
– А запах? Придётся же целоваться?..
Хоть бы тень на лицо!
– Целоваться, – говорит, – будешь только ты, мальчик.
Конструктивный диалог вести невозможно. Наверно, я вообще перестану реагировать…
Вот этим рассказом Толоконников заслужил в тот вечер расположение всех женщин:
«Живёт в офисе за одной со мной перегородкой коллега из отдела маркетинга. Дипломированная специалистка педагогических наук. Рефлексирующая незамужняя особь, бунтарка с головой, полной язвительных замечаний и высветленных волос, отрицающих укладку.
Решили с ней померяться уровнем захламлённости рабочих столов – то есть, выяснить, кто из нас более трудолюбив. Непризнанный журналистский талант или молодая училка, интеллигентка в первом поколении.
Белые, как известно, ходят первыми.
Подвожу её к своим владениям. Самодовольным взором оглядываю признаки собственной неорганизованности. По-хозяйски простираю руку над грудой мусора…
Рабочая макулатура громоздится противотанковыми конструкциями, сколоченными наспех. В сплошной фоновый гул сливается могильный шёпот множества одновременно начатых, но так и недоделанных работ. С настенного цветника из ярких открыток укоризненно поглядывают комплименты былому профессиональному величию. Жалкими, измятыми перьями из советской подушки белеют типовые визитки партнёров. Как тюлени на диком побережье, ленятся на столе канцелярские принадлежности. Континентальными пятнами глобуса темнеют на мебели кофеиновые доказательства моей утренней слабости. Над океаном всего этого хлама безмолвно внимают вечности цивилизованные островки офисной техники. В общем, живая картина в сюрреалистическом стиле, которая пишется за день, а стóит, будто автор, не смыкая глаз, корпел над ней полгода.
– Ну, как? ― спрашиваю. ― Есть что противопоставить?
Коллега ответила взглядом римского прокуратора, который, в принципе, никому ничего доказывать не должен. Его направление указало мне путь за перегородку. От увиденного пожухли и завяли все лавровые листочки воображаемого венка на моей голове.
Вирус стахановского энтузиазма, грибница будничных бдений, бобовые ростки предынфарктного трудоголизма охватили, скрыв от глаза, не только её рабочее место, собственное, но распространились и укрепились на соседнем.
– Ещё вопросы? ― спросила она, ощупывая языком многолетний кариес.
Вопросов у меня не оставалось. Так я уступил первенство даме».
Молодец Толоконников! Джентльмен!17
Семейный триллер. Продолжение
«После этого идиллия просуществовала недолго. Первый сигнал прозвучал для него уже на следующее утро, когда полусонные воспоминания о вчерашнем заставили его сморщиться и съёжиться от холодка, сороконожкой пробежавшего под рёбрами. Была ли это Бонни? Обманывать себя не хотелось, но и говорить правду – тоже. Белые локоны на подушке рядом, выбившиеся из-под шапочки для сна, заставили его признаться: нет, Бонни пришла лишь вместе с хмельным помешательством. Дискомфорт одолевал. Дискомфорт вынудил подняться раньше солнца и затащил под душ. Долгий, контрастный, целебный, очищающий. В конце концов, душ помог ему взять себя в руки и подавить раздражение. До красна растеревшись полотенцем, Он сделался ласковым и тихим.
Однако не прошло и недели, как припадок совести унялся. Костёр благополучия погас, и обугленные головешки лишь зачерняли своей копотью душу. Красочной и незамутнённой пока оставалась лишь единственная страсть. Сердце начинало колотиться, только когда Он приближался к месту, где однажды ему улыбнулась незнакомка, и где Он маниакально ждал её снова. Иногда взгляд его становился взглядом безумца, и сам Он вел себя, как помешанный, но громадным усилием воли держал себя в рамках приличного гражданина.
А Она – ах, как Она старалась! Была весёлой и покладистой, осталась красивой и хорошей хозяйкой. Миллионам мужчин этого было бы более чем достаточно для счастья. И ему когда-то – тоже… Но Он изменился – неужели Она не может этого понять?! Иногда Он спрашивал себя: «Быть может, всё это – блажь? Переболею, перебешусь, чувства вернутся, и всё встанет на свои места?» Но чувства упирались и возвращаться не хотели. Ему приходилось ежедневно выслушивать от супруги признания в любви, а на вопросы о взаимности давиться кашлем либо отвечать односложно и скупо.
Как-то Она попросила мужа встретить её после работы. Он приволочился, и Она затащила его в театр на какой-то сентиментальный спектакль: любовь, смерть, трагедия жизни. Он даже всхлипнул пару раз, не говоря уже о ней – та заливалась слезами так, что только платки успевала менять. И вечером, после спектакля, Он вроде бы отошёл, оттаял вроде бы, и впервые за долгое время сам, без принуждения молящими глазами, нежно произнёс:
– Прости меня. Дурак я. И я тебя очень люблю.
Она чувствовала, когда Он искренен, а когда – нет, поэтому теперь заливалась слезами уже от счастья. Они шли домой, держась за руки, и так красиво смотрелись со стороны!..»
18 апреля (пятница)
Шестой месяц штурмую издательства.
Отбомбился по семнадцати (!) объектам в разных городах, и ни один из них не капитулировал перед натиском моего «таланта». Итог предвидим заранее: я засыпаю цели градом незаурядного (по отзывам) художественного чтива, но ни одна так и не оказалась поражена. Штампованный диалог представителя издательского Дома с моей согбенной персоной настолько заученно однообразен, что мне делается просто смешно каждый раз наступать на одни и те же грабли финала всей постановочной сцены.
Вступления всегда одинаковы: этикешно нормированы, проникновенно деловиты. Обыкновенно начинается так:
– Добрый день.
– Здравствуйте.
– Пожалуйста, сориентируйте меня, с кем можно переговорить относительно сотрудничества.
– Сотрудничество какого рода?
Едва сдерживаюсь, чтоб не ответить: «Сотрудничество» – среднего рода». Но отвечаю неинтересно:
– Делового.
– Я понимаю, что не культурного (!). А поконкретнее?
– У меня, – говорю, – есть кой-какие литературные работы – я бы хотел представить их на ваш суд. Возможно, что-то вы сочтёте интересным и издадите. – Здесь я снова едва сдерживаюсь от улыбки, поймав на слух лирический перебор собственного наива.
– Ясно… – С этого момента отметка на шкале издательской заинтересованности стремительно ползёт вниз. – Вообще-то, мы только известных авторов печатаем… – Увы, «ясно» становится и мне. – Не знаю… У вас – что? Стихи? Проза?
– Да, – отвечаю, – проза.
Представитель (чаще – представительница) начинает равнодушно ворошить списки с именами и должностями сотрудников. На моё везенье не уснув, выуживает оттуда самое на его (её) взгляд для меня подходящее.
– Вот. Обратитесь к (имя рек).
– Спасибо, девушка. Всего наилучшего.
– До свиданья.
А как всё вежливо-то! Иллюзия заботы и симпатии!
Всё же прорывает – не могу удержаться:
– Господь наградит вас за вашу доброту семью футами под килем.
– Лучше бы нормальной зарплатой…
Приоткрыв нужную дверь, интересуюсь, изумляясь собственной воспитанности:
– Добрый день. Прошу прощенья, мне необходимо переговорить с (имярек). Я не ошибся?
– День добрый. Нет, вы не ошиблись. Я уже в курсе. Проходите. Пожалуйста, садитесь.
Прохожу. Сажусь. Располагающе, лучезарно улыбаюсь.
Ладони постепенно увлажняются – в семнадцатый (!) раз, а почему-то волнуюсь, как дебютант.
– Итак, что у вас? В электронном виде? Машинописном? Рукопись?
– Нет-нет, – отвечаю, снизу до верху просияв: чистотой ботинок, белизной улыбки, незамутнённым сознанием, – в электронном.
Протягиваю диск. Движением, исполненным символического действа, дама медленно внедряет мою набитую генетической информацией штуковину в лоно дисковода своего ПиСи:
– Вообще-то, знаете, поскольку вы раньше никогда не издавались – мы отошлём ваш материал рецензенту. А он уже решит и в течение полутора-двух месяцев даст ответ. Сами-то мы не читаем.
– Хорошо. Только, надеюсь, не возбраняется фрагментарная демонстрация работ? Просто не хочу нагружать вас избыточным объёмом. А по тому, что представил, думаю, можно будет признать во мне наличие каких-то способностей либо отсутствие таковых.
Сам чуть не падаю в обморок от собственных формулировок.
– Наверное. Всё равно это никто не стал бы читать.
Ах, вот как!
– В смысле – целиком.
– Тогда, как мы поступим?
– Как. Если нас что-то заинтересует – мы вам сообщим.
– Хорошо. Спасибо. Всего доброго.
Дамочку давно уже больше занимают солнечные зайчики, с блошиным задором сигающие с её отполированных ногтей. Но всё же она отвлекается, чтобы вяло проронить:
– До свиданья.
Успокоенный осознанием выполненного долга, покидаю Издательский Дом необходимый ему, как браконьер заповеднику.
День за днём, через полтора месяца приходит ясность, отчего так влажнели ладошки.
А случаются и такие варианты. (Опуская вступление.)
– То есть, вы автор, и вы же собственный, так сказать, импресарио?
– В силу обстоятельств, видите ли.
– А что у вас за работы: роман? рассказы?
Наученный «силой обстоятельств» за плетнём интереса углядываю подвох.
– В основном рассказы. – В ответ на скисание спешу добавить: – Разных жанров и разных объёмов: есть и крупные работы.
– Знаете, за рассказы мы почти не берёмся – они сейчас плохо продаются. – (Антон Павлович,18 наше Вам почтение!)
– …
– Вы же понимаете, из каких критериев мы главным образом исходим, подбирая материал. Мы – коммерческая организация. Рассказы теперь не в моде, продаются плохо. И генеральный директор дал негласное указание: присматривать исключительно романы.
Секундная мысль кровью прыснула в глаза:
«Оспади! Присматривать! Я в книжную лавку попал или в дом благородной печати направил свои стопы? Романы!.. Избаловали вас конвейеристы грошовых иронических детективов, изневежился на ваше счастье читатель – вы и повадились под видом романов скармливать ему жёлтые страницы карманного формата в мягкой обложке. Толстой больше трёх лет писал свою „Анну Каренину“, а „Войну и мир“ и того – семь.19 Достоевский три года безотрывно корпел над „Братьями Карамазовыми“. Булгаков вынашивал „Мастера и Маргариту“ в общей сложности больше десяти лет и последние вставки в роман диктовал своей жене за две недели до смерти! Пастернаковского „Доктора Живаго“ я вообще поостерегусь в этой связи упоминать. Шукшин… Великого трудоголика Шукшина максимум хватило на киносценарии. Откуда же я, грешный и недостойный мученик воображенья, вдохновенья презренный раб о двадцати пяти годах, возьму вам роман? Из каких таких недр-глубин добуду это прочувствованное мерило жизненной реализации?»
В слух же бросаюсь объяснять, рассуждать, как мне казалось, почти фактологически о моей работе над ошибками большинства современных авторов, о недопустимости поспешного суда (по крайней мере, в отношении меня) … Походя, к слову, упоминаю о немногих, но всегда восторженных почитателях своего, гм-гм, таланта. Однако мои красноречивые доводы о том, что, возможно, я не только новый Толстой, но и новый граф русской литературы, что сотрудничество со мной возведёт их издательство на уровень, совершенно недосягаемый для конкурентов, стяжают лишь снисходительную улыбочку жрицы храма, изобилующего подобными дарами: «Мальчик, ты не первый. Сперва – огонь, затем – вода, только потом – издание, а уж медные трубы – счастье самых неотступных».
– Ну, распечатайте, – говорит, – принесите. Объём – не больше одиннадцати авторских листов.20 Полистаем, посмотрим…
И я, конечно, понесу – никуда не денусь. Ибо: «Ищите, да обрящете». Дорогу осилит идущий… И я иду. Иду, иду, бреду. Без опоры почти спотыкаюсь. Подползаю потихоньку. И каждым шажочком отмеряю: Боже—милостив—бýди—ми—грешному.
А тем временем, пока в святом самообмане жду каскада предложений и контрактов, совершаю шпионские вылазки в книжные магазины. И причина в том не прозаическая отнюдь, а дабы подсмотреть за трудами современных издаваемых литературных авторов. Дешифровать их открытые послания к «самой читающей нации в мире». Вознести, так сказать, воображение к вершинам-с и окунуть восприятие в глубины их творческих достижений.
Как шпион, незаметный для классиков, бочком прокрадываюсь к стеллажам «Современная проза». И всегда для того, чтобы с негодованием топорщащихся усов захлопнуть книжку уже после второго наугад выбранного абзаца.
Если сегодняшний уровень пошлости и безвкусицы так востребован публикой, что тиражируется в великих тыщах экземпляров, то упаси бог меня стоять на одной полке с ними, с «современными»!.. Скромно отведите под меня отдельную – я не обижусь.
Семейный триллер. Продолжение
«Прошла ровно неделя с того дня, когда Бонни чудным пушкинским мгновеньем появилась в его жизни. Такая же ясная погода, как в тот вечер, так же радовала офисную душу. После работы Он зашёл в кафе, чтобы расслабиться немного. Заказал коньяка, кофе, сигарет, чистой питьевой воды и принялся следить за уличным движением через окно. Так же лениво переводя взгляд с улицы на приближающегося официанта, в противоположном конце помещения он наткнулся на знакомые черты: «Боже мой, это ведь она!»
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу
2
Бродяга так ничего и не понял. Кутался в дорогую одежду, как в свою собственную. Его кондиция не позволяла оценить жест и хотя бы поблагодарить за жизнь, как минимум, спасённую. Мне это показалось хамством, Женька же проговорил: "На вот. Носи". Во мне что-то дрогнуло. Да так, что и сейчас я, ведя эти строки, не в пример разволновался. (прим. авт. – А. С.)
3
Главный персонаж кинокартины «Ночи Кабирии» Ф. Феллини. (С. О.)
4
Замечательно, великолепно, спасибо – итал. (С. О.)
5
Фр. savoir – узнать, уметь; vivre – жить. (А. С.)
6
Из спектакля «Юнона и Авось» московского театра Ленком. (С. О.)
7
Кстати, недурственное начало для рассказа. Или даже романа. Только вслушаться: «Мне… приснилась… женщина… с усами…». Сколько в этом музыки! (А. С.)
8
Гормон радости. Формирует настроение, управляет активностью мозга. (А. С.)
9
Оригинальная цитата Эрика-Эммануила Шмита. (А. С.)
10
Оригинальная цитата Владимира Высоцкого. (А. С.)
11
Сочетание букв и цифр, ставшее нарицательным по всему миру. В нём обыгрывается №10, под которым играл Диего Марадона, и слово «dios» – бог, в переводе с испанского. (С. О.)
12
Персонаж сказки «Мальчиш-Кибальчиш» А. Гайдара. (С. О.)
13
Колин Пауэлл, государственный секретарь США 2001—2005 гг. (С. О.)
14
Слова из государственного гимна РФ. (А. С.)
15
Кондолиза Райс, государственный секретарь США 2005—2009 гг. (С. О.)
16
Из к/ф С. Говорухина «Место встречи изменить нельзя», когда Шарапова сравнивают с шофёром, как Промокашку с балериной. (С. О.)
17
«Тамбовский волк тебе джентльмен», – слышу я голос за кадром. (А. С.)
18
Чехов. (С. О.)
19
На самом деле – больше десяти в последней редакции. Толстой начал роман в 1863-м, кончил в 1869-м, но последнюю редакцию вносил в 1873-м году. (С. О.)
20
Один авторский лист – текст объёмом в 40 000 знаков. (А. С.)