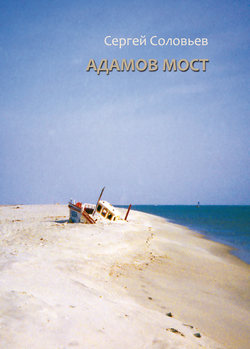Читать книгу Адамов мост - Сергей Соловьёв - Страница 7
Часть первая
Барка
ОглавлениеЛюба, зову. Уже без голоса. Люба… Не отвечает. Ни на звонки, ни на письма. А прильнешь щекой, стоит, опустив руки, и тишь в ней такая, будто она не здесь, а за окном, и снег идет в ней. Стоит, терпит. Пытка близостью – тех, кого уже нет.
А когда им, этим птицам-носорогам, приходит время высиживать потомство, он ее замуровывает в дупле дерева, оставляя маленькое оконце, чтобы передавать пищу из губ в губы и вновь исчезать на поиски. И если однажды он не вернется, мало ли что случилось, она, конечно, и сама могла бы выбраться из этой темницы, но ждет, верит, гибнет.
Помнишь, книгу счастья хотел написать, и мы бы в ней жили – и в ней и снаружи. И книга была бы как сад, а жизнь как дом. И мы бы сидели с тобой на крыльце, одни на свете.
Мы и сидели.
Счастья. Прости, что я повторяю слова, мне надо их трогать, я ж ничего не вижу. Счастье. Какое-то затруднение тут в начале. А потом отталкиваешься и летишь. Летишь, падаешь. Падаешь.
Ты так любила фотографировать этих птиц-носорогов, выискивала их в джунглях, подкрадывалась, как ребенок, рот приоткрыт и вслед за взглядом струишься к ним, чуть покачиваясь, будто уже на земле не стоишь, вот, говоришь, ну вот же, показывая на экран, а я на тебя смотрю и глаз отвести не могу, и неловко так ежусь от этого чуда.
Да, книгу счастья. Нет такой у людей, не написана. А почему? Это понятно, мы с тобой знаем. А кому еще объяснять? Некому.
Значит, книгу, ни для кого. Без сюжета. Без всего, на чем держатся книги. Без читателя. Потому что, как же ему войти туда, быть, со-пережить? Ничего у него не выйдет. Это как с близостью, она меж двумя, и больше там нету места. А в счастье – даже того меньше.
Из чего ж она будет, книга эта, из слов? Но они ведь разной природы – слова и счастье. Разве? Или привыкли к другим песням. Даже не в этом дело. Надо чтобы сами слова испытали его, стали им. Сами. Как птица – небом, в нем исчезая? Нет, не так. Как Адам, когда давал имена, а она, божьей милостью, читала их по его губам еще до того, как он их произносил? Нет ведь. Я знал их, помнишь? Помнила.
Что я мог знать? Но она ведь писалась, книга, самая светлая и пропащая. Ни для кого. Тебе, нам. От которых осталось теперь лишь зиянье. На том крыльце, куда письма слать.
Что ж, говоришь, мне ответить тебе на это счастье, на всю его подноготную, которая так болит, что ни вдохнуть, ни выдохнуть. И особенно в декабре, когда все и случилось.
Кто говорит? Кому?
Среди ночи проснешься от голоса за спиной: спи с улыбкой. Обернешься – нет никого. Как свет сквозь годы. За которым нет никого. С ней и сплю. С ней, не помнящей губ, на которых спит.
Что же было в той книге? Куда они с нами ходили, эти слова? В невозможное. Улавливая координату частицы и ее импульс. Это волнующе ты говоришь, с затемнением. А еще? В лес, в джунгли. И счастливы были, как мы. Если это странное чувство и опыт, которому имени нет, называть счастьем. Когда, уцелев, возвращаешься к людям и не узнаешь их, не понимаешь, зачем они, и зачем среди них ты.
Вот и выходит – трижды ни для кого: о счастье, не слишком о людях и вполкасания слов.
Значит, все кончено для этой книги – здесь, а там, за чертой, и не начато ничего. Вот и чудесно. Писал ее, помнишь, на том крыльце, и читал тебе, а ты слушала – и оттуда, из книги, и отсюда, из жизни. И белая тюль-арабеска, которую расписал кириллицей, дышала в проеме окна, и вдруг вскидывалась, выпрастываясь в сторону сада и нехотя возвращаясь на выдохе.
Я уходил, пока ты спала еще, за озеро, в сумрачную лесную топь, собирал тебе землянику, и все казалось, скользя ладонью в нежно узорчатой поросли и снизывая эти редкие огоньки, что за мной наблюдают немигающие глаза, змеиные, и пальцы мои слепые все ближе к ним, ближе…
Как же он назывался, тот цветок?
Я, говорит, работаю, все эти годы работаю, ты и представить себе не можешь, как тяжело – каторжно, внутри себя. Чтоб хоть какой-то просвет возник между нами.
Между какими «нами»? Этого не говорит. Похоже, и «между нами» тоже. Просвет, в этом лестничном спиральном тоннеле, ведущем вверх, на палубу. Там она и работает. Внутри себя. Выбиваясь из сил, из ума, из сердца. А я здесь, во тьме лежу, как закладка в книге. Той самой.
Люба, шепчу, люба… Нет ответа.
Мы вмурованы в эту барку, чем бы она ни была, с узким оконцем меж нами – для губ, роговеющих, как у птиц. Может, это и есть наш ад?
Как же он назывался?
А потом кормил тебя на крыльце, ты сидела в ночнушке в эту милую цветочную крапинку, а на ногах резиновые сапоги, и день просыпался таким же немного нескладным и милым, в такой же туманной сорочке, с коленями зябкими и в сапогах. Тихий такой и счастливый, как ты, с земляничкой у губ.
А потом, помнишь, мы откуда-то возвращались, голым вспаханным полем шли, разговаривали о том, о сем, и вдруг видим – цветок лежит посреди этого черного поля. На спине лежит, в небо смотрит. Как Болконский. Взяли его вместе с горсткой земли, принесли на нашу ветхую дачку и посадили неподалеку от крыльца. Подпорку сделал ему из щепки и поливал, он ожил к вечеру. «Цветок мы станем звать Андреем, он нам ровесник по уму», повторяла ты. Вот трое нас там и было – ты, я и Андрей. И книга, которую по утрам писал, а на закате читал вам – тебе и тебе. Что ж это был за цветок? И куда он потом исчез?
Извини, ты работаешь. Не покладая рук. Это я тут лежу – в буквах, как в муравейнике, выеден весь, одна кожа осталась. И свеча в изголовье. И шаги твои – там, наверху. Ты работаешь, ты китаец. Черное поле, желтое море, большая стена.
Как быстро бегут дни, сказал вчера мальчик. Вчера? Когда ты ушла, и глаза закрылись. Где ж они, эти дни? Нет их здесь. Как птицы сидят, нахохлившись, на индийском деревце. Давление, видно, падает.
Как птицы. Как дни.
Мишенью для метанья ножей служила она. В маленьком городке на севере, в чужой стране. И как она там оказалась, неясно. Кто ее нанял? Сама? Может, не городок вовсе, а какое-то замкнутое пространство. Особенно, по ночам. Сумрачные интерьеры, во множественном числе, хотя стены-то всего четыре. Значит, они куда-то ветвятся, что-то должно там быть – за ними, какие-то выходы-входы, ярусы, коридоры. Но ничего не видно, сумрак. И тело ее почти сливается с ним, а лицо, чуть освещенное, – вполоборота. Из тех, в которые вглядываешься, утрачивая себя, тонешь, тонешь… и разглядеть не можешь. И никаких источников света. Ни от чего, ни от кого. И все же, где-то вдали, в глубине интерьера, сквозь этот матовый черно-серый просачиваются пятна цвета. Но это не он, а скорее, отблески воспоминаний. Или напротив: какие-то аберрации зрения, окрашивающие предмет с опережением узнавания. Или еще: будто лампочка вспыхнула и перегорела, а свет еще длится во тьме, плывет где-то с краю радужным нефтяным пятном. Может, она и не служит этой мишенью, но что-то там происходит между ножами и нею, какая-то связь. Точней, уговор. Стоит вполоборота, а они летят. Но откуда – не видно. Из темноты, из-за нашей спины, но не только. Не успеваешь заметить – уже летит. Из глубины интерьера. Или кто-то стоит там, незримый, во тьме. И не один. Просто стоят, смотрят, не двигаясь. А они летят. Странные траектории. Не прослеживаются. Я бы мог с ней заговорить. Она ответит. Но что с того? Роль у нее такая, хотя тут совсем не игра. Лицо у нее глубокое, как море во тьме. Вполоборота. Видит тебя, держит, а смотрит куда-то в сторону дальней стены. Губы чуть приоткрыты, но ничего не прочтешь по ним. Такой уговор. Будто тонкий покров на лице из легкой тьмы. Не подходи, ничего это не изменит. Там ее место, а наше здесь. Будто она – одна. Одна из проекций… Или то, что имеют в виду, говоря: судьба. Наша с тобой. Да, Юлия?