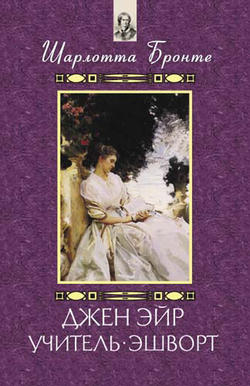Читать книгу Джен Эйр. Учитель. Эшворт (сборник) - Шарлотта Бронте - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Джен Эйр
Глава XIV
ОглавлениеВ следующие дни я почти не видела мистера Рочестера. По утрам он как будто занимался делами, днем приезжали джентльмены из Милкота или соседи, иногда оставались пообедать с ним. Когда его нога позволила ему вновь садиться на лошадь, он начал часто уезжать – возможно, возвращал визиты, – и отсутствовал до ночи.
В промежутках он даже за Аделью посылал редко, продолжение же моего знакомства с ним ограничивалось случайными встречами в прихожей, на лестнице или в галерее. Иногда он проходил мимо меня с безразличным высокомерием, ограничиваясь легким кивком или холодным взглядом, а иногда галантно кланялся и улыбался. Такая смена настроений меня не задевала, так как я понимала, что она со мной никак не связана: приливы и отливы зависели от причин, к которым я ни малейшего отношения не имела.
Как-то к обеду съехались гости, и он прислал за моей папкой, без сомнения, чтобы развлечь их ее содержимым. Джентльмены уехали рано, торопясь на какое-то собрание в Милкоте, как я узнала от миссис Фэрфакс, однако вечер был таким сырым и холодным, что мистер Рочестер предпочел остаться дома. Вскоре после их отъезда он позвонил, и мне с Аделью передали, что он ждет нас внизу. Я причесала Адель, переодела ее и, убедившись, что мой квакерский наряд в полном порядке (да и как могло быть иначе при такой скромной простоте, включая и гладко причесанные волосы?), повела ее вниз. Адель строила предположения, что, быть может, наконец прибыл багаж мистера Рочестера, задержавшийся из-за какой-то ошибки. И ее надежды оправдались: в столовой мы увидели на столе картонную коробку. Адель инстинктивно ее узнала.
– Ma boîte, ma boîte![22] – восклицала она, бросаясь к столу.
– Да, твоя boîte наконец-то прибыла. Забери ее в какой-нибудь уголок, ты, истинная дочь Парижа, и выпотроши в свое удовольствие, – донесся иронический бас мистера Рочестера из глубин покойного кресла у камина. – Но смотри, – продолжал он, – не докучай мне подробностями этого анатомического процесса и ничего не сообщай о состоянии внутренностей. Препарируй в молчании. Tiens-toi tranquille, enfant, comprends-tu?[23]
Адель не нуждалась в этом предупреждении: она уже устроилась со своим сокровищем на диване и сосредоточенно развязывала шнур, удерживавший крышку на месте. Удалив эту помеху и развернув серебряную бумагу, она ограничилась восклицанием:
– Oh ciel! Que c’est beau![24] – и погрузилась в благоговейное созерцание.
– Мисс Эйр здесь? – осведомился затем хозяин дома, приподнимаясь и глядя на дверь, возле которой я остановилась. – А! Ну, так подойдите и сядьте! – Он придвинул соседнее кресло поближе к своему. – Не люблю детского сюсюканья, – продолжал он. – Как старый холостяк, я не храню никаких приятных воспоминаний о лепете младенцев. Я не смог бы провести весь вечер тет-а-тет с этой болтушкой. Не отодвигайте кресло, мисс Эйр, сядьте там, где я его поставил, – если будете столь любезны, разумеется. Прах побери эти вежливые присказки, я всегда о них забываю. И я не слишком привержен обществу простодушных старых дам. А, видимо, мне вспомнилась моя. Не годится пренебрегать ею – она же как-никак Фэрфакс, хотя бы по мужу, а кровь как-никак не вода.
Он позвонил и отправил приглашение миссис Фэрфакс, которая не замедлила прийти с рабочей корзинкой в руке.
– Добрый вечер, сударыня. За вами я послал во имя милосердия. Я запретил Адели разговаривать со мной о ее подарках, и она прямо-таки захлебывается. Будьте так добры, послужите ей слушательницей и собеседницей, и так вы совершите величайшее благодеяние в вашей жизни.
И правда, едва Адель увидела миссис Фэрфакс, как она позвала ее к себе на диван и тотчас завалила ее колени фарфоровым, восковым, слоновой кости содержимым своей boîte под излияние тех восторгов и объяснений, какие допускал ее ограниченный запас английских слов.
– Теперь, когда я исполнил свои обязанности радушного хозяина, – продолжал мистер Рочестер, – и предоставил моим гостям развлекать друг друга, можно подумать и о себе. Мисс Эйр, выдвиньте ваше кресло еще немного вперед: вы прячетесь в его глубине, и мне трудно смотреть на вас, не меняя своей удобной позы в этом уютном кресле, чего я делать не собираюсь.
Я подчинилась, хотя предпочла бы остаться более в тени. Но мистер Рочестер отдавал распоряжения с такой категоричностью, что их незамедлительное выполнение казалось само собой разумеющимся.
Мы, как я упомянула, сидели в столовой. Зажженная для обеда с гостями люстра озаряла комнату праздничным светом. Камин был полон алого чистого пламени, сиреневые драпировки пышными ниспадающими волнами закрывали величественные окна и еще более величественную арку. Везде царила тишина, если не считать тихого голоска Адели (говорить громко она не осмеливалась) да шума зимнего дождя, стучавшего по стеклам.
В обтянутом атласом кресле мистер Рочестер выглядел иным, чем прежде, – не таким суровым, менее мрачным. На его губах играла улыбка, глаза блестели – от вина или нет, сказать не берусь, хотя это и представляется мне вполне вероятным. Короче говоря, он пребывал в послеобеденном настроении: утренняя холодность и сухая сдержанность сменились благодушием и некоторой любезностью, словно он ослабил тиски, в которых держал себя, но тем не менее он все-таки выглядел угрюмым. Массивная голова была откинута на спинку кресла, отблески огня ложились на его словно высеченное из гранита лицо, отражались в больших темных глазах – ведь у него были большие темные глаза, и к тому же очень красивые, – и порой что-то менялось в их глубинах: в них появлялась если не доброта, то выражение, наводившее на мысль о ней.
Он уже минуты две смотрел на огонь, а я те же две минуты смотрела на него, но тут, внезапно обернувшись, он перехватил мой взгляд, устремленный на его лицо.
– Вы исследуете меня, мисс Эйр, – сказал он. – И находите красивым?
Если бы я хоть на секунду задумалась, то ответила бы на этот вопрос с вежливой неопределенностью, но ответ сорвался у меня с языка совершенно невольно.
– Нет, сэр.
– А! Честное слово, в вас есть нечто особенное, – сказал он. – Вы сидите с видом маленькой послушницы – такая старомодная, тихая, серьезная, бесхитростная. Руки чинно сложены, глаза обычно устремлены на ковер (кроме, кстати, тех случаев, когда они пронзительно смотрят на мое лицо, вот как теперь). А когда вам задают вопрос, на который вы вынуждены ответить, вы отделываетесь отповедью, если не прямо грубой, то резкой. Как это объяснить?
– Сэр, я была слишком прямолинейна и прошу у вас прощения. Мне следовало бы сказать, что не просто вот так сразу высказать мнение о чьей-то внешности, что вкусы бывают разными, что красота – это далеко не самое важное или еще что-нибудь в том же духе.
– Ничего подобного вам говорить не следовало бы. Красота – не самое важное, подумать только! И вот так под предлогом смягчить свой возмутительный выпад и умиротворить, ублажить меня вы коварно всаживаете перочинный ножик мне под ухо! Но продолжайте. Какие изъяны вы во мне обнаружили? Полагаю, руки, ноги, фигура и лицо у меня такие же, как у прочих людей?
– Мистер Рочестер, разрешите мне взять назад мой первый ответ. Я не собираюсь затевать вежливую пикировку, это была простая оговорка.
– Вот именно! Я так и считаю, и вы за нее поплатитесь. Покритикуйте меня. Вам не нравится мой лоб?
Он откинул черную как ночь волну волос, ниспадавшую ему на лоб, и показал достаточно внушительное вместилище ума, которому, однако, явно не хватало шишки-другой благожелательности.
– Так как же, сударыня? Я глуп?
– Отнюдь, сэр. Возможно, вы сочтете меня грубиянкой, если я в свою очередь спрошу: вы филантроп?
– Вот опять! Новый укол перочинным ножом, когда она делает вид, будто гладит меня по головке. И все только потому, что я признался, насколько не выношу общества детей и старух (да будет это сказано шепотом!). Нет, милая барышня, я далеко не филантроп, но у меня есть совесть! – И он указал на выпуклость, которую принято считать подтверждением этого качества и которая, на его счастье, бросалась в глаза. Собственно говоря, именно ей верхняя часть его головы была обязана своей шириной. – А еще прежде я обладал, так сказать, неотполированной нежностью сердца. В вашем возрасте я был достаточно чувствительным малым, полным симпатии к сирым, простодушным и несчастливым. Однако судьба с тех пор меня неплохо проучила, даже помесила, будто тесто, и теперь, льщу себя мыслью, я тверд и неуязвим, как гуттаперчевый мяч, хотя, правда, с парой трещинок и чувствительной точкой в самом центре комка каучука. Так оставляет ли это для меня какую-нибудь надежду?
– Надежду на что, сэр?
– На то, что в конце концов преображусь из гуттаперчи обратно в плоть и кровь?
«Нет, он, несомненно, выпил слишком много вина», – подумала я и не нашла ответа на его странный вопрос. Откуда мне было знать, способен он на обратное преображение или нет?
– У вас озадаченный вид, мисс Эйр, и хотя вы хороши собой не более, чем я красив, недоумение вам к лицу. А к тому же оно и полезно, так как ваши испытующие глаза впиваются не в мою физиономию, а в самые скверные цветы на ковре. Милая барышня, нынче вечером я расположен к говорливости и общительности.
С этими словами он встал и облокотился о каминную стойку. В такой позе рассмотреть его фигуру было столь же легко, как и его лицо, и в глаза бросалась необычная ширина плеч, почти не пропорциональная рукам. Я уверена, многие сочли бы его уродливым, но в его осанке была такая естественная гордость, в его позе – такая непринужденность, такое равнодушие к своей наружности, такая надменная уверенность в превосходстве других врожденных или благоприобретенных достоинств над чисто внешней красотой, что, глядя на него, нельзя было не проникнуться тем же равнодушием, не разделить слепо эту уверенность, хотя бы отчасти.
– Сегодня вечером я расположен к говорливости и общительности, – повторил он, – и вот почему я послал за вами: огонь и люстра не могли составить мне компании, как и Лоцман. Ведь никто из них не умеет говорить. Адель – несколько лучше, но тем не менее до приятной собеседницы ей далеко. Как и миссис Фэрфакс. Вы же, я убежден, подойдете мне, если захотите. В первый вечер, когда я пригласил вас сюда, вы меня озадачили. С того дня я почти забыл о вас, другие мысли вытеснили из моей головы те, что я услышал от вас. Однако сегодня вечером я расположен отдохнуть, отвлечься от всего докучного и ограничиться только тем, что приятно. И сейчас мне будет приятно вызвать вас на откровенность, узнать о вас побольше, а потому – говорите.
Но я не заговорила и лишь улыбнулась – причем не очень любезной или уступчивой улыбкой.
– Говорите же! – настаивал он.
– О чем, сэр?
– О чем хотите. И выбор темы, и ее трактовку я оставляю всецело на ваше усмотрение.
В ответ я промолчала, не изменив позы.
«Если он полагает, будто я стану говорить ни о чем, лишь бы выставлять себя напоказ, то убедится, что ошибся в выборе собеседницы», – подумала я.
– Вы онемели, мисс Эйр?
Но я осталась немой. Он чуть наклонил ко мне голову и словно нырнул в мои глаза торопливым взглядом.
– Упрямитесь? – сказал он. – И сердитесь? А, тут есть логика! Я выразил свою просьбу в нелепой, почти дерзкой форме. Мисс Эйр, прошу у вас прощения. Раз и навсегда: я не собираюсь обходиться с вами как с нижестоящей, то есть, – поправился он, – я оставляю за собой то превосходство, какое дают двадцать лет разницы в возрасте и неизмеримо большая опытность. Это вполне законно, et j’y tiens[25], как сказала бы Адель. И в силу этого превосходства, и лишь его одного, я желал бы, чтобы вы оказали мне любезность немного побеседовать со мной сейчас, чтобы отвлечь мои мысли, которые до утомительности сосредоточиваются в одной точке и застревают в ней точно ржавый гвоздь.
Он снизошел до объяснения, почти до извинений. Я не осталась бесчувственной к его снисходительности и не собиралась этого скрывать.
– Я охотно развлеку вас, сэр, если это в моих силах. Очень охотно, но я не могу выбрать темы, не зная, что может показаться вам интересным. Задавайте мне вопросы, и я постараюсь отвечать на них как можно полнее.
– Тогда для начала. Вы согласны, что у меня есть право быть немного властным, возможно, резким, иногда требовательным, исходя из вышеуказанного. А именно: что я гожусь вам в отцы, что я прошел через возможные испытания среди многих людей во многих странах и объехал половину земного шара, пока вы вели тихую жизнь среди одних и тех же людей в одном-единственном доме?
– Считайте что вам угодно, сэр.
– Это не ответ! То есть ответ, крайне раздражающий своей уклончивостью. Ответьте яснее.
– Я не считаю, сэр, что у вас есть право командовать мной только потому, что вы старше меня или что вы в отличие от меня повидали мир. Ваше право на превосходство определя ется тем, с какой пользой вы употребили ваше время и приобретенный опыт.
– Хм! Сказано без запинки. Но я никогда не соглашусь с подобным выводом, так как он говорит не в мою пользу: и то, и другое преимущество я использовал посредственно, если не сказать скверно. В таком случае оставим вопрос о превосходстве в стороне, но тем не менее вы должны согласиться время от времени получать от меня приказания, не сердясь и не обижаясь на властный тон, – по рукам?
Я улыбнулась, подумав, что мистер Рочестер поистине имеет свои странности: он как будто забыл о том, что платит мне в год тридцать фунтов, чтобы я выполняла его приказания.
– Улыбка, это хорошо! – сказал он, мгновенно уловив даже такое мимолетное выражение на моем лице. – Но все-таки и говорите тоже.
– Я думала, сэр, как мало нанимателей стали бы затрудняться, спрашивая, не сердят ли и не обижают ли их приказы тех, кто у них служит за плату.
– Служат за плату! Как? Вы служите у меня за плату? Ах да! Я совсем забыл про ваше жалованье. Ну так хотя бы из меркантильных соображений вы согласны разрешить мне некоторое своевластие?
– На этом основании – нет, сэр. Но на том основании, что вы позабыли про жалованье и предпочитаете, чтобы те, кто от вас зависит, не тяготились этой зависимостью, я соглашаюсь от души.
– И вы согласны терпеть отсутствие вежливых фраз, не приписывая его надменной бесцеремонности?
– Мне кажется, сэр, я никогда не спутаю простоту и непринужденность с бесцеремонностью. Первые мне нравятся, а со второй никто, рожденный свободным, не смирится даже за щедрое жалованье.
– Вздор! За щедрое жалованье подавляющее большинство свободнорожденных смирится с чем угодно, а потому впредь держите при себе и не высказывайте обобщений того, о чем не имеете ни малейшего понятия. Тем не менее я мысленно жму вам руку за ваш ответ, пусть он и основан на заблуждении, – и за его тон не менее, чем за содержание. Тон был на редкость искренним, какой не часто доводится слышать. Напротив, откровенность обычно вознаграждают манерностью или холодностью или же глупым и вульгарным истолкованием сказанного. Из тысячи наивных гувернанток, едва со школьной скамьи, вряд ли хотя бы три ответили мне так, как только что ответили вы. Но я не собираюсь льстить вам: если вы скроены по иным меркам, чем большинство, в этом нет вашей заслуги – так распорядилась Природа. Ну и кроме того, я слишком тороплюсь с выводами: насколько мне пока известно, вы, возможно, ничуть не лучше остальных. И не исключено, что в противовес двум-трем особенностям в вашу пользу вам свойственны нестерпимые недостатки. «Как, возможно, и вам», – подумала я. В этот миг мои глаза встретились с его глазами, и, словно прочитав мою мысль, он ответил так, будто я высказала ее вслух.
– Да-да, вы правы, – сказал он. – У меня множество собственных недостатков. Я это знаю и не собираюсь их оправдывать. Бог свидетель, не мне быть строгим к другим. У меня есть прошлое, поступки, перипетии моей жизни, какие могут обратить против меня самого мои же пренебрежительные насмешки и упреки в адрес ближних. В возрасте двадцати одного года я избрал, а вернее, был вынужден вступить (ведь подобно всем оступившимся я склонен взваливать половину вины на свой несчастный жребий или враждебные обстоятельства) на неверный путь и с тех пор так и не вернулся на правильную дорогу. Но я мог бы быть совсем иным, мог бы быть не менее хорошим, чем вы (причем умудреннее!), почти столь же незапятнанным. Я завидую вашему душевному миру, вашей чистой совести, незамутненности вашей памяти. Маленькая девочка, каким драгоценным сокровищем должна быть память без единого пятна или скверны, каким неистощимым источником безмятежного отдохновения! Не правда ли?
– А какой была ваша память, сэр, в ваши восемнадцать лет?
– Тогда – безупречной: кристальной, животворящей. Никакие вторжения зловонных вод еще не превратили ее в гнилостную жижу. В восемнадцать я был вам равен – во всем равен. Природа предназначала меня стать хорошим человеком, мисс Эйр, одним из лучших, но, как вы видите, я не таков. Вы скажете, что не видите этого, во всяком случае льщу себя мыслью, что читаю это в ваших глазах. (Кстати, будьте осторожнее с тем, что они выражают, я легко понимаю их язык.) В таком случае поверьте мне на слово. Нет, я не злодей, не думайте так и не приписывайте мне столь негодного величия. Однако благодаря, как я искренне верю, не моей природе, но воле обстоятельств я теперь – зауряднейший грешник, изведавший все жалкие мелкие пороки, которыми богатые и никчемные тщатся скрашивать свою жизнь. Вас удивляет, почему я признаюсь вам в этом? Так знайте, что в будущем вас часто ожидает роль невольной наперсницы. Вам станут поверять свои тайны люди, которые, подобно мне, инстинктивно поймут, что ваш дар – не говорить о себе, но слушать, как повествуют о себе другие. И еще они почувствуют, что слушаете вы не со злобной насмешкой над их откровенностью, но с внутренним сочувствием, тем более утешительным и побуждающим к дальнейшим признаниям, что оно совсем не навязчиво в своих проявлениях.
– Откуда вы знаете? На чем вы строите свои догадки, сэр?
– Я это знаю и продолжаю столь же свободно, как если бы записывал свои мысли в дневнике. Вы скажете, мне следовало бы встать выше обстоятельств. Да-да, следовало бы. Но, как видите, я этого не сделал. Когда судьба сыграла со мной злую шутку, у меня не хватило мудрости сохранить хладнокровие, отчаяние взяло верх, и я пал. Теперь, когда какой-нибудь порочный глупец вызывает во мне отвращение, я не могу утешиться мыслью, что я лучше его, и вынужден признать, что мы с ним стоим друг друга. Как я жалею, что не воспротивился судьбе, Бог свидетель! Страшитесь сожалений, мисс Эйр, когда соблазн будет вас толкать на неверный шаг. Сожаления отравляют жизнь.
– Но, сэр, говорят, что в раскаянии – исцеление.
– Нет. Исцелить может только стремление исправиться. И я мог бы, я должен был бы исправиться, у меня еще пока есть на это силы, если бы… Но что толку думать об этом, раз я связан по рукам и ногам, обременен, проклят? Но если в счастье мне отказано навеки, то у меня есть право пожинать радости жизни, и я буду их пожинать, чего бы это ни стоило.
– И тогда вы падете еще ниже, сэр.
– Возможно. Но почему, если радость будет сладостной и чистой? И я могу ее обрести – такую сладостную и чистую, как мед, который пчелы собирают на вересках.
– Но пчелы жалят, и вкус его будет горьким, сэр.
– Откуда вы знаете? Ведь вы же не пробовали его. Какой серьезный, ну просто торжественный у вас вид! А о подобном вы знаете не больше, чем профиль на этой камее. – Он взял камею с каминной полки. – У вас нет права читать мне проповеди, вы еще даже не вступили под портал жизни и не имеете ни малейшего понятия о ее тайнах.
– Я всего лишь напоминаю вам о ваших словах, сэр. Вы сказали, что неверный шаг приносит сожаления, и объявили, что сожаления отравляют жизнь.
– Но кто сейчас говорит о неверных шагах? Не думаю, что мелькнувшая в моем мозгу мысль ведет к неверному шагу. Я считаю ее откровением, а не искушением – в ней радость и покой, я знаю это. Знаю! Вот снова та же мысль! Уверяю, ее послал не дьявол. Разве что он облекся в одежды ангела света. И думаю, мне следует впустить в сердце столь прекрасного гостя, когда он стучится туда.
– Не доверяйте ему, сэр. Это не истинный ангел.
– И опять я спрошу: откуда вы знаете? Какой инстинкт якобы помогает вам отличить павшего серафима бездны от посланца извечного Престола? Проводника от соблазнителя?
– Я судила по выражению вашего лица, сэр. Оно стало тревожным, когда вы сказали, что откровение вновь вас посетило. Я уверена, оно принесет вам еще больше горя, если вы ему последуете.
– Вовсе нет! Более благой вести невозможно вообразить. И кстати, вы не сторож моей совести, а потому не тревожьтесь понапрасну. Так входи же, добрый странник!
Он сказал это, будто обращаясь к видению, доступному только его взору. Затем, скрестив на груди протянутые было руки, он, казалось, заключил в объятия невидимое существо.
– И вот, – продолжал он, вновь обращаясь ко мне, – я принял в свое сердце паломника, переодетое божество, как я твердо верю. И уже это обернулось для меня благом: мое сердце до сих пор было подобием склепа, теперь оно станет святилищем.
– По правде говоря, я перестала вас понимать, сэр. И не могу поддерживать разговор, недоступный моему рассудку. Но одно я знаю: вы сказали, что не были таким хорошим, как вам хотелось быть, и что вы сожалеете о своих недостатках, и одно я понимаю: вы намекнули, что оскверненная память становится вечным проклятием. Мне кажется, что, искренне попытавшись, вы могли бы со временем стать таким человеком, которого одобрили бы. И что если бы с этого самого дня вы приняли решение следить за своими мыслями и поступками, то уже через несколько лет у вас накопилось бы достаточно новых и ничем не запятнанных воспоминаний, к каким вы могли бы возвращаться с ничем не замутненным удовольствием.
– Справедливая мысль, верно высказанная, мисс Эйр, и в эту секунду я усердно мощу дорогу в ад.
– Сэр?
– Я запасаюсь благими намерениями, твердыми, я верю, как кремень. Во всяком случае теперь у меня будут иные товарищи и занятия, чем прежде.
– И лучше?
– И лучше, насколько чистое золото лучше шлака. Вы как будто сомневаетесь во мне, но я в себе не сомневаюсь. Мне известна моя цель, известны мои побуждения, и в эту минуту я творю закон, столь же неизменный, как закон Мидийский и Персидский, подтверждающий их благость.
– Они не могут быть благими, сэр, если нужен новый закон, подтверждающий это.
– Они благи, мисс Эйр, хотя категорически нуждаются в особом законе – неслыханное сочетание обстоятельств требует неслыханных установлений.
– Такая максима кажется опасной, сэр, поскольку сразу видно, как легко употребить ее во зло.
– Нравоучительница! Да, так и есть, но клянусь богами моего домашнего очага не употреблять ее во зло.
– Вы – человек и не обладаете непогрешимостью.
– Да, как и вы. И что из этого следует?
– Человеческому, способному ошибаться, не должно присваивать власть, принадлежащую только божественному и совершенному.
– Какую власть?
– Власть провозглашать по поводу любой необычной, не дозволенной законом линии поведения: «Да будет она благой!»
– Да будет она благой! Самые уместные слова, и произнесли их вы.
– Ну, в таком случае: да окажется она благой! – сказала я и встала, решив, что бессмысленно продолжать разговор на тему, совершенно мне неясную, тем более что характер моего собеседника для меня непостижим, по крайней мере пока. И меня охватили неуверенность, смутная тревога, сопровождающие убеждение в своей неосведомленности.
– Куда вы?
– Уложить Адель. Ей давно пора спать.
– Вы меня боитесь, потому что я говорю загадками, как Сфинкс.
– Ваша речь загадочна, сэр, но я лишь недоумеваю, но не боюсь.
– Нет, боитесь. Ваше самолюбие боится попасть впросак.
– Да, в этом смысле я испытываю некоторые опасения, так как не хочу говорить вздора.
– Но и вздор вы высказали бы таким серьезным, убежденным тоном, что я принял бы его за истину. Вы никогда не смеетесь, мисс Эйр? Не трудитесь отвечать: я вижу, что смеетесь вы очень редко, но зато очень весело. Поверьте, вы вовсе не суровы от природы, как и я от природы не склонен к пороку. Ловудские ограничения все еще тяготеют над вами, заставляют следить за выражением лица, приглушать голос, сдерживать движения.
И вы боитесь в присутствии человека и брата – или отца, или нанимателя, или кого угодно еще – улыбаться слишком весело, говорить слишком свободно или двигаться слишком быстро. Но со временем, думаю, вы научитесь быть непринужденной со мной, точно так же, как я при всем желании не могу обходиться с вами церемонно. И тогда в ваших чертах и движениях появятся живость и веселость, которым вы пока не смеете дать волю. Порой я замечаю взгляд, какой бросает сквозь прутья клетки любопытная птица, – взгляд непокоренной, полной сил, смелой пленницы. Вырвись она на волю, так сразу же взмыла бы в недосягаемую высь. Вы все еще намерены уйти?
– Уже пробило девять, сэр.
– Не важно… погодите минуту: Адель еще не готова лечь в постель. Моя позиция, мисс Эйр, спиной к огню и лицом к комнате, способствует наблюдениям. Разговаривая с вами, я иногда поглядывал на Адель (у меня есть свои причины считать ее интересным предметом для исследований – причины, которые я, возможно… нет, непременно как-нибудь вам поведаю). Минут десять назад она вытащила из своей коробки розовое шелковое платьице и, пока она его разворачивала, просияла от восторга: кокетство струится в ее крови, пропитывает ее мозг, проникает в самые ее кости. «Il faut que je l’essaie! – вскричала она. – Et à l’instant même!»[26] – и выбежала из комнаты. Сейчас она с Софи занята переодеванием, а через минуту-другую она войдет, и я знаю, кого я увижу: Селину Варанс в миниатюре, какой она появлялась на подмостках, когда занавес… впрочем, не важно. Однако я получу удар по самому болезненному месту. Таково мое предчувствие. Останьтесь и посмотрите, сбудется ли оно.
Вскоре послышались легкие шаги Адели – она бежала вприпрыжку через прихожую. Вот она появилась в дверях – преображенная, как и предсказал ее опекун. Коричневое платье теперь сменилось розовым атласным, с короткой, но очень пышной юбочкой. Ее головку увенчивал венок из розовых бутонов. Наряд довершали шелковые чулочки и белые атласные туфельки.
– Est-ce que ma robe me va bien? – воскликнула она. – Et mes souliers? Et mes bas? Tenez, je crois que je vais danser![27]
Затем расправила юбочку, выделывая па, направилась к нам и закружилась на носках перед мистером Рочестером, а потом опустилась на одно колено с восклицанием:
– Monsieur, je vous remercie mille fois de votre bonté! – И, поднявшись, добавила: – C’est comme cela que maman faisait, n’est-ce pas, monsieur?[28]
– Вот и-мен-но, – последовал ответ, – и comme cela[29] она чарами извлекала английские золотые из кармана моих британских панталон. А я был зеленым юнцом, мисс Эйр, да-да, зеленее травы, как вы теперь. Однако моя весна миновала, оставив на моих руках сей французский цветочек, от которого порой в дурном расположении духа я был бы рад избавиться. Давно перестав дорожить давшим ему жизнь корнем, едва я убедился, что корень этот питала только золотая пыль, к цветочку я испытываю довольно прохладную привязанность, и особенно когда он выглядит таким искусственным, как сейчас. Я берегу и взращиваю его, следуя собственно католической доктрине искупления многих грехов, больших и малых, одним благим поступком. Как-нибудь я объясню вам все это. Доброй ночи.
22
Моя коробка! Моя коробка! (фр.)
23
Веди себя тихо, дитя, ты поняла? (фр.)
24
О боже! Какая прелесть! (фр.)
25
И я на этом настаиваю (фр.).
26
Я хочу его примерить!.. И прямо сейчас! (фр.)
27
Идет мне мое платье?.. А туфельки? А чулочки? Смотрите, я сейчас начну танцевать! (фр.)
28
Мсье, примите тысячу благодарностей за вашу доброту!.. Ведь мама так делала, правда, мсье? (фр.)
29
Именно так (фр.).