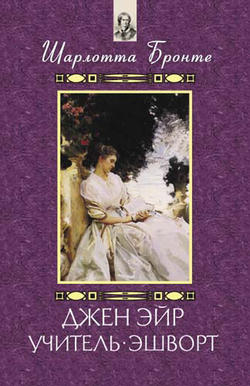Читать книгу Джен Эйр. Учитель. Эшворт (сборник) - Шарлотта Бронте - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Джен Эйр
Глава XV
ОглавлениеИ мистер Рочестер объяснил, едва представился случай. А представился он, когда однажды днем мистер Рочестер случайно встретил меня с Аделью на прогулке, и пока она играла то с Лоцманом, то подбрасывала волан, начал прогуливаться со мной взад и вперед по длинной буковой аллее, так что я могла следить за моей воспитанницей.
Он сказал, что Адель – дочь Селины Варанс, француженки, которая пела и танцевала в опере и к которой он некогда питал une grande passion[30], как он выразился. Селина делала вид, что отвечает ему даже еще более пылкой взаимностью. Он верил, что она от него без ума. Хотя он и безобразен, сказал он, но верил, что она предпочитает его taille d’athlète[31] изящной красоте Аполлона Бельведерского.
– И, мисс Эйр, мне так льстило предпочтение, которое галльская сильфида отдавала своему британскому гному, что я поселил ее в особняке, окружил штатом прислуги, снабдил каретой, осыпал брильянтами, дарил дорогие ткани, dentelles[32] и прочее, и прочее. Короче говоря, я начал разоряться в традиционном стиле, подобно всякому другому влюбленному дуралею. И не могу даже похвастать, что нашел новый путь к позору и гибели. Я шагал по давно проторенной дороге, с глупым упрямством ни на дюйм не сходя с нее. И меня ждала – вполне заслуженно – судьба всех влюбленных дуралеев. Как-то вечером я заглянул к Селине, когда она меня не ждала, и не застал ее дома. Но вечер был жарким, я устал от прогулки по Парижу и потому сел отдохнуть в ее будуаре, счастливый, что дышу воздухом, освященным ее недавним присутствием там. Нет, я преувеличиваю, я никогда не думал, будто ей дана сила что-либо освящать. Вернее, это был аромат ее духов, благоухание мускуса и амбры, а вовсе не святости. Вскоре я начал задыхаться от душного запаха оранжерейных цветов и разбрызганных душистых эссенций, и мне пришло в голову выйти подышать свежим воздухом на балкон. Все вокруг было озарено луной, не говоря уж о газовых фонарях, и окутано благостной тишиной. На балконе стояли два-три кресла. Я сел и достал сигару… как достану сейчас, если вы меня извините.
Наступила пауза, заполненная извлечением и раскуриванием сигары. Сунув ее в рот и распространив в холодном бессолнечном воздухе аромат гаванны, он продолжал:
– В те дни, мисс Эйр, я еще любил конфеты и, croquant[33] (извините такой варваризм), croquant шоколадное драже между затяжками, наблюдал за экипажами, которые катили по фешенебельным улицам в сторону оперного театра, как вдруг в элегантной закрытой карете, запряженной парой прекрасных английских лошадей, столь ясно видной в светлой городской ночи, я узнал voiture, который подарил Селине. Она возвращалась домой! Разумеется, мое сердце принялось от нетерпения громко стучать о чугунные перила, на которые я облокотился. Как я и предполагал, карета остановилась у подъезда особняка, пламя души моей (наиболее подходящее описание оперной возлюбленной) появилась из дверцы. Хотя она была закутана в мантилью – между прочим, совершенно ненужную в такой теплый вечер, – я тотчас узнал ее по прелестной ножке, которая на миг мелькнула из-под края юбки. Перегнувшись через перила, я как раз собрался воскликнуть: «Mon ange!»[34] – разумеется, тоном, который был бы внятен лишь слуху любви, – когда из кареты выпрыгнула еще одна закутанная фигура, однако теперь тротуара коснулся каблук со шпорой, и в распахнутых дверях скрылась военная шляпа.
Вы никогда не испытывали ревности, мисс Эйр, не правда ли? Ну разумеется, нет. И спрашивать незачем: вы ведь никогда не влюблялись. Вам только предстоит испытать оба эти чувства. Ваша душа еще спит, и то потрясение, которое ее пробудит, пока еще в будущем. Вам кажется, будто жизнь всегда и всюду струится таким же мирным потоком, к какому вы привыкли в своей юности. Закрыв глаза, затворив слух, вы отдаетесь его течению и не видите камней, торчащих со дна, не слышите грохота разбивающихся о них волн. Но я скажу вам – и запомните мои слова, – настанет день, когда вы окажетесь в теснине, когда поток жизни превратится в кипящую пену, водовороты, рев дробящихся валов. И вы либо превратитесь в атомы на острых камнях, либо вас подхватит особенно могучая волна и унесет в более спокойные воды, в которых плыву сейчас я. Мне нравится этот день, нравится это стальное небо, мне нравится суровость и неподвижность мира, скованного этим морозом. Мне нравится Тернфилд, его древность, его уединенность, его старая грачиная роща и терны, его серый фасад и ряды темных окон, отражающих этот металлический небосвод. И все же как долго мне была противна даже мысль о нем, и я избегал его, как зачумленного лазарета. И мне все еще противен…
Он скрипнул зубами, умолк и, остановившись, топнул каблуком по замерзшей земле. Он снова оказался во власти какой-то ненавистной мысли, которая сковала его и не позволяла сделать ни шага.
В эту минуту мы возвращались по аллее, и дом был прямо перед нами. Подняв глаза к парапету, он обратил туда жгучий взгляд, какой мне не доводилось видеть ни прежде, ни потом. Боль, стыд, гнев, нетерпение, омерзение секунду вели схватку в расширенных до предела зрачках под черными бровями. Безумным был бой за первенство, но восторжествовало вспыхнувшее в них совсем иное чувство, нечто неумолимое и саркастическое, своевольное и беспощадное. Оно и придало его лицу каменную неподвижность. Он продолжал:
– В ту минуту, когда я замолчал, мисс Эйр, я кое-что решал с моей судьбой. Она стояла вон там у ствола бука – ведьма вроде тех, что являлись Макбету средь вересков под Форресом. «Ты любишь Тернфилд? – сказала она, подняла палец и синеватым пламенем начертала в воздухе письмена вдоль всего фасада между нижними и верхними окнами. – Так люби его, если можешь! Люби его, если смеешь!» «Я буду любить его, – сказал я. – Я смею любить его», и, – добавил он угрюмо, – я сдержу свое слово. Я смету препятствия во имя счастья, во имя добродетели – да, добродетели! Я хочу стать лучше, чем был, чем пока остаюсь. Подобно тому как Левиафан Иова сокрушал копья, дротики и латы, так я считаю соломой и гнилым деревом препятствия, которые другим представляются железом и медью.
Тут к нему подбежала Адель, подбрасывая волан.
– Прочь! – резко приказал он. – Не подходи ко мне, дитя, или вернись с Софи в дом!
Он продолжал идти дальше в молчании, и я осмелилась напомнить ему то место, на котором этим внезапным отступлением он прервал свой рассказ.
– Когда мадемуазель Варанс вернулась, – спросила я, – вы ушли с балкона, сэр?
Я почти ожидала резкой отповеди за этот совсем не своевременный вопрос, однако он очнулся от своей хмурой рассеянности, взглянул на меня, и его лицо прояснилось.
– А! Я и забыл про Селину! Ну так продолжим. Когда я увидел, что моя чаровница вернулась в сопровождении кавалера, мне почудилось шипение: зеленая змея ревности кольцами взвилась с озаренного луной балкона, заползла под мой жилет и за две минуты прогрызла себе путь в мое сердце. Странно! – воскликнул он, вновь отвлекаясь от своего рассказа. – Странно, барышня, что я избрал вас в наперсницы, и еще более странно, что вы слушаете меня с полным спокойствием, будто мужчине вроде меня так и положено рассказывать про своих оперных любовниц скромной неопытной девушке вроде вас! Но вторая странность объясняет первую: как я уже упоминал раньше, ваша серьезность, участливость и сдержанность обрекают вас быть поверенной чужих секретов. К тому же я знаю, какому духу я дал соприкоснуться с моим. Я знаю, он недоступен заражению, это особый дух, единственный в своем роде. К счастью, у меня нет намерения причинить ему вред, а если бы и было, он не поддался бы этой порче. Чем больше мы будем беседовать, тем лучше: я не могу испортить вас, но вы можете обновить меня.
После этого отступления он вернулся к теме:
– Я остался на балконе. «Без сомнения, они поднимутся в ее будуар, – подумал я. – Надо устроить засаду». И протянув руку в открытую дверь, я задернул портьеру, но оставил узкий просвет, чтобы следить за происходящим в комнате. Затем я притворил дверь так, чтобы в щелку на балкон мог доноситься шепот влюбленных. Едва я вернулся в свое кресло, как они вошли. Я не спускал глаз с просвета. Следом за ними вошла горничная Селины, зажгла лампу, поставила ее на столик и удалилась. Теперь они были хорошо видны. Мантилья и плащ были сброшены, и моим глазам явилась мадемуазель Варанс, блистая атласом и брильянтами (подаренными мною, разумеется), а с ней и ее кавалер в офицерском мундире. Я узнал некоего виконта, молодого вертопраха, безмозглого и порочного, которого иногда встречал в свете и которого мне в голову бы не пришло возненавидеть, так глубоко я его презирал. И в этот миг ядовитые клыки змеи – то есть ревности – сломались, так как моя любовь к Селине тотчас угасла. Женщина, способная изменить мне с таким соперником, не стоила соперничества, а заслуживала лишь презрения – впрочем, пожалуй, меньшего, чем я, глупец, попавший на ее крючок.
Они заговорили, и их беседа окончательно меня излечила: такие бессмысленные фривольности, такие свидетельства бессердечности и корыстолюбия, какими она была полна, могли вызвать у слушателя лишь скуку, а не гнев. На столе лежала моя визитная карточка, и, заметив ее, они заговорили обо мне. Ни у нее, ни у него не хватало живости и остроумия, чтобы отделать меня на все корки. Они поносили меня с мелочной грубостью, и особенно Селина. Она даже достигла некоторого блеска, прохаживаясь по адресу моих физических недостатков – уродств, как она их именовала. А ведь у нее было обыкновение пылко восхищаться тем, что она назвала моей «beauté mâle»[35]. Этим она диаметрально отличается от вас: ведь вы во втором нашем разговоре без обиняков сообщили мне, что не считаете меня красавцем. И меня поразил такой контраст…
К нам снова подбежала Адель.
– Monsieur, сейчас приходил Джон и сказал, что пришел ваш управляющий и хочет вас видеть.
– А! Ну, в таком случае мне придется быть кратким. Я распахнул дверь, вышел к ним, освободил Селину от моего покровительства, предупредил, чтобы она немедленно покинула особняк, бросил ей кошелек для оплаты неотложных расходов, пропустил мимо ушей вопли, истерику, мольбы, оправдания, не заметил конвульсий и условился с виконтом о встрече в Булонском лесу. Где наутро имел удовольствие встать с ним к барьеру, оставил пулю в его хилом плече, слабом, точно цыплячье крылышко, и решил, что покончил с ними обоими навсегда. Но, к несчастью, мадемуазель Варанс через шесть месяцев подарила мне эту fillette[36], Адель, клянясь, будто она моя дочь, что, впрочем, возможно, хотя я не замечаю в ней никаких черт, унаследованных от столь безобразного родителя. Лоцман куда больше похож на меня, чем она. Через несколько лет после того, как я порвал с ее матерью, та бросила дочку и уехала в Италию с каким-то музыкантом или певцом. Я не признал за Аделью никаких прав на мою поддержку, как не признаю их и теперь, так как я не ее отец, однако, узнав, что она брошена на произвол судьбы, я извлек бедняжку из зловонной грязи Парижа и пересадил в чистую и здоровую почву английского загородного сада, то есть сюда. Миссис Фэрфакс нашла вас, чтобы вы взращивали это растеньице. Однако теперь, когда вы знаете, что она – незаконнорожденный росток французской оперной певички, ваше отношение к вашим обязанностям и вашей протеже может измениться. И в один прекрасный день вы предупредите меня, что подыскали новое место, так не найду ли я новую гувернантку и прочая, и прочая, э?
– Нет. Адель ведь не отвечает ни за грехи своей матери, ни за ваши. Я привязалась к ней, а теперь, когда узнала, что она, в сущности, сирота, покинутая матерью и не признанная вами, сэр, она станет мне дороже. Как я могу предпочесть избалованную любимицу богатых родителей, которая возненавидит свою гувернантку, как досадную помеху, одинокой сиротке, ищущей в ней друга и опору?
– А, так вот как вы на это смотрите! Ну, я должен идти. Да и вам не мешает вернуться в дом, уже темнеет.
Однако я задержалась на несколько минут с Аделью и Лоцманом – побегала с ней наперегонки, поперекидывалась воланом. Когда мы вернулись в дом, я сняла с нее шляпку и пелерину, посадила к себе на колени и час позволила ей болтать, сколько душе угодно. И даже не выговаривала за те вольности и пошлости, которые порой вырывались у нее, если она оказывалась в центре внимания, выдавая в ней пустенькое легкомыслие, вероятно, унаследованное от матери и чуждое английским натурам. Впрочем, она обладала своими достоинствами, и я была склонна ценить все лучшее в ней как можно выше. Я старалась найти в ее наружности и манерах хоть какое-то сходство с мистером Рочестером, но не обнаружила ни малейшего: ни единая черточка, ничего в выражении лица не говорило о родстве. Мне было жаль: если бы в ней нашлось сходство с ним, он начал бы относиться к ней лучше.
Только поднявшись к себе в комнату, я наконец подробно обдумала все, что услышала от мистера Рочестера. Как он и сказал, в самой истории о страсти богатого англичанина к французской танцовщице и ее измене ему ничего особенного не было – несомненно, для высшего света такое было в обычае. Однако решительно странным был взрыв чувств, внезапно нахлынувших на него, когда он заговорил о своем новом безмятежном настроении и воскресшем интересе к старому дому и поместью. Я долго ломала голову над этой вспышкой, но затем сочла ее необъяснимой и задумалась над отношением мистера Рочестера ко мне. Доверие, которое он счел возможным оказать мне, казалось данью моей сдержанности – именно так я истолковала и приняла его признания. В своем поведении со мной в последние недели он стал более ровным, чем был вначале. Я словно бы перестала казаться ему досадной помехой, и, случайно встречаясь со мной, он не только не обдавал меня надменным холодом, но, казалось, был рад такой встрече: у него всегда находилось для меня слово-другое, а порой и улыбка. Когда же я по его приглашению являлась в гостиную, то чувствовала себя польщенной сердечностью приема, внушавшей мне мысль, что я и правда умею развлекать его и что эти вечерние беседы ведутся столько же для его удовольствия, сколько из любезности ко мне.
Правда, сама я говорила относительно мало, зато его слушала с огромным удовольствием. Общительность была в его натуре, и ему нравилось набрасывать сознанию, не знакомому с миром, картины этого мира, приобщать к нравам и обычаям (и отнюдь не к картинам порока или дурным нравам, но ко всему тому, что было интересно своим величием, своей особой новизной). И я с восторгом слушала объяснение новых идей, к которым он меня приобщал, с восторгом воображала новые дали, которые он распахивал передо мной, и следовала за ним в новые области мысли, которые он открывал мне. И ни единого раза меня не задел, не испугал хоть какой-нибудь темный намек.
Его непринужденность рассеяла мою болезненную застенчивость, дружеская откровенность, столь же корректная, как и сердечная, с какой он обходился со мной, притягивала меня к нему. По временам он казался моим родственником, а не патроном. О да, случалось, он проявлял прежнюю властность, но меня это не задевало: просто такая у него привычка, думалось мне. Я была так счастлива, так довольна новым интересом, появившимся в моей жизни, что перестала скорбеть о своем одиночестве. Узкий серп моей судьбы словно становился все шире, пробелы в жизни заполнялись, мое здоровье окрепло, я пополнела, набиралась сил.
И оставался ли мистер Рочестер теперь уродливым в моих глазах? О нет, читатель! Благодарность и множество связанных с ним приятных и радостных минут сделали его лицо прекрасным для меня, его присутствие в комнате грело больше самого яркого огня в камине. Притом я не забывала про его недостатки – да и как бы я могла о них забыть, если так часто сталкивалась с ними? Он был горд, сардоничен, придирчив к тем, кто был ниже его в любом отношении. В глубине души я сознавала, что его великая доброта ко мне уравновешивалась незаслуженной строгостью со многими другими. И он бывал необъяснимо мрачен. Не раз и не два, входя в библиотеку, куда меня звали читать ему, я заставала его там одного, и он сидел, уронив голову на руки, а когда поднимал ее, лицо у него хмурилось угрюмо, почти злобно. Но я верила, что его мрачность, суровость и былые отступления от морали («былые» потому, что теперь он, казалось, преодолел свои слабости) были порождены каким-то жестоким поворотом судьбы. Я верила, что природа предназначила его быть человеком с лучшими наклонностями, более высокими принципами и благородными вкусами, чем его сделали обстоятельства, а также воздействие воспитания и ударов, наносимых жизнью. Я считала, что он обладает замечательными задатками, хотя пока они оставались подавленными и заглохшими. Не отрицаю, я скорбела о его скорби, чем бы она ни вызывалась, и многое дала бы, лишь бы облегчить ее.
И вот теперь, хотя я задула свечу и закуталась в одеяло, мне не удавалось уснуть: я словно вновь видела его лицо в ту минуту, когда он остановился в буковой аллее и сказал мне, что ему явилась его судьба и спросила, посмеет ли он быть счастливым в Тернфилде?
«Но почему нет? – спрашивала я себя. – Чем дом отталкивает его? И он скоро уедет?» Миссис Фэрфакс говорила, что он редко оставался в поместье дольше, чем на две недели, а на этот раз со дня его приезда прошло уже два месяца. Но если он уедет, какой грустной будет перемена в доме! А что, если он не вернется ни весной, ни летом, ни осенью? Какими безрадостными покажутся сияние солнца и погожие дни!
Не знаю, задремала ли я или нет, раздумывая над этим, но в любом случае я забыла про сон, услышав смутный шум, непонятный и зловещий, который словно бы раздался прямо надо мной. Я пожалела, что погасила свечу. Ночь была непроницаемо черной, и на меня как будто навалилась какая-то тяжесть. Приподнявшись, я села на постели и прислушалась. Звуки стихли.
Я вновь попыталась уснуть, но сердце у меня тревожно билось, душевный покой уступил место смятению. Далеко внизу в прихожей часы пробили два раза. И тут же будто кто-то прикоснулся снаружи к моей двери, будто по филенке скользнули пальцы, нащупывая путь по темной галерее снаружи. Я спросила:
– Кто тут? – но никто не отозвался, и меня оледенил страх.
Однако я тут же сообразила, что могла, конечно, слышать Лоцмана: когда кухонную дверь забывали ненароком закрыть, он имел обыкновение пробираться к дверям спальни мистера Рочестера. Я не раз по утрам видела, как он дремлет у его порога.
Мысль эта немного меня успокоила, и я снова легла. Тишина действует на нервы умиротворяюще, и так как в доме вновь царило нерушимое безмолвие, я начала задремывать. Но в эту ночь мне не суждено было уснуть. Сон, едва начав смыкать мне вежды, опять испуганно бежал, устрашенный звуком, от которого и правда кровь стыла в жилах.
Это был демонический хохот – подавленный, придушенный, басистый. Прозвучал он, казалось, над самой моей замочной скважиной. Изголовье моей кровати было повернуто к двери, и мне было почудилось, будто хохочущая нечисть нагибается надо мной или, вернее, припала к моей подушке. Однако, вскочив и оглядевшись, я ничего не увидела; тут противоестественный хохот повторился, и я поняла, что раздается он за дверью. Первым моим побуждением было вскочить и задвинуть задвижку, а потом я вновь вскрикнула:
– Кто тут?
Что-то забулькало, застонало. Вскоре послышались шаги, удаляющиеся по галерее к лестнице на третий этаж – недавно в проеме перед лестницей повесили дверь. Я услышала, как она открылась, потом закрылась, и наступила тишина.
«Это была Грейс Пул? Она – бесноватая?» – подумала я и почувствовала, что не в силах долее оставаться в одиночестве. Поскорее к миссис Фэрфакс! Я торопливо надела платье, набросила на плечи шаль, отодвинула задвижку и дрожащей рукой приотворила дверь. Снаружи, совсем рядом, горела свеча, поставленная на пол. Меня это удивило, но еще более я поразилась какой-то мгле в воздухе, словно коридор наполнялся дымом. Поворачивая голову вправо и влево, чтобы проследить, откуда тянутся эти голубые завивающиеся струи, я почувствовала сильный запах гари.
Что-то скрипнуло. Распахнутая дверь… дверь в комнату мистера Рочестера! Оттуда вырывались клубы дыма. Я забыла про миссис Фэрфакс, я забыла про Грейс Пул и про хохот. В мгновение ока я вбежала в спальню. Вокруг кровати танцевали языки огня – полог пылал. Среди пламени и дыма, вытянувшись, лежал мистер Рочестер, погруженный в глубокий сон.
– Проснитесь! Проснитесь! – закричала я, тряся его за плечо, но он только что-то пробормотал и повернулся на другой бок. Видимо, дым его уже одурманил. Нельзя было терять ни секунды: уже начали тлеть простыни. Я кинулась к кувшину и тазу для умывания. К счастью, один был глубок, другой – широк, и оба полны воды. Я опрокинула их содержимое на постель и спящего, кинулась в свою комнату, принесла свой кувшин, вновь окрестила ложе сна и с Божьей помощью погасила огонь, его пожиравший.
Шипение утопленной стихии, звон разбившегося кувшина, который я бросила, едва он опустел, а главное, холодный душ, мною устроенный, наконец разбудили мистера Рочестера. Хотя вокруг воцарился мрак, я поняла, что он проснулся, так как услышала, как он изрыгает непонятные проклятия, обнаружив, что лежит в луже воды.
– Это что? Всемирный потоп? – воскликнул он.
– Нет, сэр, – ответила я. – Но начинался пожар. Встаньте, вы, наверное, совсем промокли. Я принесу свечу.
– Во имя всех эльфов подлунного мира, это Джен Эйр? – рявкнул он. – Что вы надо мной сотворили, ведьма, колдунья? Кто еще тут, кроме вас? Вы замышляете утопить меня?
– Я сейчас принесу свечу, сэр, и, во имя всего святого, встаньте! Кто-то что-то замышляет. И вам следует поторопиться, чтобы поскорее узнать, кто и что!
– Ну вот, я встал, но горе вам, если вы принесете свечу немедленно. Погодите две минуты, пока я не надену что-нибудь сухое, если тут осталось хоть что-то сухое! А! Мой халат. Теперь бегите!
И я действительно побежала, вернувшись со свечой, которая все еще горела в коридоре. Он взял ее из моих рук, поднял повыше и обозрел почерневшую, опаленную кровать, мокрые насквозь простыни, лужу на ковре.
– В чем дело? И кто виной?
Я коротко рассказала ему о странном смехе, который услышала в галерее, о шагах, затихших на лестнице третьего этажа, о дыме – о запахе гари, который привел меня в его комнату.
И о том, что я там увидела, и о том, как я утопила его во всей воде, какая оказалась под рукой.
Он выслушал меня с мрачной серьезностью, но на лице у него отражалось не столько удивление, сколько беспокойство. Когда я умолкла, он промолчал.
– Я позову миссис Фэрфакс? – спросила я.
– Миссис Фэрфакс? Нет! С какой стати ее звать? Чем она может помочь? Пусть себе спит спокойно.
– Ну так я схожу за Лией, разбужу Джона и его жену.
– Ни в коем случае. Посидите смирно, и все. Вы в шали? Но если вам холодно, завернитесь в мой плащ, он вон там. Укутайтесь в него и сядьте в кресло. Я вам помогу. Теперь поставьте ноги на скамеечку, подальше от сырости. Я на минуту вас покину и возьму с собой свечу. Оставайтесь тут, пока я не вернусь. Сидите тихо, как мышка. Мне надо подняться на третий этаж. Помните: не шевелитесь и никого не зовите.
Он ушел. Я следила, как удаляется пятно света. Он прошел по галерее совсем бесшумно, открыл дверь на лестницу почти без скрипа, закрыл за собой, и в галерее воцарился полный мрак. В непроницаемой тьме я прислушивалась, не раздастся ли какой-нибудь шум, но ничего не услышала. Прошло очень много времени, меня охватила слабость, и я мерзла, несмотря на плащ. Тут мне пришло в голову, что нет смысла и дальше сидеть здесь – ведь будить дом я не стану! И я уже была готова навлечь на себя гнев мистера Рочестера, ослушавшись его приказа, но тут на стену галереи лег светлый блик, и я услышала, как по ее полу ступают необутые ноги.
«Надеюсь, это он, – подумала я, – а не что-то пострашнее!»
Он вошел в спальню, бледный и очень мрачный.
– Я все выяснил, – сказал он, ставя свечу на умывальник. – Я так и предполагал.
– Но что, сэр?
Он не ответил и продолжал стоять, скрестив руки на груди, глядя в пол. Через несколько минут он спросил каким-то странным тоном:
– Не помню, вы сказали, что видели что-то, когда открыли свою дверь?
– Нет, сэр, ничего, кроме свечи.
– Но слышали странный смех? И, кажется, слышали его раньше? Во всяком случае что-то похожее?
– Да, сэр. Здешняя швея, Грейс Пул, она смеется именно так. Очень странная женщина.
– Вот именно. Грейс Пул! Вы догадались верно. Она, как вы говорите, странная женщина – и очень. Ну, я обдумаю все это. А пока я рад, что, кроме меня, только вы знаете, что тут случилось. Вы не пустоголовая болтунья и сумеете никому не проговориться. Я придумаю, как объяснить состояние кровати. – Он указал на нее. – А теперь возвращайтесь к себе. Я отлично скоротаю остаток ночи на диване в библиотеке. Уже почти четыре. Через два часа встанут слуги.
– Ну, так спокойной ночи, сэр, – сказала я, направляясь к двери.
Он как будто удивился – вопреки всякой логике, поскольку сам велел мне уйти.
– Как! – воскликнул он. – Вы уже покидаете меня? Прямо так?
– Вы же сказали, что я могу уйти, сэр.
– Да, но не попрощавшись, не сказав пары-другой добрых слов? Короче говоря, не так сухо и коротко! Вы же спасли мне жизнь! Избавили от лютой и мучительной смерти! И вы проходите мимо меня, будто мы даже не знакомы? Хотя бы обменяемся рукопожатием!
Он протянул свою руку, я протянула ему свою. Он взял ее, а потом сжал обеими руками.
– Вы спасли мне жизнь. Я имею удовольствие быть у вас в неоплатнейшем долгу. Большего я сказать не могу. Оказаться должником кого бы то ни было еще мне было бы невыносимо. Но вы – другое дело! Ваше благодеяние, Джен, не ляжет на меня тяжким бременем.
Он умолк и посмотрел на меня. Почти видимые слова рвались с его губ, но он ничего не сказал.
– Спокойной ночи, сэр. И нет никакого долга, никакого благодеяния, бремени или обязательств.
– Я знал, – продолжал он, – что вы каким-то образом когда-нибудь поможете мне. Я увидел это в ваших глазах в первую же минуту. Их выражение и улыбка не… – он вновь умолк, – не напрасно исполнили восторгом мое сердце. Утверждают, что существует особое родство душ… мне доводилось слышать о добрых духах… в самых невероятных сказках есть доля истины. Моя бесценная спасительница, спокойной ночи!
Непонятная сила в его голосе, непонятный огонь в его глазах.
– Я рада, что мне не спалось, – сказала я и сделала движение к двери.
– Как! Вы все-таки уходите?
– Я озябла, сэр.
– Озябли? И стоите в луже! Ну так идите, Джен, идите! – Но он продолжал держать мою руку, и мне не удавалось ее высвободить. Пришлось прибегнуть к уловке.
– Мне кажется, я слышу миссис Фэрфакс, сэр!
– Тогда уходите! – Он разжал пальцы, и я поспешила к себе.
Я легла в постель, но даже думать не могла о сне. До зари я была словно игрушкой неспокойного моря, под волнами радости закручивавшего подводные течения тревоги. Иногда мне чудилось, будто за бушующими валами виднеется берег, прекрасный, как Земля Обетованная, и ласкающие порывы ветра надежды победно уносили мой дух туда, но берег остался недостижимым даже в грезах – с суши задувал противный ветер, вновь и вновь относя меня назад. Здравый смысл восставал против упоения, рассудок остерегал страсть. Снедаемая этой лихорадкой, я поднялась с зарей.
30
Пылкую страсть (фр.).
31
Атлетическую фигуру (фр.).
32
Кружева (фр.).
33
Грызя (фр.).
34
Мой ангел! (фр.)
35
Мужской красотой (фр.).
36
Девочку (фр.).