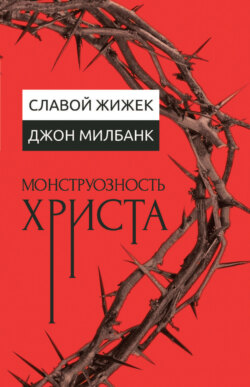Читать книгу Монструозность Христа - Славой Жижек - Страница 8
Введение: Страстная Суббота или Христово Воскресенье: неожиданные дебаты
Крестон Дэвис
III. Теология: ортодоксия или гетеродоксия?
ОглавлениеКонтекстуализуя как эпоху модерна, так и логику постмодернизма, мы начинаем различать более тонкие моменты этих дебатов, формирующих заново сами основы теологии, как мы ее знаем. Более того, эти дебаты между ортодоксальной и гетеродоксальной теологией симптоматичны для эпохи, достигнутой в конце модерна, конце опосредующих метанарративов, пытающихся синтезировать всю реальность в рамках одной истории. Бадью считает, что модерн – «идея исторического субъекта, идея прогресса, идея революции, идея человечества и идея науки»[42]. Больше не может быть суждения, использующего вне-исторический «разум», так как разуму (укорененному в не-трансцендентном) больше нельзя доверять. Наш век – век бескомпромиссной установки «победитель получает все». Это столкновение между Милбанком и Жижеком – интеллектуальный эквивалент «боев без правил», так как оба участника этих дебатов заново определяют само значение христианства, смерти Христа, Троицы и Церкви. Другими словами, на кону стоит сама суть теологии. В этом смысле мы можем видеть, как эти дебаты по сути своей отличаются от достаточно смирных и аполитичных дебатов об истине теизма против атеизма или науки против религии. Тема этой книги – не бестелесная вера, но истинная радикальная природа христианства и ее политическая важность. Другими словами, эти дебаты ведутся не просто об отказе от разума ради христианства, но в них происходит отказ от некоторого вида разума, а именно само-повторяющегося идеологического разума, повторяющего политический и экономический статус-кво[43].
Критическое мышление как Жижека, так и Милбанка о логике секулярного разума позволило им мыслить иначе о новых стратегиях мысли и связи. Соответственно, если мыслить иначе о связи и онтологии, то это поможет нам пересмотреть недавние тенденции модернисткого христианства. Таким образом, дебаты также вращаются вокруг вопроса о том, что заменит отказ от христианства, определенный модерном (и, соответственно, что заменит модерн в христианстве). Здесь и лежит локус трения между Милбанком и Жижеком, так как они разнятся в своих ответах на этот вопрос. Для Жижека вакуум модернисткого разума Просвещения заполнит движение негативного как «параллаксный взгляд», непрерывное «смещение перспективы между двумя точками, между которыми невозможен никакой синтез или опосредование»[44]. В этом отношении дебаты предоставляют нечто свежее, нечто новое и полное надежды, рискующее поставить под вопрос системное воплощение и возвращение секулярного разума как статус-кво, или того, что Бадью называет «состоянием ситуации»[45].
Тот факт, что эти дебаты не полностью заключены в рамки стандартной «капиталистической» просвещенческой версии разума, приоткрывает перед нами возможность, что они приведут не только к способу понять противоположную сторону состояния ситуации, но и к новому исследованию христианства после гибели его дополняющего – христианского капиталистического и культурного доминирования. Большая часть социальной сплоченности, связывающей консервативное и либеральное христианство воедино, непосредственным образом связана с распадом влияния христианства на культуру – эту логику «американская» теология Нибура не могла даже идентифицировать, а уж тем более – отвергнуть. Аргумент здесь прост: когда модернисткое христианство (т. е. протестантский либерализм) теряет свое влияние на культуру, оно создает сильного «другого» или врага, наделяющего консервативное христианство задачей восстановления своей культурно-империалистической установки и забытой силы. С другой стороны, ответ, предоставляемый либеральным христианством, основывается на той же логике «одного и того же/другого» консервативного христианства, только «другой» (или противоположный) для либерала – тот, кто действительно считает, что в мире есть истина[46]. Проблема в том, опять же, что эти две различные стороны дебатов соглашаются друг с другом. Они обе считают, что логика конкретного вида модерна диктует сами условия дебатов. Фундаментализм и либерализм, таким образом, по сути связаны в некотором виде модерна. И снова проблема здесь лежит в том, что теологические дебаты даже между Шлейермахером и Бартом буквально не могут позволить себе поставить под вопрос свои собственные предпосылки – но стороны в них различаются в том, что касается обоснования и интерпретации этих предпосылок. Таким образом, христианство в эпоху модерна – всего лишь модерн в христианстве, продолжающий самовоспроизводиться с помощью полемеической аргументации.
Короче говоря, теоретические координаты мысли, философии как либеральных, так и конфессиональных теологий, находящихся в долгу перед логикой модерна, все оказались не только плачевно неудовлетворительными эпистемологически и онтологически, но также и на другом основном уровне жизни – уровне действия. Эти теологии все оказались неспособны противостоять капиталистической глобальной Империи вместе с новым чрезвычайным положением безопасности, возникшим после 11 сентября. Это ясно, если рассмотреть основную структуру теологии XX века, которая пошла двумя основными путями: она либо заняла круговую оборону и сформировала «гетто» фундаменталистских-литералистких идеалов, или же продалась утилитарной американской корпоративной логике, которая сама со временем стала Империей. Хотя эти два пути в теологии XX века имеют отличительные признаки, они объединены на крайне неприятном уровне. Теологическая ориентация, оставившая мир, чтобы сохранить истину «христианства» (истину, находящуюся, на мой взгляд, в долгу у модерна относительно своего метода), не смогла остаться верной радикальной всеобщности Агапэ. Для фундаменталиста истина стала исключительной и основанной на пропозициях, высосавших жизнь из традиции.
Либеральная теологическая ориентация также потерпела неудачу, но не за счет того, что отступила в гетто, а скорее отказавшись от какой-либо связи с историей, мудростью и истиной со стороны самой традиции. Христианство либо сдалось и удалилось в свой модернистский коробок пропозициональной истины, либо подорвало свой собственный авторитет, воззвав к политически незаинтересованному взгляду (основанному на абстрактном и дегуманизирующем рыночном утилитарианизме), полностью неспособному уследить за скоростью технологического прогресса и растущей алчностью атеистического капитализма и националистской власти.
42
Badiou, Philosophy and Desire. P. 44.
43
Конечно же Милбанк и Жижек по-разному понимают точную логику разума – это различие нельзя изложить в простом введении.
44
Жижек, С. Устройство разрыва. Параллаксное видение. – М.: Издательство «Европа», 2008. С. 11.
45
Питер Холуорд определяет и обсуждает идею Бадью о «состоянии» или «состоянии ситуации» в Badiou, A. Ethics: An Essay on the Understanding of Evil. London: Verso, 2001. P. ix.
46
Для прочтения диалектики «одного и того же/другого» через призму истории США см. Morone, J. A. Hellfire Nation: The Politics of Sin in American History. New Haven: Yale University Press, 2003.