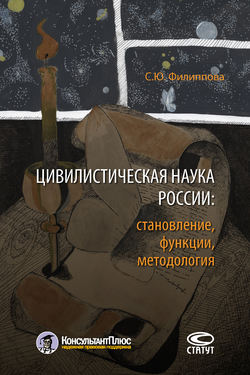Читать книгу Цивилистическая наука России: становление, функции, методология - Софья Юрьевна Филиппова, Ю. С. Харитонова - Страница 4
Глава I. Цивилистическая наука: понятие, место среди юридических наук
О понятии цивилистической науки: первое приближение
ОглавлениеВ литературе не так часто встречаются попытки дать определение цивилистической науки, выявив признаки, видовые отличия от иных правовых наук или каким-то иным способом. Исследование описаний сущности этого явления позволило обнаружить три подхода к цивилистической науке. Ее можно рассматривать как а) вид человеческой деятельности; б) определенные знания; в) социокультурный институт.
В юридической литературе четкого разграничения этих смыслов при рассмотрении цивилистической науки не проводится. Первый подход, в соответствии с которым цивилистическая наука рассматривается как разновидность человеческой деятельности, соответствует такому взгляду на науку вообще. Под наукой часто понимают «сферу человеческой деятельности, функцией которой являются выработка и теоретическая схематизация объективных знаний о действительности»[35], специальную социально организованную и социально признанную форму деятельности по получению знаний[36].
Одно из самых первых отечественных объяснений сущности науки в контексте исследования гражданского права основывалось на идее о том, что оно представляет собой науку «ясно и правильно понимать законы и применять их к встречающимся в общежитии случаям или происшествиям»[37]. Эта работа являлась одним из первых отечественных произведений в области гражданского права, опубликованным еще до инкорпорации гражданского законодательства в Свод законов, поэтому по содержанию данная работа была направлена на описание существующего гражданского законодательства, при этом деятельность по описанию гражданского законодательства на тот момент являлась, несомненно, научно-исследовательской, а научный результат, выраженный в виде такого описания, представлял огромную ценность как для дальнейших научных исследований, так и для практического применения. Предложенное объяснение рассматривает науку гражданского права как деятельность – наука понимается как определенная совокупность действий исследователя, в результате которых он а) понимает законы и б) применяет законы. Качественная характеристика результата этих действий определяется как «ясно» и «правильно», при этом критерии такой «ясности», «правильности» в работе не названы.
Еще одно деятельностное понимание науки гражданского права можно обнаружить в одном из самых известных советских учебников гражданского права. Авторы учебника полагали, что наука советского гражданского права изучает «закономерности гражданско-правового регулирования имущественных и личных неимущественных отношений социалистического общества и формулирует добытые знания в виде понятий, категорий, теорий и идей»[38]. Здесь наука понимается как деятельность а) по изучению закономерностей, и б) по формулированию полученных знаний в виде понятий. В этом определении указывается и предметная область приложения этой деятельности – закономерности гражданско-правового регулирования. Получается, что эти закономерности составляли предмет исследования. Научным результатом названы понятия, категории, теории и идеи. О методах, с помощью которых эти закономерности выявляются и исследуются, и о требованиях, предъявляемых к полученному результату (даже таких неопределенных, как вышеприведенные «ясно», «правильно») умалчивалось. В определении В. Вельяминова-Зернова сделан акцент на функциональной характеристике науки: получаемые знания ценны не сами по себе, а лишь поскольку позволяют применять право к встречающимся в общежитии случаям и происшествиям. В ленинградском определении науки практическая польза от научного знания, выраженного в виде понятий, категорий, теорий и идей, не ожидается.
В. А. Белов рассматривает науку (и, по всей видимости, цивилистическую науку тоже) как мыслительную аналитическую деятельность, призванную «постичь и объяснить закономерности изучаемого предмета, спрогнозировать и (при необходимости) направить его развитие в нужном направлении, поставив его на службу народному хозяйству и человечеству»[39]. Как можно заметить, в таком понимании содержится некоторое предвосхищение результата (указание на априорное существование закономерностей), одновременное рассмотрение этой науки как естественной (изучающей и объясняющей свой предмет, рассматриваемый как объективно существующий) и как технической (направленной на преобразование предмета). Отмечу и указание на цель этой деятельности – направить предмет (видимо, право?) «на службу народному хозяйству и человечеству».
Вообще, функциональных (деятельностных) (как приведенные подходы Вельяминова-Зернова и В. А. Белова) пониманий науки в отечественной цивилистике советского и постсоветского периода практически не встречается. Немногочисленные отечественные определения цивилистической науки как деятельности оставляют за рамками указание на то, какую именно потребность она удовлетворяет. Вместе с тем само по себе обнаружение закономерностей и конструирование понятий не удовлетворяют никаких человеческих потребностей, разве что любопытство. Пока акцентируем внимание на этой особенности деятельностных пониманий науки, в дальнейшем этот вопрос будет подробно освещен.
Функциональное деятельностное понимание науки можно встретить в работе К. Цвайгерта и Х. Кётца в качестве обоснования использования сравнительно-правового метода цивилистических исследований. Они пишут, что под правовой наукой можно понимать не только толкование национальных законов, правовых принципов и норм, но и «исследование моделей для предотвращения и урегулирования социальных конфликтов»[40].
Как видим, ученые рассматривают науку как деятельность (исследование), направленную на получение знаний о национальном законодательстве, правовых принципах и нормах, а также моделях, причем содержательным признаком этой деятельности является указание на ее цель – предотвращение и урегулирование социальных конфликтов. Данное определение приводится, чтобы показать потенциальную возможность функционально-деятельностных пониманий цивилистической науки. В приведенном определении К. Цвайгерта и Х. Кётца содержится указание на вполне прагматическую задачу, для которой цивилистическая наука могла бы послужить, причем эта задача намного более конкретная, чем названная в первом деятельностном определении, – не просто применять законы к случающимся происшествиям, а предотвращать и урегулировать конфликты.
Второй подход, рассматривающий цивилистическую науку как определенные знания, значительно более широко, в сравнении с деятельностным, представлен в советской и современной учебной литературе.
Так, О. А. Красавчиков дал следующее определение науки гражданского права. «Советскую науку гражданского права можно определить как науку о специфических социальных закономерностях гражданско-правового регулирования социалистических общественных отношений»[41]. Мы видим сходство этого определения с приведенным выше, данным десятилетием позже в ленинградском учебнике, деятельностным определением науки, что обусловлено серьезным вкладом работы О. А. Красавчикова в развитие представлений о цивилистической науке. Вместе с тем О. А. Красавчиков рассматривал ее не как процесс (изучение, формулирование), а как статичный результат – сами закономерности регулирования отношений. Такое понимание науки ставит вопрос об обоснованности заложенного в нем предвосхищения научного результата. Как видно, в определение заранее включены два вывода о том, что: а) гражданско-правовое регулирование имеет закономерности, а также б) эти закономерности носят социальный характер. Получается, что все научные результаты, относящиеся к науке гражданского права, ограничены ожидаемым характером выводов (непременно будут выявлены именно социальные закономерности). Это похоже на часто цитируемый афоризм Л. Д. Ландау: «Как Вы можете решать задачу, ответа на которую Вы не знаете заранее?»[42] А что, если обнаружится отсутствие упомянутых закономерностей? А если эти закономерности обусловлены не социальными причинами, а этическими, филологическими, техническими или еще какими-то?
Отмечу также то обстоятельство, что само родовое понятие (наука), имеющее по меньшей мере три вышеупомянутых значения, не раскрывается. Можно предположить, что ученый рассматривает науку как некий набор знаний, но прямо из самого определения это не следовало. Это делает недостаточно определенным понятие, оставляя неясным, частью чего является определяемая гражданско-правовая наука – в каком из трех пониманий рассматривает науку гражданского права ученый.
Еще один вариант рассмотрения цивилистической науки как знаний можно обнаружить в одном из современных учебников гражданского права. Цивилистическую науку определяют как «учение о гражданском праве», «систему научных знаний – понятий, категорий, цивилистических конструкций, положений и выводов – о гражданско-правовом регулировании общественных отношений: свойствах и закономерностях его функционирования и развития, способах достижения его эффективности, средствах получения новой информации, необходимой для его совершенствования». Своим предметом эта наука имеет «гражданско-правовые явления во всем их многообразии (в том числе в различных правопорядках) и в историческом развитии»[43]. Обратим внимание на некоторые важные моменты этого определения.
Первое, что обращает на себя внимание, – указание на системный характер знаний. Получаемые знания названы «учением», что предполагает единство и согласованность таких знаний. Такая характеристика требует дополнительных пояснений в части образования данной системы, определения ее элементов, компонентов и связей между ними. Являются ли такими элементами отдельные научные произведения или отдельные концепции, а может быть, отдельные идеи? Что является минимальным компонентом этой системы? Любые ли идеи включаются в систему науки, и если да, то как она при этом сохраняет свою системность; а если нет, то по каким критериям и кем осуществляется выявление и отсев тех идей, концепций, произведений, которые включаются или не включаются в эту систему в качестве элемента? Каким образом осуществляется связь между отдельными элементам, через какое общее интегрирующее начало? Существует такое одно «единое начало» или их несколько, вокруг которых объединяются разные концепции?
Отмечу, что само свойство системности науки поддерживается не всеми исследователями, что и понятно, с учетом того числа вопросов, которые такой подход вызывает. В. А. Томсинов специально подчеркивает, что «наукой может быть названа лишь системная совокупность знаний»[44], однако, например Р. Лукич, определяя науку в контексте выявления сущности правовой науки, отметил, что она представляет собой совокупность особых эмпирических суждений, отличающихся систематичностью, глубиной и специфическими методами их получения[45]. Как видим, здесь требование систематичности предъявляется не к науке, а к отдельным суждениям, при этом сами эти суждения образуют совокупность, именуемую наукой. То же родовое понятие («совокупность научных знаний») использует В. А. Белов[46], о том же пишет В. М. Сырых, который, определяя понятие юридической науки вообще, квалифицирует ее как совокупность знаний. В качестве совокупности знаний юридическую науку вообще и отраслевые науки в частности определяют довольно часто. В отличие от системы к совокупности не предъявляется столь строгих требований по составу и свойствам. Рассматривая цивилистическую науку как совокупность, а не систему знаний, с одной стороны, можно не искать единства между всеми научными идеями и концепциями, в том числе и антагонистическими по отношению друг к другу. Но, с другой стороны, отсутствие такого единства приводит к невозможности говорить о едином учении о гражданско-правовом регулировании отношений, как это делается в приведенном выше определении из учебника. Идея о единстве и системности науки коррелирует с упомянутой во введении настоящей монографии концепцией Т. Куна. Действительно, все исследования в рамках одной парадигмы связаны с достижениями, образующими ядро такой парадигмы в единое целое и в этом смысле могут рассматриваться как образующие систему. Вместе с тем, если пользоваться той же концепцией, одна парадигма не образует всей науки, а только одну ее часть, параллельно с которой образуются отклоняющиеся исследования, которые накапливаются и вызывают научные революции.
Второй момент, на который хотелось бы обратить внимание, связан с выделением предметной области цивилистической науки, которую предлагается обозначать через гражданско-правовое регулирование определенной сферы. Иначе говоря, предлагается связывать предмет науки с предметом законодательства. При этом вопрос о том, что такое гражданско-правовое регулирование, каковы его границы сам по себе является одним из тех, на который адекватного ответа пока еще найти не удалось. Правильно ли связывать предметную область цивилистической науки с усмотрением законодателя или отбор явлений, относящихся к предмету науки, имеет какие-то устойчивые критерии, а может быть, определяется исключительно произволом ученого? Гражданско-правовая наука исследует гражданско-правовые явления. Осталось определить, что же это за явления и каким образом они выбраны.
Третье, на что следует обратить внимание, есть указание на «рассмотрение их [явлений] в многообразии и в историческом развитии». Это наводит на мысль о признании в качестве одного из ключевых исторического метода. Вместе с тем необходимость и целесообразность рассмотрения гражданско-правового регулирования именно в историческом развитии нуждаются в обосновании и оценке.
И последнее обстоятельство, на которое стоит обратить внимание. В эту систему знания включены знания о средствах получения информации. Такое указание вызывает множество вопросов. Почему эта информация включается именно в цивилистическую науку, а не, скажем, в информатику?
Получается, что определение, данное в учебнике, не слишком продвинуло нас к пониманию сущности цивилистической науки. Сомнения вызывает как избранный род («система знаний» или «учение»), так и видовые отличия, которые требуют пояснения и осмысления. Отмечу, что сами по себе сложности с определением понятия цивилистической науки не являются сколько-нибудь значимой проблемой, если при этом все понимают, о чем идет речь. Однако в рассматриваемом случае вряд ли это так.
Цивилистическая наука как социальный институт может рассматриваться как совокупность научных организаций, исследователей, объединенных в научные школы, выполняющий определенные задачи в обществе, связанные с выработкой знания о частном праве, улучшением информирования населения, в том числе и работников правоохранительных органов о текущем состоянии правового регулирования частных отношений, формированием и внедрением в правосознание представлений о лучших способах получения правового результата. Детально данный ракурс понимания цивилистической науки будет рассмотрен далее в настоящей главе.
Еще один любопытный ракурс рассмотрения цивилистической науки можно вывести из представлений о юридической науке в целом, сложившихся в аксиологии. Юридическая наука определяется как наука, изучающая способы конкретного нормирования поведения[47]. Как видно, здесь выделен совершенно другой аспект в рассмотрении юриспруденции. Понятие юриспруденции дано в деятельностном ракурсе – как определенная исследовательская деятельность. Предметом такого исследования определено не само по себе право как система норм, а деятельность по нормированию (упорядочению с помощью правил) поведения людей. Ясна цель науки в таком понимании и представлении об ожидаемом научном результате. Действительно, со стороны виднее, чем именно надлежит заниматься юридической науке! Исходя из такого подхода цивилистическую науку можно было бы определить как науку, изучающую способы конкретного нормирования поведения субъектов, находящихся в состоянии равенства, автономии воли и имущественной самостоятельности. В таком понимании предметом исследования является деятельность по нормированию (упорядочению) человеческого поведения с помощью возможностей, предоставленных правом. Такой подход представляется перспективным.
35
См.: Философский словарь. М., 2004. С. 387.
36
См.: Касавин И. Т., Сокулер 3. А. Рациональность в познании и практике. Критический очерк. М., 1989. С. 45.
37
Вельяминов-Зернов В. Опыт начертания российского частного гражданского права. СПб., 1814. С. 1.
38
Советское гражданское право. Ч. 1 / Отв. ред. В. Т. Смирнов, Ю. К. Толстой, А. К. Юрченко. Ленинград, 1982. С. 37 (автор главы – Ю. К. Толстой).
39
См.: Белов В. А. Наука права (правоведение или юриспруденция): кризисное состояние и пути его преодоления // Закон. 2016. № 11. С. 43.
40
Цвайгерт К., Кётц Х. Сравнительное частное право. М., 2011. С. 23.
41
Красавчиков О. А. Советская наука гражданского права (понятие, предмет, состав и система).
42
Рождественская физика. Цит. по: Семякин М. Н. Проблемы современного понимания методологии цивилистического правоведения. Режим доступа из СПС «КонсультантПлюс».
43
См.: Российское гражданское право. В 2 т. Т. 1: Учебник / Под ред. Е. А. Суханова. М., 2011. Режим доступа из СПС «КонсультантПлюс».
44
Томсинов В. А. Понятие юридической науки и ее роль в развитии и функционировании права // Государство и право. 2016. № 4. С. 11.
45
См.: Лукич Р. Методология права. М., 1981. С. 85–86.
46
Наука гражданского права как система / Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / Под ред. В. А. Белова. М., 2007. С. 162.
47
См.: Ильин В. В. Указ. соч. С. 11.