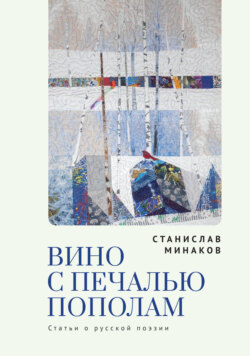Читать книгу Вино с печалью пополам. Статьи о русской поэзии - Станислав Минаков - Страница 3
I. Тропинки
«Чуть приметна тропинка росистая…»
К юбилеям поэтов Кольцова и Никитина
ОглавлениеДни рождения всероссийски любимых поэтов-воронежцев – соседствуют: 3 октября по нов. ст. родился Иван Саввич Никитин (1824–1861), а 15 октября – Алексей Васильевич Кольцов (1809–1842).
Они располагаются рядом не только во времени и географии, но и в наших сердцах, в русских антологиях поэзии, песен, романсов. Стихи И. Никитина, А. Кольцова, как и Н. Некрасова, А. Пушкина, М. Лермонтова, живут как предание, входят в кровь и плоть русского человека.
Молодой публицист И. Ушакова, уроженка посёлка Оленино Тверской области, в частной переписке вспоминает: «Мой дедушка говорил по утрам моему маленькому сыну кольцовское: “Что ты спишь, мужичок? Ведь весна на дворе…” И в том, что дед его так журил, была и отеческая забота и нежность к чадам, и напоминание о том, что труд красит человека, облагораживает, вдохновляет, и доверие природе, которая в ответ не может не благоволить нам. И была ещё в этих словах какая-то былинная сладкая грусть, что ведь это вечное: и мужичок, и весна. А всего-то две строчки, написанные почти двести лет назад!».
Эта преемственная реплика для нас важна и показательна, поскольку принадлежит человеку нового поколения. Вот, словно в нерасторжимой связке, слова упомянутой выше молодой писательницы и о Никитине: «Первая моя книга – и сейчас любимая. Мне четыре года. Помню тепло от печи, свет от пяти окон в просторной бабушкиной горнице. В кухне зашумели разговоры. Это приехал мамин крёстный, прошёл в калитку, скользнув под яблоневую ветвь, поднялся на крыльцо, и вот в моих руках – его дорогой подарок, “стихи”. Открываю наугад новенькую книгу и вижу рисунок: в калитку входит господин в чёрном цилиндре. Опираясь на трость, он оглядывает заросли сада перед домом и, наверное, слушает пение птиц. Я долго глядела на этого господина и на заросший сад – в тонкой брошюре Ивана Никитина, изданной в 1982 г. Это была иллюстрация к стихотворению “Первый гром прогремел”».
Напомним, что стихотворение заканчивается такими строками:
Стал уютней, светлей уголок мой теперь:
Этой кроткой семьи новоселье,
Может быть, после смут, и борьбы, и потерь
Предвещает мне мир и веселье!
Написано словно для нас, сегодняшних, живущих в грозовые времена. А какие времена в России – не грозовые?
И. С. Никитин напишет из Воронежа в письме Н. И. Второву в 1859 г.: «Где это золотое время, когда, бывало, при закате солнца мы бродим с Вами по полям, говорим о том, что облагораживает душу; между тем в синеве звучит над нами весёлая песня жаворонка, тучки горят в огне, поле застилается туманом, рожь засыпает и запах созревающего колоса разливается в свежем вечернем воздухе… Невозвратное время! Теперь уже не с кем побродить мне по полям».
Иван Никитин – поэт провинциального простонародья, сочинивший песню, которую знала вся Россия, и русское сердце до сих пор отзывается ей: «Ехал из ярмарки ухарь-купец…». Он был и патриотом, и вольнодумцем. В Воронеже в круг Никитина вошёл молодой учитель Алексей Суворин (в нынешнем году отмечали 180 лет со дня его рождения), уроженец села Коршево Бобровского уезда Воронежской губернии, тогда вольнодумец и чуть ли не либерал (а кто не вольнодумец в молодости!), а потом – столп русского консерватизма. Он привязался к этим «бородатым воронежским острословам, хмельным спорам, журнальным новинкам и потрёпанным книгам».
Нам сегодня также пора вспомнить, что русского человека гнал трудиться не «план пятилетки», а призывала сама природа, рождавшая в нём песню, которую и вынесли из народных глубин Кольцов и Никитин, «подслушали» Глинка, Чайковский, Рахманинов. На стихи А. Кольцова, вобравшие в себя дыхание русской природы и русского характера, общенародную мудрость, написаны произведения Римского-Корсакова, Мусоргского, Даргомыжского, много писал Балакирев (помните «Обойми, поцелуй…»?). Популярным романсом стали стихи Кольцова «Разлука» (1840), впоследствии положенные на музыку Гурилёвым.
Московский композитор Владимир Беляев, многие годы проживший в Воронеже, с 2003 г. профессор кафедры оркестрового дирижирования Российской академии музыки им. Гнесиных и Московского государственного института музыки им. Шнитке, написал в 1986 г. музыку к балету «Алексей Кольцов».
Наш современник А. Печерский, пораженный величием и благостью строк Никитина, сразу решил, что созданная им православная народная газета будет называться «Русь Державная». И она выходит, уже почти два десятка лет, – с иконой Богородицы «Державная» в логотипе на первой полосе.
А как Кубанский казачий хор исполняет эту песню!
Это ты, моя
Русь державная,
Моя родина
Православная!
Широко ты, Русь,
По лицу земли
В красе царственной
Развернулася!
У Никитина, как и у его старшего товарища Кольцова, поэзия народно-песенна: «Старый мельник» или «У кого нет думы». А вот «Гнездо ласточки»: «Одна певунья-ласточка, Под крышей обжилась, Свила-слепила гнёздышко, Детьми обзавелась…» У Никитина – живо понятие «любить», равносильное «жалеть»; так он и о жаворонках пишет, и о «сохе-матушке», и «зреет рожь – тебе заботушка», и «хлеб поспел – тебе кручинушка». Эти слова ласкают русское сердце и в наш железный век. Так бабушки наши говорили. Поэзия была их дом.
Человек на земле, даже на барщине – всё же «живей» и свободнее человека, мигрировавшего на тесную городскую кухню, будь он инженер или учитель. Человек на земле способен объять Вселенную, и она для него – центр мира, он благословляет власть Божию, власть природы, власть отца Отечества, а человек, оторванный от земли, читай традиций, исторической памяти, национальной культуры, иерархии во всём строе мироздания, не способен принять власть даже самую расположенную к нему, ибо центр мира для него – его личность, как правило, угнетённая.
Русские поэты писали о тоске по той воле, которая влекла русского странника до Сибири и Крыма, до Каспия и Беломорья. Не лишь о бедности своей плакал мужик, а тяготился земным миром и жаждал Небесных благ.
Критик Белинский скажет о Кольцове: «Он носил в себе все элементы русского духа, в особенности – страшную силу в страдании и в наслаждении, способность бешено предаваться и печали, и веселию, и вместо того, чтобы падать под бременем самого отчаяния, способность находить в нём какое-то буйное, удалое, размашистое упоение».
И чтоб с горем в пиру
Быть весёлым лицом;
На погибель идти —
Песни петь соловьём!
Но и Белинский не всё сразу понял: в 1835 г. сказав о Кольцове, де, «он владеет талантом не большим, но истинным, даром творчества не глубоким и не сильным, но неподдельным и ненатянутым», после смерти поэта, в 1846 г., всё ж назвал его «гениальным талантом». И стал в краткой жизни Кольцова другом ему.
* * *
Алексей Кольцов родился в семье прасола, учился в уездном училище, но не кончил и двух классов: отец заставил его помогать в своих торговых делах. Разъезжая в степи с гуртами скота, ночуя под открытым небом, Кольцов с шестнадцати лет начал сочинять стихи. Перенеся несчастную любовь к крепостной прислуге, горничной Дуняше, девушке редкой красоты и чуткости, проданной его отцом донскому помещику в отдалённую казацкую станицу, юный поэт слёг в горячке и едва не умер.
На заре туманной юности
Всей душой любил я милую:
Был у ней в глазах небесный свет,
На лице горел любви огонь.
Что пред ней ты, утро майское,
Ты, дубрава-мать зелёная,
Степь-трава-парча шелковая,
Заря-вечер, ночь-волшебница.
В 1825 г. Кольцов приобрёл на базаре сборник стихов И. Дмитриева и пережил глубокое потрясение, познакомившись с «российскими песнями» – «Стонет сизый голубочек», «Ах, когда б я прежде знала». Он убежал в сад и стал распевать в одиночестве эти стихи, уверенный в том, что все стихи – песни, что все они поются, а не читаются.
Кольцову было 24 года, когда московский философ и поэт Станкевич опубликовал в «Литературной газете» одну из его песен. Тогда же была выпущена первая книга стихов молодого поэта. В 1836 г. Кольцов по торговым делам был в Петербурге, на «олимпиадинском чердаке» Жуковского в Шепелевском дворце – с П. Вяземским, В. Одоевским, И. Крыловым. Он завёл дружбу с художником Венециановым, появился на знаменитых литературных вечерах у профессора П. Плетнёва. Особое впечатление на Кольцова произвело знакомство с Пушкиным и беседы с ним о литературе. Пушкин напечатал в своём журнале «Современник» стихотворение Кольцова «Урожай». Потрясённый безвременной кончиной поэта, Кольцов посвятил его памяти стихотворение «Лес» (1837), в котором «через эпический образ русской природы передал богатырскую мощь и национальное величие поэтического гения Пушкина».
Летом 1937 г. Кольцова навестил в Воронеже поэт Жуковский, сопровождавший наследника престола в путешествии по России.
Но в мещанской будничной провинции поэт был одинок. «Тесен мой круг, грязен мой мир; горько жить мне в нём; и я не знаю, как я ещё не потерялся в нём давно». Заболев чахоткой, при полном равнодушии невежественного и жестокого отца А. Кольцов скончался тридцати трёх лет от роду.
Песням Кольцова нельзя подобрать какой-либо «прототип» среди известных фольклорных текстов. Он сам творил песни в народном духе, овладев им настолько, что в его поэзии воссоздается мир народной песни, сохраняющий все признаки фольклорного искусства, но уходящий в область собственно литературного творчества.
Ах ты, степь моя,
Степь привольная,
Широко, ты, степь,
Пораскинулась,
К морю Чёрному
Понадвинулась!
Замечательно подмеченное Д. С. Мережковским обстоятельство: «В заботах о насущном хлебе, об урожае, о полных закромах у этого практического человека, настоящего прасола, изучившего будничную жизнь – точка зрения вовсе не утилитарная, экономическая, как у многих интеллигентных писателей, скорбящих о народе, а, напротив, – самая возвышенная, идеальная даже, если хотите, мистическая, что, кстати сказать, отнюдь не мешает практическому здравому смыслу. Когда поэт перечисляет мирные весенние думы сельских людей, третья дума оказывается такой священной, что он не решается говорить о ней. И только благоговейно замечает: “Третью думушку как задумали, Богу Господу помолилися”».
Поэзия Кольцова оказала большое влияние на русскую литературу. Под обаянием его «свежей», «ненадломленной» песни находился в 1850-е Фет, народно-крестьянские мотивы Кольцова развивали в своём творчестве Некрасов и его последователи, в XX в. песенные традиции Кольцова были подхвачены Исаковским, Твардовским и другими.
* * *
Иван Никитин родился на 15 лет позже Кольцова, в мещанской семье. Когда Кольцов умер, девятнадцатилетний Никитин только входил в жизнь. Известно стихотворение Никитина «У могилы Кольцова»: «Опадает листва на могилу Кольцова, Умирают слова и рождаются снова…»
Всё же считают, что влияние Кольцова и Некрасова на Никитина было непродолжительным. Сходство мотивов подсказывалось отчасти сходством жизненных условий, отчасти – родственностью дарований. Оригинальная и существеннейшая черта поэзии Никитина – правдивость и простота, доходящие до самого строгого непосредственного воспроизведения житейской прозы. Все стихотворения Никитина посвящены либо природе, либо людской нужде. И в тех, и в других поэт совершенно свободен от каких бы то ни было нарочитых эффектов и праздного красноречия. В одном из писем Никитин называет природу своей «нравственной опорой», «светлой стороной жизни» – она заменяла ему живых людей. У него природа – необходимый и единственный источник мира и утешения.
Иван Никитин учился в духовном училище и семинарии. Из-за расстроившихся дел отца учиться в университете ему не привелось, он вынужден был сделаться сидельцем при торговле восковыми свечами. Отрочество и ранняя молодость Никитина представляют печальную картину нужды, одиночества, «беспрестанных обид самолюбию», изображённую им впоследствии в поэме «Кулак» (1857), вызвавшей весьма благосклонный отзыв академика Грота.
Мать поэта, не выдержав семейного деспотизма и пьяных выходок мужа, скончалась, когда сын ещё не вышел из отроческого возраста. Позже Иван Саввич писал:
Я помню ночь: перед моей кроваткой,
Сжав руки, с мукою в чертах,
Вся бледная, освещена лампадкой,
Молилась мать моя в слезах.
Я был в жару. А за стеною пели.
Шёл пир семейный как всегда.
Испуганный, я вздрагивал в постели.
Среди товарищей Никитин оставался нелюдимым и одиноким. Утешение находил в общении с природой. Случайно узнал о Шекспире, Пушкине, Гоголе и Белинском и читал их украдкой, с усердием. На даровитого мещанина особенно сильное впечатление произвели песни земляка Кольцова; Никитин решился обратиться со своими стихотворными опытами в редакцию «Воронежских Губернских Ведомостей». То самое патриотическое стихотворение «Русь» (про Русь державную), написанное по поводу Крымской военной кампании, нашло благосклонный приём, и с того времени началась популярность Никитина. По успешном издании книги своих стихотворений поэт получил ссуду под полное собрание сочинений и открыл книжную лавку, сделавшуюся центром воронежской интеллигенции. На просп. Революции в Воронеже сегодня имеется мраморная доска с надписью: «В этом доме была книжная лавка-библиотека поэта И. С. Никитина (1859–1861 гг.)». У Никитина можно было купить книги, а можно было просто взять почитать.
Но в столицах, куда ездил по книжным делам, он не знакомился с литераторами, ему было неинтересно; следы семинарской отчуждённости и долголетней борьбы с нуждой оставались неизгладимыми. Умер поэт Никитин в 37 лет. Знаменитая элегия стала своеобразным завещанием, выбитым на его могильном памятнике:
Вырыта заступом яма глубокая,
Жизнь невесёлая, жизнь одинокая,
Жизнь бесприютная, жизнь терпеливая,
Жизнь, как осенняя ночь, молчаливая,
Горько она, моя бедная, шла.
И, как степной огонёк, замерла.
На слова Никитина написано более 60 песен и романсов, известными композиторами – Римским-Корсаковым, Калиниковым и другими.
В Воронеже теперь ежегодно проводятся праздники поэзии – Кольцовско-Никитинские дни. Своим литературным авторитетом край изначально обязан им – Алексею Кольцову и Ивану Никитину, похороненным рядом в воронежском «Литературном некрополе».
2014