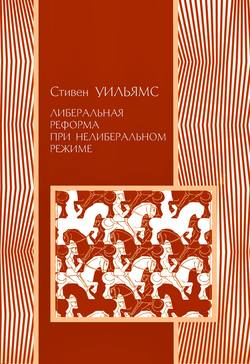Читать книгу Либеральные реформы при нелиберальном режиме - Стивен Уильямс - Страница 10
Глава 1
Создание частной собственности, децентрализация власти
Права собственности, гражданское общество и либеральная демократия
ОглавлениеНачатые в 1906 г. реформы прав собственности непосредственно культивировали «либеральный» аспект либеральной демократии, т. е. систему прав и отношений, в которых люди находят свои ниши в частном порядке, где люди взаимодействуют между собой как свободные граждане, где ресурсы распределяются преимущественно через рынок, а граждане вольны создавать группы для достижения общих целей (включая не только благотворительные организации, но и товарищества, кооперативы и корпорации).
Система коллективизированных прав крестьян на наделы серьезно противоречила либерализму. В сравнении с личной собственностью здесь предоставлялось меньше возможностей для личной инициативы. Права были неопределенны, а отношения землевладельцев запутаны. Человек не мог просто так выйти из общины со своей собственностью (или даже без нее). Все это препятствовало развитию отношений, основанных на том, что каждая из сторон имеет независимые представления о собственном благе, но при этом признает также, что другие свободны не присоединяться или не участвовать.
Права собственности, созданию и укреплению которых способствовали столыпинские реформы, были напрямую связаны с либерализмом, но косвенно стояли в связи и с «демократическим» аспектом либеральной демократии. Во‐первых, если сутью либеральной демократии является широкая децентрализация власти, то широкое распространение частной собственности является сутью этой сути. Частная собственность позволяет владельцу самому судить о том, как использовать производительные ресурсы. Как уже было отмечено, при альтернативной системе распределения власти, основанной на принципе иерархии или патронажа, власть оказывается относительно концентрированной. Даже если взять демократические выборы, где избиратели имеют возможность избрать команду, которая будет принимать тысячи решений в следующие несколько лет, они не создают реального рассредоточения власти – разве что в ограниченном смысле, поскольку соперничество между партиями на выборах обеспечивает некоторое рассредоточение власти в политическом классе. Помимо того, что частная собственность непосредственно дает собственникам возможность принимать независимые решения в качестве производителей и потребителей, она же открывает политическим предпринимателям доступ к широкому кругу независимых источников содействия, что дает им возможность предложить большее разнообразие вариантов, а это увеличивает власть избирателей.
Во‐вторых, права собственности и либерализм способствуют росту производительности, что облегчает поддержание либеральной демократии. Когда прилив поднимает все лодки, моряки менее склонны к мятежу.
Наконец, многие буржуазные добродетели, которых требует и которые воспитывает рыночная экономика, идеально соответствуют тем, в которых нуждается здоровый демократический процесс – в умении договариваться о взаимовыгодных решениях, ведь главное наступательное и оборонительное оружие каждой стороны – это способность найти другого партнера для сделки, что в равной мере относится как к покупателям, так и к продавцам товаров и услуг. Уважение к правам других и их защита – это общая почва либерализма и того рода устойчивой демократии, в которой люди, занимающие высокие должности, безропотно покидают их, потерпев поражение[28].
Разумеется, если гражданское общество не будет обуздывать хищничество, частная собственность окажется чрезвычайно уязвимой, поскольку правящие элиты легко смогут отмахнуться от нее или подорвать ее независимость. Гражданское общество обеспечивает надежность прав групп, владеющих производительной собственностью. Его эффективность отчасти зависит от способности групп к самоорганизации. Маркс отметил, что это проблема для крестьян, поскольку слабость их рыночных позиций подрывает их способность защищать себя политическими средствами: «Парцельные крестьяне составляют громадную массу, члены которой живут в одинаковых условиях, не вступая, однако, в разнообразные отношения друг к другу. Их способ производства изолирует их друг от друга, вместо того чтобы вызывать взаимные сношения между ними… Каждая отдельная крестьянская семья почти что довлеет сама себе, производит непосредственно большую часть того, что она потребляет, приобретая таким образом свои средства к жизни более в обмене с природой, чем в сношениях с обществом… Поскольку между парцельными крестьянами существует лишь местная связь, поскольку тождество их интересов не создает между ними никакой общности, никакой национальной связи, никакой политической организации, – они не образуют класса. Они поэтому неспособны защищать свои классовые интересы от своего собственного имени, будь то через посредство парламента или через посредство конвента»[29].
Современной иллюстрацией положения Маркса может служить способ, каким во многих странах Африки и Латинской Америки правящие элиты вводят регулирование цен на продукцию тех, кого Маркс назвал «парцельными крестьянами», с целью изъятия значительной части их дохода в пользу горожан. Исключением является только Кения, где крупные фермеры сумели заручиться достаточной политической поддержкой и защитили не только самих себя, но и мелких крестьян[30]. В связи со столыпинскими реформами возникает вопрос: смогли бы крестьяне подобным же образом защитить новые для них права собственности.
28
См.: Christopher Clague, Philip Keefer, Stephen Knack, and Mancur Olson, “Property and Contract Rights in Autocracies and Democracies,” in Democracy, Governance, and Growth, eds. Steven Knack, еt al. (2003), 136, 173.
29
Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2‐е изд. Т. 8. С. 207. Цит. по: Moeletsi Mbeki, “Underdevelopment in Sub‐Saharan Africa: The Role of the Private Sector and Political Elites,” CATO Foreign Policy Briefing No. 85 (April 15, 2005). Маркс сравнивает крестьян с пролетариями, но сказанное им дает возможность сравнить их и с фермерами, действующими в рыночном окружении и имеющими возможность превратиться в буржуазию, в способности которой защищать свои классовые интересы Маркс, конечно, никогда не сомневался.
30
Daron Acemoglu, Simon Johnson, and James Robinson, “Institutions as the Fundamental Cause of Long‐Run Growth” (National Bureau of Economic Research Working Paper 2004), будет опубликована в Handbook of Economic Growth, eds. Philippe Aghion and Steve Durlauf, 55–58.