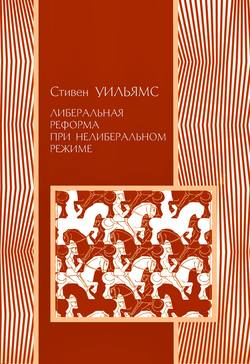Читать книгу Либеральные реформы при нелиберальном режиме - Стивен Уильямс - Страница 9
Глава 1
Создание частной собственности, децентрализация власти
Либеральная демократия
ОглавлениеПоскольку в этой книге предполагается, что либеральная демократия есть вещь в целом желательная, позвольте мне кратко изложить свое представление о ней. Я не собираюсь навязывать читателям собственное определение, а всего лишь попробую установить определенные рамки. В соответствии с задачами этой книги я использую достаточно гибкие критерии, охватывающие и теоретическую модель, в которой государство ограничено ролью ночного сторожа, и современные англо‐американские демократии, и дирижистские режимы континентальной Западной Европы.
Если говорить только о правительстве, избираемом людьми на свободных выборах, «демократия» – это сравнительно простая концепция. Но без «либерализма» всеобщие выборы не могут обеспечить свободы, открытости возможностей или справедливости; собственно говоря, без либерализма вообще нельзя быть уверенным, что первые свободные выборы не окажутся и последними.
Либерализм, в моем толковании, требует (по меньшей мере) соблюдения принципа верховенства права, прав частной собственности, свободы слова, энергичного гражданского общества и подходящего склада ума. Эти критерии до известной степени перекрывают друг друга и могут оказаться неполными. О каждом придется сказать несколько слов.
Принцип верховенства права состоит из нескольких элементов:
1) само правительство, чтобы сдержать его хищнические инстинкты, должно быть ограничено рамками закона. (Для того, чтобы подчинить правительство закону, не обязательны суды; иногда достаточно традиций и гражданского общества, как это имеет место в Британии со времен революции 1688 г.);
2) законы должны быть достаточно четкими, чтобы результаты судебных разбирательств были в целом предсказуемы, потому что только при этом условии законы могут быть основой принятия экономических и других решений;
3) суды должны быть независимыми и более или менее беспристрастными;
4) четко определенные права собственности, права, вытекающие из договоров, права, вытекающие из корпоративного управления, и деликтные иски должны обеспечиваться судами, с тем чтобы физические и юридические лица сдерживали свои хищнические взаимные поползновения и могли добровольно сотрудничать в реализации конструктивных замыслов;
5) необходимо формальное равенство перед законом, т. е. не должно быть каст, пораженных в правах.
Второе, права собственности, хоть о них уже и было сказано в связи с принципом верховенства права, заслуживают отдельного обсуждения. Они должны быть достаточно прочными, чтобы собственники могли противостоять хищническим поползновениям государства, и, вообще говоря, и число их должно быть как можно больше, чтобы уменьшить риск взаимных хищнических поползновений собственников. Если в государстве не установлены действенные права собственности, граждане и фирмы могут защищать свои интересы только через патронажные отношения, т. е. посредством неформальных, личных связей с политически влиятельными лицами. Эта система отражена в вопросе, который часто задавали в Советской России: «К кому же ты тогда пойдешь?»[25] Иными словами: «Есть ли у тебя высокопоставленный партийный чиновник, к которому можно обратиться за помощью, когда государство или люди начинают тебя травить?» Зависимость клиентов в системе патронажных отношений несовместима с положением человека в либеральной демократии.
В патронажных структурах дружба, связи и сопутствующее лизоблюдство превращаются в жизненно важную валюту. Точная информация, которую, пусть и с небольшими искажениями, поставляют рынки и частная собственность, редка, хотя она имеет критически важное значение для принятия экономических решений. Не имея информации об относительных ценах, управляющий или предприниматель не может принять решение об оптимальной структуре поставок или производства. Поскольку в патронажной системе такого рода информация редка, возрастают иные издержки, известные экономистам как агентские. Любой агент так или иначе заинтересован в том, чтобы улучшить свое материальное положение за счет принципала (человека или организации, от имени которого или которой он предположительно действует). Когда недоступна надежная информация об относительных ценах, вышестоящие сталкиваются с тем, что им трудно контролировать утверждения нижестоящих о том, чтó возможно, или даже о том, чтó происходит. Когда информационные и агентские издержки высоки, решения об инвестициях принимаются под давлением совсем других стимулов, чем в режиме частной собственности, где (1) предприятия приобретают сырье на рынке в конкуренции с другими предприятиями и (2) неспособность предложить конкурентоспособный продукт по конкурентным ценам обычно оказывается роковой[26].
Эти различия являются главным источником экономических преимуществ системы частной собственности.
Конечно же, права собственности и патронажные отношения, как правило, сосуществуют. Даже в экономике с прочными правами собственности обычно есть ниши, в которых процветают патронажные и клиентские отношения, как, например, семейные корпорации (пока им удается держаться на плаву) и предприятия (частные или государственные), защищенные от конкуренции. И, в свою очередь, даже такие заповедники патронажных отношений, как тиранические режимы, признают притязания на ресурсы, если претендент обладает нужной политической властью или связями. Здесь политика правит собственностью. В условиях тирании, по словам Дэвида Ландеса, «опасно быть богатым, не имея власти»[27].
В‐третьих, необходимы свобода слова и печати, чтобы люди могли указывать на злоупотребления и упущения правительства и поднимать на борьбу с этим демократические силы.
В‐четвертых, необходимо энергичное гражданское общество. Поскольку никакая мыслимая структура государства не может сама обеспечивать законопослушность последнего, общество должно обладать некоторой способностью противодействовать властям. Для этого нужны организации, которые в состоянии что‐то реальное делать для людей (тем самым уменьшая поводы для вмешательства государства), в которых люди приучаются к самоуправлению, участию в конструктивных группах и к сплочению для отпора любым хищническим посягательствам государства.
В‐пятых, и это труднее всего сформулировать, необходим подходящий склад ума. Индивидуумы – не все конечно, но по крайней мере достаточное их число, чтобы задавать тон, – должны мыслить о себе как об ответственных гражданах, имеющих определенные права; быть реалистами, а не фаталистами или утопистами; быть смелыми и прямыми, но при этом способными к компромиссу; быть готовыми создавать группы, составляющие гражданское общество, и быть терпимыми к людям, разделяющим другие идеи и интересы. Помимо всего прочего, Столыпин надеялся укрепить подобный склад ума.
В пользу либеральной демократии существует много аргументов, но один стоит отметить особо. Люди наделены непреодолимой тягой одновременно к соперничеству и сотрудничеству, к скупости и щедрости. Им свойственна страсть к доминированию, к демонстрации превосходства, к знакам отличия и почестям, и к творчеству (или к репутации творческого человека). Для примирения всех этих внутренних противоречий либеральная демократия предоставляет лучшие возможности, чем любая другая система организации общества. Она отваживает людей от захвата чужого добра (как это принято у воинственных племен) и от манипулирования родственными или другими связями (как в патронажных культурах), направляя их усилия на производство благ и услуг, которые нравятся другим. Как сказал Сэмюэл Джонсон, «очень мало занятий столь же невинных, как добывание денег». Но этот афоризм верен, только когда собственность защищена и преобладает рынок. В обществе, где люди «добывают деньги» насилием или обхаживанием вышестоящих в пищевой цепочке элит, нет оснований полагать, что добывание денег – это занятие невинное или производительное.
25
См.: Sheila Fitzpatrick, Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 1930s (1999), 110, где она цитирует Надежду Мандельштам: Мандельштам Н. Воспоминания. 1970. С. 119–120. Фитцпатрик описывает патронажную систему в целом на с. 109–114. Стив Хедлунд (Stefan Hedlund, Russian Path Dependence [2005]) полагает, что патронажная система установилась в России не позднее середины XVII в. и в полной мере сохранилась по сей день. В главе 7, оценивая воздействие столыпинских реформ, я прихожу к такому же выводу.
26
См.: Mancur Olson, Power and Prosperity (2000). Особый случай представляют собой иерархические фирмы, действующие в конкурентной среде. Они менее подвержены крайним формам упадка в силу конкуренции на рынках капитала и на товарных рынках. Иерархические фирмы, обслуживающие клиентов хуже, чем малые предприятия, будут выдавлены из бизнеса, если только экономия на масштабах производства не позволит им компенсировать более высокие агентские издержки; если же руководство иерархической фирмы не сможет как следует контролировать отлынивающих от дела агентов, то фирма будет захвачена рейдерами, а руководители слетят со своих должностей.
27
David Landes, The Wealth and Poverty of Nations (1998), 398.