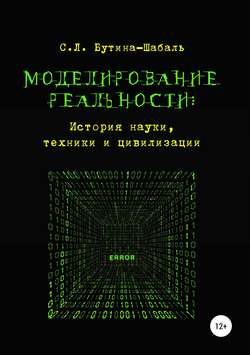Читать книгу Моделирование реальности: история науки, техники и цивилизации - Светлана Львовна Бутина-Шабаль - Страница 2
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Введение
Основные понятия и принципы изложения
ОглавлениеТеоретические открытия и технические изобретения происходят в широком социальном и научном контексте. Социальный контекст содержит общепринятые для исторического периода представления о вещах, событиях, процессах, закономерностях происходящего. Представления имеют образно-смысловую природу, преломляя в себе значения предметов для человеческой жизни. Эти образы1 соотносятся друг с другом и намечают обобщенный психический образ реальности – картину мира, которая позволяет интерпретировать частные жизненные ситуации в аспекте «что происходит?» и «как нужно действовать?».
Известно, что всякому организму для осуществления поведенческих реакций на внешние стимулы необходимо внутреннее воссоздание окружающей обстановки, что невозможно без модели стереотипных ситуаций, своего рода картины мира.
Такой обобщенный образ реальности присутствует на разных уровнях психической организации – на уровне бессознательных витальных инстинктов2 и на уровне сознания. На границе между инстинктом и сознанием картину мира формирует естественный язык – его врожденные фундаментальные грамматические концепции и логические структуры3, в соответствии с которыми выстраиваются конфигурации нейронных сетей4. Современные исследования в области искусственного интеллекта открыли то обстоятельство, что робот может функционировать только при наличии специально созданной для него картины мира.
Таким образом, культурно-историческая картина мира, сопрягающая социальный контекст, определяет горизонт деятельности сообщества. Со временем, благодаря техническим нововведениям, модернистским идеям и значимым историческим событиям, социальный контекст меняется, что с некоторым отставанием во времени находит выражение в культурно-исторической картине мира.
Меняющие социальный контекст научные открытия и технические изобретения непосредственно рождаются внутри научного контекста, охватывающего всё актуальное для исторического периода знание. Содержание науки составляется из разных направлений, разделов, областей и фиксируется на множестве специальных языков, которые не всегда переводятся один на другой, тем не менее оно имеет внутреннюю тенденцию к образованию целостной структуры, отражаемой в научной картине мира (НКМ).
НКМ, интегрируя актуальную информацию, выполняет ту же важнейшую функцию, что и любой обобщенный психический образ, который, будучи спроецирован на фрагмент реальности, позволяет понимать последний и реагировать на него. Такой образ подобен карте местности для автопилота, посредством которой автопилот ориентируется в пространстве и управляет движением самолета. В этом ключе НКМ организует исследовательскую деятельность ученых. Несмотря на свое закрепление во внешнем, объективированном знании, научная картина мира способна функционировать как латентный (скрытый) психический механизм: в момент интуитивного восприятия научных данных она может определять теоретические решения и практику исследования. Такие решения проявляются как интуитивный творческий акт: мгновенное озарение или «инсайт». То есть НКМ оказывается ресурсом научной эвристики – одним из важных элементов технологии научного открытия.
Термин «научная картина мира» ввел в обращение физик XIX века Генрих Герц. Содержанием термина Герц видел внутренний образ мира, где логические связи между понятиями и суждениями отображают реальные связи внешнего мира. Заметим, что такое представление о НКМ предполагает не столько заданное внешней средой ее познавательное отражение, сколько моделирование объекта познания. В фундаменте научной картины мира оказывается модель реальности, которая и преобразует поступающую извне информацию в форму научного знания. Жан Жудис, физик-теоретик CERN, поясняет: «В этом весь дух теоретической физики. Вы берете данные, которые в вашем распоряжении, а затем начинаете думать, подходят ли они под ваше представление о Вселенной». То есть для описания реальности посылаемые внешним миром информационные сигналы подлежат принципиальному отбору и переформатированию, в результате чего определенные из них могут игнорироваться или искажаться (механизмы обработки информации включают такие, как «настройка», «селективная невнимательность» и пр.). Поэтому наука не отражает реальность, как это может выглядеть на поверхности, а конструирует реальность как свой объект исследования («физические», «химические», «биологические» и пр. явления, которых нет в реальности).
В научной картине мира реальность моделируется как обобщенный и интуитивно понятный образ, демонстрирующий принципы устройства мироздания. Модель показывает ученому, что следует понимать в качестве реальности, какие закономерности составляют природу реальности и какие (в соответствии с этой природой реальности) возможны исследовательские задачи и способы их решения. Поскольку модель реальности детерминирует основные установки («настройки») познания, мы определяем ее как познавательную. Она задает интерпретацию процессов и явлений окружающей среды и служит каркасом для конструирования умозаключений.
В социальной истории реализуются разные познавательные модели. Но откуда они возникают и чем определяются? При ответе на этот вопрос следует исходить из представления о самой масштабной функции науки. Если познавательная модель изначально ориентирована на решения в сфере научного познания, то эти решения, в свою очередь, воплощаются в технических и технологических новшествах и выходят в практику человеческого сообщества, обеспечивая ее цивилизационное развитие. В конечном счете каждая познавательная модель отвечает потребностям исторического развития человеческого сообщества и детерминируется ведущей задачей актуальной практики (для краткости мы будем называть последнюю «задачей века»). Поэтому познавательная модель всегда содержит в себе сигналы, принятые из глубин социальной реальности, требующей своего развития.
Именно сильнейшая внутренняя связь науки с потребностями развития социальной практики, как бы они ни были разобщены на поверхности, может объяснить парадоксальную природу неклассических научных теорий, проявляющуюся, например, в непостижимости научных понятий. Известно, что актуальная наука генерирует сущности и конструкты, которые не соотносятся с наличными способами и инструментами понимания. (К примеру, один из создателей модели атома – Гейзенберг – утверждал, что атом не постижим человеческим разумом). Современные объяснительные теории вводят для оперирования такие понятия, содержание которых не прозрачно для разума (в физике элементарных частиц – «суперпозиция», «квантовая запутанность» и т.п.).
Прояснить этот парадокс помогает логический бихевиоризм5 , предлагающий анализировать ментальные понятия в терминах определенного вида поведения или в терминах предрасположенности действовать определенным образом. Тогда допустимо рассмотреть появление разумно непостижимых научных концептов не только через внутринаучные факторы и содержательные аспекты науки, но с точки зрения предрасположенности человека к развитию своей жизнедеятельности. Например, после Второй мировой войны при отсутствии завершенной и устойчивой научной теории элементарных частиц получили практическое применение эффекты квантовой механики: был совершен прорыв в ядерной энергетике, открыты полупроводники и лазеры. В настоящий момент без достаточной теоретической базы экспериментально воспроизводится эффект квантовой запутанности для телепортации элементарных частиц. Получается, что исследовательские программы обусловлены не столько логикой постановки и решения теоретических задач, сколько потребностью открытия новых возможностей для человеческой жизнедеятельности, которые реализует техническое творчество. Выстраивание науки в соответствии с авангардным техническим творчеством приводит к закреплению в объяснительных схемах таких теоретических конструктов, которые превосходят известные науке классические «данности», способные осознаваться со стороны своего содержания, но которые тем не менее доступны для продуктивного оперирования с ними. Очевидно, в основе науки заложен не абстрагированный разум, выразитель сверхчеловеческой Истины, а «жизненный порыв» (Г. Башляр), захватывающий ученых.
Таким образом, ученые ни в коей мере не замкнуты в белой башне абстрактного мышления, возвышающей их над повседневной жизнью. Напротив, они улавливают самые могучие подземные токи повседневности как векторы ее движения к состоянию все большей жизнеобеспеченности и комфорта. А стало быть, ученые никогда не могут только исследовать свой предмет, просто добывать, каталогизировать и уточнять научные факты, по большому счету, они устремлены на создание чего-то нового, небывалого. Поэтому именно научное проектирование задает направление науки. Известный исследователь науки Имре Лакатос утверждал: «Направление науки в первую очередь определяется творческим воображением людей, а не окружающим миром фактов». По сути, науку делает не скрупулезное изучение, но творческое воображение.
Направленная на ключевую задачу, поставленную социальной практикой, познавательная модель материализуется в технических изобретениях6 , которым соответствуют научные умозаключения о природе реальности. Поэтому эволюцию познавательных моделей легко проследить по историческому ряду изобретений, соответствующих материально-техническим укладам, начиная с конца XVII века до наших дней. Технику можно рассматривать не только как средство освоения и адаптации среды и развития цивилизации, но и образец научного моделирования реальности. А поскольку технические объекты, кристаллизующие изобретательскую мысль, требуют продолжения своего изобретения в настройке и понимающем обслуживании, техника становится средством информационной коммуникации. Через технику, имеющую массовое применение, познавательная модель выходит за рамки научной деятельности в социальную реальность, становится паттерном массового сознания и социального проектирования, оказывая влияние на ход и содержание свершающихся исторических событий.
История науки и техники самым органичным образом присутствует в социальной истории, отчего последнюю ошибочно сводить к истории политической. Логика социальной истории последних трех веков не определяется единственно комплексом политических факторов. Научные открытия и технические изобретения являются не просто метками на оси времени, но значимыми историческими событиями, которые генерируют новую социальную реальность, формируя массовое сознание, преобразуя мировое хозяйство и расклад политических сил, обеспечивающих проявление своей политической воли только путем присвоения научно-технического потенциала.
Поэтому историю цивилизации и историю науки и техники мы будем рассматривать как одну историю, структурируя ее посредством познавательных моделей. Проиллюстрировать наш подход поможет следующая аналогия: если в целях познания исследовать грибы, можно в качестве научных объектов изучать отдельные экземпляры грибов, а можно видеть системно и исследовать грибницу. Известно, что грибница ложного опенка в Северной Америке признается самым большим живым организмом на планете. Применительно к нашей теме, грибница – это познавательная модель эпохи, которая проявляется в социальной реальности как научные теории, технические изобретения, политические идеологемы, векторы исторических катаклизмов.
Начиная с XVII века, техника уже не представляет собой эффект внутренних преобразований производственного процесса, а создается в корреляции с научными открытиями. Смыкание науки и техники порождает глобальную установку культуры на гуманизацию, суть которой – познание-использование-преобразование природной реальности в интересах человека. Благодаря гуманизации природной среды, человеческая цивилизация переходит из разряда «поддерживающей» в разряд «активно действующей», то есть формируется как субъект в глобальном эволюционном процессе. В рамках научно-технического развития цивилизации познавательные модели получают универсальный смысл: они оказываются основой интерпретации и трансформации естественной и социальной реальности и, таким образом, превращаются в модели цивилизационного развития соответствующих исторических эпох.
Структурирование истории на основе познавательных моделей соответствует «длинным волнам Кондратьева», или циклам экономического развития, накладываясь на логику циклов: структурный кризис (когда истощаются возможности использования имеющихся технических средств) – освоение новых сфер знания – технологический переворот – новый характер производства – формирование новых социальных отношений и политического устройства – революции на международном рынке. Спецификация познавательных моделей координируется с общепринятой периодизацией социального развития: традиционное, индустриальное, постиндустриальное, информационное общество. В общем виде, по основанию познавательной модели, развитие научно-технической цивилизации подразделяется на следующие этапы:
механизм (XVII–XVIII вв.);
энергия (XIX – начало XX вв.);
программа (XX – начало XXI вв.).
1
В психологии в отношении осмысленного и целостного представления применяется термин «гештальт».
2
Новорожденные детеныши млекопитающих, еще ни разу не видевшие своего естественного врага, тем не менее, столкнувшись с ним, сразу начинают вести себя образом, свойственным взрослым особям.
3
В соответствии с теорией универсальной грамматики Ноама Хомского.
4
Согласно научным данным, в соответствии с концепцией теории нейродарвинизма (теории отбора групп нейронов) Джеральда Эдельмана, в мозгу младенца уже существует некий паттерн (образец) будущих нейронных связей, который соответствует предзаданной для восприятия системности мира и который в дальнейшем развивается под влиянием личного опыта.
5
Основные положения в работе Гилберта Райла «Понятие сознания» (The Concept of Mind, 1949).
6
Согласно Жильберу Симондону, технический объект представляет собой материальную кристаллизацию некоей операторной схемы и мысли, ставшей результатом разрешения определенной проблемы.