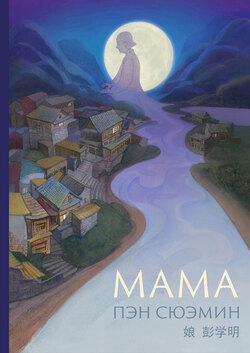Читать книгу Мама - Сюэмин Пэн - Страница 8
Глава 8
ОглавлениеДля отчима развод стал настоящим облегчением. Но для мамы он обернулся ещё большим унижением, ещё большим страданием. Когда отчим брал её из равнинной Чэтуку в эти высоченные горы, он думал, что судьба её будет стоять на недостижимой вершине и глядеть сверху на холмы, а до рая будет рукой подать. Никто не мог знать заранее, что он скрутит ей «козлом» руки и толкнёт её с самой высокой горы прямиком в самое тёмное ущелье. В глубине этой пучины были ядовитые плевки и колкие взгляды, бесконечные издевательства и нескончаемые оскорбления.
Весна на западе Хунани – и в городе, и в деревне – всегда была омыта водой. Всё было новым, светлым и ярким, отмытым от всякой скверны. Такими были горы, такими были реки, такими были деревья, земля и солнечный свет. Солнце легонько касалось губами глазури нежных, молодых побегов, и влажные просверки ложились на зелень, как дрожащие пятна. Они выплёскивались на неё изумрудными тенями и колючими шипами. Околдованные весной кукушки рассыпались на залитых весенним светом ветвях и самозабвенно куковали. Они возглашали весну, они подзывали людей, они подманивали первые весенние чувства.
К тем, кто трудится, и весна приходит раньше. А ранней весной работы никогда не бывает мало. Едва очнувшись на рассвете, взрослые обитатели Шанбучи будили всю деревню своей деловитой суетой. По дворам разносились звуки хлопающих дверей. Понукали скот. Призывные крики бригадира, разносившиеся с вышины, лишали деревню последних остатков покоя.
Бригадир всегда забирался на высокий склон и, приставив руки ко рту на манер рупора, орал: «НА – РА – БОТУ! НА – РА – БОТУ! НА – РА – БОТУ!»
На его шее вздувались, как толстые корни, синие жилы.
Мама всегда тихонько посмеивалась: «Гляди как надрывается, сейчас обосрётся с натуги».
Когда крики бригадира смолкали, из тумана выныривал сонный мужской или женский голос: «Что сегодня по плану?»
Бригадир отвечал: сажать рассаду, или там полоть сорняки, или молотить рис, или собирать тунговое масло.
Эти грубые звуки, сделав несколько кругов на деревней, опускались на землю, как благовестие Будды.
Я до сих пор до умопомрачения люблю эти звуки деревенского утра, что разрывают его тонкую дымку, пропитанную утренними росами.
Мама всегда была одной из самых первых. Но в тот день, когда сажали рассаду, она припозднилась. Сестрёнка болела, и мама сперва должна была сварить ей лекарство и приготовить кашу на завтрак. Когда мама быстрым шагом подошла к бригадному полю, начальник как раз раздавал наряды. Когда он выкрикивал чьё-нибудь имя, этот человек подходил к нему и брал у него наряд. Все, кто получил своё, могли отправляться на поле. Он выкрикивал всех по очереди и довольно скоро дошёл до конца, но мамино имя так и не прозвучало.
Мама спросила:
– А я?
Бригадир ответил:
– А ты нет.
– Это ещё почему?
– Опоздала.
– У меня дочка болеет. Всего-то капельку опоздала, только начали.
– А не хрен опаздывать.
– Впредь уж не опоздаю.
– Да что толку-то? Что мне твоё впредь.
– И что же мне делать?
– А что хочешь, то и делай. Мне-то что.
– Запрещаешь мне работать, а как мне жить, как мне есть-то?
– Как хочешь, так и ешь. Я тебе есть не запрещаю.
– Раз запрещаешь работать, считай, без куска меня оставляешь.
Тут хмуривший брови бригадир вдруг загудел низким басом:
– Сестрица! Стыд-то поимей! Говорю тебе по-нормальному, что бузишь без повода! Где я тебе что запрещаю? Что мне за дело до твоих аппетитов? Что ты на меня всех собак навешиваешь, а?
Мама отвечала:
– Я на тебя вину не валю. Я тебя просто прошу дать мне наряд. Если околею, то и бог с ним. А вот детей жалко.
Бригадир заорал:
– Что мне за чёртово дело до твоих детей! Ты погляди, уже все места на поле разобраны. А тебе места нет!
Мама ткнула пальцем в один уголок:
– Вон смотри, там ещё есть свободное место!
– Там не сажаем.
– Пусто-пустёхонько, чего не сажаем-то?
– Я сказал не сажаем, значит, не сажаем! Кто здесь бригадир: ты или я? А то ступай, сама паши, сама сажай!
Мама знала, что бригадир просто хочет над ней поиздеваться, посмеяться над её горем. Сдерживая гнев и слёзы, она сказала:
– И буду.
Бригадир увидел, что ему не одолеть мамы, и, холодно усмехнувшись, ответил:
– Да ради бога, только скотину нашу не трогай!
Мама сказала:
– Как я одна пахать без скотины буду?
– Как хочешь. Тебе-то что, ты у нас вон какая, – сказал бригадир.
Мама аж затряслась от гнева. Вцепившись ногтями в бока, она заорала:
– Тянь Фанкуай! Какая я «такая»? Сам ты «такой», скотина! Хочешь меня с детьми уморить, да? Хочешь – давай, помру, чтоб тебе неповадно было!
Потом она набросилась на Тяня, пытаясь разодрать ему лицо.
Тянь ловко уклонился, а мама отлетела назад и упала на землю. Во все стороны брызнул издевательский хохот.
Мама поднялась с земли, вся пропитанная грязью. Когда она попыталась снова накинуться на Тянь Фанкуая, её удержала старая Хуан, из бывших. Она зашептала:
– Бедная ты девочка, смирись уже. Ступай домой, отдохни денёк, всё равно дочка болеет. Ступай полечи её как следует.
Мама сплюнула грязью и заскрежетала зубами:
– Хочет, чтоб я подохла, да хрен! Не даёт мне сажать, а я буду! Старуха Хуан спросила:
– Как?
Мама ответила:
– Пусть поглядит, полюбуется. Как он сказал, так и сделаю – сама распашу, сама и посажу!
Тянь Фанкуай холодно усмехнулся:
– Так иди! Чего сюда припёрлась?
Мама пошла прочь, выкрикивая оскорбления:
– Ты, Тянь, тот ещё хрен с горы! Но на небе всё видят, отольются тебе мои слёзки! Добром не кончишь! Помрёшь так, что никто про тебя слова доброго не скажет!
Тянь орал в ответ:
– Боюсь, кто вперёд меня помрёт!
– Будь покоен, бог своих не забидит. Всем воздаст по заслугам, всех бесстыжих поразит, – сказала она на прощание.
Когда мама ушла, бригадир, задыхаясь от злости, принялся за рассаду.
На западе Хунани был такой обычай.
Каждый год в первый день, когда начинали сажать рассаду, «открывали ворота». Бригадир выводил за собой в поля всю деревню, народ бил в гонги и барабаны и длинной цепочкой тянулся на поле, чтобы провести там церемонию. Шли на самый большой кусок ровной земли. Мама разругалась с бригадиром как раз возле того места. В Шанбучи, растянутой по горам, трудно было найти другое такое большое и ровное поле. Оно было почти совсем квадратным, залитым мелкой прозрачной водой, и выглядело как зеркало. Как кусок шёлка, расстеленный на земле. На поле спереди было воткнуто алое знамя. У края поля стоял глиняный кувшин, полный рисовой водки. На меже высились вязанки рассады.
Бригадир подошёл к рассаде, взял одну туго стянутую вязанку и нараспев стал читать слова моления об обильном урожае.
Его губы, которыми он только что поносил маму, призывно двигались вверх и вниз, уверенно произнося заветные слова: раскройтесь, ворота! раскройтесь, ворота! большие и малые – на большой прибыток да на малый прибыток, слева прибыток и справа прибыток, сверху прибыток и снизу прибыток, в каждой щёлке, в каждой лазейке.
Сказав это, он бросил вязанку на середину поля. Это называлось «прищипкой». «Щипали», чтоб отметить границы поля. Двое «тянувших канат» становились по обе его стороны и отмечали собой нужное расстояние. Всё поле делили на много аккуратных клеток, и народ рассыпался по полю, ожидая, когда начнут раздавать рассаду. Пока «тянувшие канат» размечали клетки, бригадир кидал по вязанке на каждый угол поля. Это называлось «раскрывать фланги». Так раскрывали ворота урожаю и прочим успехам, которые должны были хлынуть со всех сторон сплошным протоком.
В то время часто устраивали соцсоревнование – бригадир давал команду, и все бросались втыкать саженцы, стремясь вырваться вперёд, посадить быстрее и аккуратнее прочих. Перед каждым стояла деревянная или керамическая плошка, полная смеси золы и химических удобрений. Перед тем как воткнуть саженец в землю, нужно было успеть обмакнуть его в удобрения. Все работали как автоматы, с сумасшедшей скоростью нагибаясь и выпрямляясь в своём летящем ритме. Пальцы бешено хватали и втыкали рассаду. Большой и указательный работали слаженно, как клювик курицы, склёвывавшей с земли рисовые зёрна.
Вся сельская работа делалась лицом вперёд, и только при посадке рассады двигались наоборот – шаг за шагом отступая назад. Деревенские пели:
Пара свой день начинает с работ:
Тени ложатся по зеркальцу вод,
Ряд за рядком отступая назад,
Кажется вспять – а на деле вперёд.
Когда рассада была высажена, какая-нибудь из женщин вдруг хватала пригоршню жидкой грязи и припечатывала её в лицо какому-нибудь симпатичному парню. Парень, ничуть не тушуясь, тоже хватал пригоршню грязи и отправлял её в лицо обидчице. Один мазал другого, а третий, глядя на них, тоже пускался в разные проказы. Все – мужчины и женщины, молодые и старые – разукрашивались, как актёры или глиняные статуэтки. Все носились друг за другом по полю в волнах поднимавшегося и смолкавшего смеха, и от этого тяжкий труд становился весёлым и радостным. Это называлось «мазать амбарные ворота». Поле тогда было вовсе не поле, а житница, грязь – не грязь, а зерно. К концу весны ветер непременно должен был сделаться мягок и дожди обильны, а зерно – потечь, наполняя все закрома и амбары.
Пока деревенские были захвачены радостью труда, мама мучилась своей тягостной выключенностью из общего счастья.
Когда бригадир отобрал у неё право на труд, он тем самым лишил её отметки о трудоднях. А значит – лишил дневного пайка. Ради детей и ради самоуважения мама не собиралась мириться со своей участью. Она намеревалась сама взяться за пахоту.
Но бригадир не велел ей брать общих бригадных волов. Маме оставалось только одолжить скотину в Сябучи. Хотя Шанбучи и Сябучи входили в одну большую производственную бригаду, относились к маме в двух деревнях совершенно по-разному. В Шанбучи её ненавидели родовой, неизбывной ненавистью, а в Сябучи встречали глубочайшим сочувствием. Этих волов из Сябучи мама поминала всю жизнь. Она говорила, что и в будущем перерождении, даже уродившись скотиной, ей не расплатиться с Сябучи.
Долина у подножия гор была очень длинной, она вилась почти несколько десятков километров, пока не приводила наконец к зданию волостного правительства. За подгорьем тянулись, поднимаясь и опускаясь, высокие горы, собранные в складки маленькой ладошкой времени. Ущелье перетекало в ущелье, а горы ползли, все увитые пышными бамбуковыми зарослями и деревьями. Они были похожи на ожившую картину. С другой стороны горы обрывались неколебимыми уступами, вытесанными гигантским топором времени. Они были похожи на ровные каменные стены. Следы топора густо усеивали всю их поверхность. В глубоком ущелье таились террасы полей.
Мама пахала в этом ущелье, под сенью гор, устремлённых в облака. Она была похожа на муравьишку, который решил свить себе одинокое гнёздышко, лишённый всякой поддержки. Солнце уже во всём блеске билось об отвесные утёсы, но его свет падал только до середины склона. Вся нижняя половина гор покоилась в тени. Горы словно нацепили ярко-жёлтую майку, из-под которой торчали наружу линялые до серого цвета старые трусы. На колоссальных каменных уступах виднелись шрамы, оставленные за миллиарды лет дождём и ветром, как дорожки слёз, молчаливо, с сочувствием наблюдавшие за маминой работой. Над её головой неотвязно кружился ястреб. Он делал круг за кругом и возвращался снова, не зная усталости. Птица будто хотела разделить с мамой всю её тоску и тяжкий труд, будто боялась, что она может упасть под лемех от усталости.
Мама пахала, увязая ногами в грязи. Вол тащился спереди, мама волоклась сзади, неповоротливый лемех и отвал были послушны её рукам. Они ворочали пласты жирной земли, и от их движения во все стороны разбегались волны и разлетались, как искры, капли грязной воды. Вол глубоко закусывал удила, плуг глубоко уходил под воду, мама глубоко проталкивала в глотку слёзы. Закончив пахать, она начала боронить, потом сажать. К тому моменту, как мама высадила рассаду, на небе уже показалась луна и первые звёзды.
Тут она вспомнила, что у больной дочки не было во рту ни маковой росинки. Мама быстро вымыла руки, выбралась на сухое место и погнала скотину домой, волоча за собой плуг. Не успела она сделать и нескольких шагов, как ноги у неё подкосились. Мама упала на острый лемех, который бесшумно и глубоко прорезал ей икру. Кровь зазмеилась из-под штанины, как дождевой червяк.
Мама бессильно ухнула вниз, от боли она долго не могла перевести дыхание. Поднялась и снова упала. Опять поднялась и опять упала. Измотанная до предела, с разодранной икрой, она никак не могла уверенно встать на ноги и отправиться быстрым шагом обратно. Мама сорвала немного полевой травы, размяла её руками и наложила на рану, чтобы унять кровь.
Она боялась, что вол убежит, и привязала его к дереву, а сама упала тут же, под деревом, тяжело дыша.
Глядя на мирно пасущуюся скотину, на угольно-чёрное небо, она думала о дочери. Печаль нахлынула внезапно и горьким криком вырвалась наружу.
Небо было чёрным, но в этот миг словно стало ещё чернее.
Звёзды от нахлынувших слёз превратились в метеоры и покатились с неба сверкающими горестными точками.
А дома сестрёнка, не дождавшись маму, обливаясь слезами, отправилась к тётушке Шан Ханьин. Шан велела домашним накормить её, а сама, сгорая от тревоги, побежала в долину.
Когда Шан вернулась домой с собрания в коммуне, она уже знала, что произошло на поле днём. Она страшно испугалась, что мама решила свести счёты с жизнью, и, прихватив фонарь, побежала как бешеная.
Когда тётушка Шан появилась на горизонте, мама почувствовала себя ещё более сиротливой и неловкой. Она ревела:
– Шааан, то там кто помрёт, то здесь кто помрёт, что же этот козёл, за которого я вышла замуж, так и не помер?
Тётушка Шан убеждала её:
– Не помер и не надо ему помирать, ты и так живёшь себе одна распрекрасно.
Мама ревела ещё сильнее:
– Ох, Шааан, Шааан, отчего люди на горы обопрутся – и горы у них не падают, на реки понадеются – и реки у них текут, на мужчину положиться могут, а у меня всё наоборот – и мужчина- то оказался дрянь дрянью?!
Шан отвечала:
– Да и бог с ним, на себя одну надейся – тебе же лучше будет.
– Ну Шааан, все говорят: у всякого греха есть греховодник, у всякого долга есть свой должник. Почему у меня не так, а? Все нами помыкают, как хотят. Гадят нам на голову, а?
– Да кто б посмел тебя обойти! Мы за тебя все горой – и того довольно.
– Когда ж эта жизнь говянная закончится? Когда же наконец я своих в люди-то вытащу?
– Года два ещё потерпи. Ты на детей погляди – всё у них лучше прочих! И сами молодцы, и в учёбе первые, никого в деревне лучше них нет! Закуси губу, стисни зубы, помаленьку и вытянешь. А если одна не справишься, так я тебе подсоблю.
– Ох, Шан, я-то знаю, что ждут они забавы, ждут не дождутся, когда я помру. А я им не дам повеселиться, назло им помирать не стану.
– Нельзя тебе помирать. Если помрёшь, они только обрадуются, а у детей твоих никого не останется. Живи себе. Ещё поглядим, кто раньше помрёт.
Мама и тётушка Шан перекликались в ночной тишине, как плачущие соловьи. Каждый всхлип был горестнее другого. Звёзды скатывались на землю от их плача, как капли росы, а роса распускалась сияющими звёздами.
Когда тётушка притащила маму домой, ночь уже сменилась рассветом.