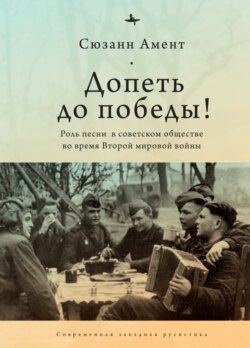Читать книгу Допеть до победы! Роль песни в советском обществе во время Второй мировой войны - Сюзанн Амент - Страница 4
Часть первая
Песни и их создатели
Глава 1
Песни военных лет: темы, мелодии, тенденции
Предвоенные песни и их роль
ОглавлениеК тому моменту, когда 22 июня 1941 года Вторая мировая война перекинулась на восток, Советский Союз уже обладал большим музыкальным достоянием. К популярным жанрам относились романсы в традиции XIX века, народные песни всех регионов Советского Союза, городской «жестокий романс» начала двадцатого века, песни Гражданской войны, военные песни, песни, рожденные развивающейся в 1930-е годы киноиндустрией. С появлением звукового кино впервые музыкантов стали привлекать к работе над фильмом. Джаз, не слишком одобряемый властью, в этот период получил относительную свободу, и выступления джаз-оркестров запечатлевались на кинопленке. Песни из фильмов обретали популярность не только благодаря кинопрокату, но и благодаря звукозаписи, для прослушивания пластинок использовался граммофон – заводной проигрыватель. По радио, вошедшему в советский быт в 1920-е годы, часто передавали джаз и другую музыку для слушателей, желавших развлечься. Задолго до того, как страна вступила в войну, в ответ на милитаризацию Германии и агрессивную политику Японии песни стали готовить население к неизбежному военному конфликту. Эта тенденция была прервана на государственном уровне после подписания в 1939 году договора между СССР и нацистской Германией. Вплоть до начала военных действий песни и фильмы, посвященные борьбе с фашизмом или подготовке к войне, исчезли из обихода.
После того как война началась, по-прежнему звучали многие популярные песни довоенного времени. Одни никогда не забывались, другие были запущены повторно, а у некоторых обновили текст с учетом военной ситуации. И народная песенная традиция, и стилистика массовой популярной песни были востребованы, так как обладали определенным символическим значением. С 1930-х годов киноиндустрия в Советском Союзе представляла механизм дистрибуции с широчайшим диапазоном охвата, что позволяло эффективно доносить одобренные свыше песни до народных масс. Эти песни создавались для киномюзиклов, таких как «Веселые ребята» (1934), «Цирк», «Дети капитана Гранта» (оба 1936), «Волга-Волга» (1938), а затем получали самостоятельную жизнь. В драматических фильмах также часто звучали песни. Дополнением к кинопрокату выступали такие средства дистрибуции, как радио и грамзапись. На 1930-е годы пришелся расцвет творчества многих композиторов, а некоторые, например И. О. Дунаевский, М. И. Блантер, Н. В. Богословский, А. Г. Новиков, продолжали играть важную роль и в военное время. Некоторые мелодии 1930-х годов, завоевавшие всеобщую любовь, стали ошибочно считаться «народными песнями» [Шехонина 1964:104,124; Долматовский 1973:158,173–174; Stites 1992: 74–93] и сохраняли популярность во время войны в изначальном или переделанном виде.
Пожалуй, самый яркий пример такого рода – песня «Катюша» (музыка Блантера, слова М. В. Исаковского). Текст, состоявший из восьми строк, был написан в 1938 году в связи с советскими военными действиями на Дальнем Востоке, позже был положен на музыку и дополнен. Премьера «Катюши» состоялась в феврале 1939 года в исполнении Государственного джаз-оркестра Советского ССР [Бирюков 1988: 107–109]. «Катюшу» часто считают народной песней неизвестного происхождения, а не плодом творчества двух знаменитых авторов – композитора Матвея Блантера и поэта Михаила Исаковского. Девушка, ласково именуемая Катюшей, стоит на берегу реки, она хочет передать привет возлюбленному, который служит на дальних рубежах. «Пусть он слышит девушку простую, пусть он слышит, как она поет, – звучит в финале песни. – Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет». Написанная в темпе марша, песня заряжает бодростью и поднимает настроение. Во время войны песня породила огромный поток переделок – появились сотни вариантов «Катюши». В некоторых переложениях сохранялась тема двух влюбленных. Один из вариантов, например, представляет ответ пограничника девушке: он обещает хранить верность ей и родине. Во многих переложениях и продолжениях песни Катюша решает принять активное участие в защите родины: она покидает берег реки, записывается в санитарки, отправляется на фронт или поступает в партизанский отряд. Существовали варианты, в которых подчеркивалось значение песни Катюши: где бы ни пела девушка – сидя ли у партизанского костра, врачуя ли раненых, дожидаясь ли любимого на берегу реки, – ее пение исцеляет, становится символом любви, верности и даже победы. Известны печальные варианты песни, когда боец погибает и просит сокола лететь к Катюше – передать ей известие о его смерти и признание в любви. В оптимистических вариантах боец возвращается с победой и на берегу реки встречается с Катюшей, которая дождалась его.
Песня про Катюшу приобрела новый смысл после того, как на вооружение была поставлена установка реактивной артиллерии, получившая прозвище «катюша». Возникла серия стихотворных вариантов песни о том, как мощная «катюша» сражается против немцев и как солдаты любят ее. Остается не вполне ясным, обязана ли реактивная установка своим прозвищем песне или нет. Тем не менее во время войны бытовали десятки вариантов песни, в которых «катюшей» именовалась именно ракетная установка. Признаки антропоморфизации усматриваются в таких строчках, как: «Дрожь колотит немца за рекой. / Это наша русская “катюша” / немчуре поет за упокой». В некоторых версиях обыгрывается тема советского гостеприимства: «Ох ты, Катя, Катенька-подружка, / угости непрошеных гостей. / Дай им украинскую галушку, / супчику налей погорячей». Иногда подчеркивается связь между военными победами и мощным оружием [Гусев 1964: 310–325].
После окончания боевых действий вернулся первоначальный текст песни, а переделки стали звучать крайне редко, сохранившись только в сборниках фронтового фольклора. «Катюша» представляет яркий пример довоенной популярной песни с простой, запоминающейся мелодией, которая легко допускает адаптацию текста к ситуации. Благодаря такой гибкости и адаптируемости «Катюша» стала одной из самых известных песен как во время войны, так и после. Кроме того, во время войны она распространилась на Западе, где стала восприниматься как символ советской военной силы в совместной борьбе с фашизмом. Известность этой песни на Западе – благодаря пластинке, записанной Краснознаменным ансамблем Красной Армии, и исполнениям западных певцов, звучавшим в концертах и фильмах, – свидетельствует, что у этой песни есть история бытования за пределами Советского Союза (тема советской песни на Западе рассматривается в главе 3).
Еще один случай обретения песней второго дыхания во время войны – «Чайка». Лиричная мелодия написана композитором Ю. С. Милютиным в темпе вальса, автор текста – В. И. Лебедев-Кумач. Эта песня прозвучала в фильме «Моряки». В ней говорится о девушке, которая вспоминает друга-моряка, который воюет с врагами на море. Фильм вышел на экраны в 1937 или 1938 году и представлял едва завуалированный призыв готовиться к неизбежной грядущей войне. После того как война действительно началась, поэт изменил текст и песня получила широкое распространение. Хотя в ней говорится конкретно о моряках и море, пилоты Военно-воздушных сил присвоили песню себе. Если артиллеристы называли ракетную установку «катюшей», то пилоты именовали бомбардировщик «чайкой» и добавили в песню куплет. Для примера приведем версию Александра Тарбеева: «“Чайка” смело пролетела / в дымке голубой, / отбомбилась – возвратилась, / вьется надо мной. / Ну-ка, “Чайка”, отвечай-ка, / как летала ты, / сколько фрицев-“сверхарийцев” / полегло в кусты. / Ну-ка, “Чайка”, приземляйся, / новый груз набрать. / Заправляйся и взвивайся / в небеса опять!» [Лебедев 1975: 227].
Эта версия была опубликована в 1942 году под заголовком «Песня летчиков-штурмовиков». Другой вариант развития той же темы предложил в «Песне о чайке» гвардеец Николай Тумановский: «“Чайка”» смело загудела / из-за облаков. Попрощавшись, улетела / крепко бить врагов. / Эй ты, “Чайка”, примечай-ка, / где враги идут. / Если ты их настигаешь, / значит им капут. / Немцев, “Чайка”, награждай-ка / ливнями свинца. / Бей их крепко, бей их метко, / бей их до конца» [Лебедев 1975: 228].
Еще одной песней, написанной в конце 1930-х годов, но очень популярной во время Великой Отечественной войны, была «Комсомольская прощальная» (музыка Д. Я. Покрасса, слова Исаковского). Песня, написанная для фильма «Подруги», повествует о девушках, которые прощаются с юношами, потому что те уходят на войну. Изначально песня относилась к событиям Гражданской войны, но, по воспоминаниям поэта Исаковского, наполнилась новым смыслом во время Второй мировой войны и воспринималась как клятва, обещание встречи после войны – именно такие слова были нужны в то трудное время [Бирюков 1988: 81–83]. В песне «Любимый город» (музыка Богословского, слова Е. А. Долматовского) также звучит тема защиты любимой родины, но акцент переносится с чувства двух любящих людей на чувство к любимому городу. Написанная для фильма «Истребители», песня повествует о летчике, который вынужден улететь далеко от родного дома, но его храбрость и отвага позволяют любимому городу спать спокойно. Пожалуй, это наиболее лирическая из песен первого военного периода.
Другие песни, включая «Махорочку» (музыка К. Я. Листова, слова М. И. Рудермана) и «Три танкиста» (музыка братьев Дм. Я. и Д. Я. Покрассов, слова Б. С. Ласкина), посвящены темам фронтового братства, отношению бойцов к своему оружию и к военной жизни в целом. Они были созданы перед Второй мировой войной и отражают более ранние события: Гражданскую войну в России или военные столкновения 1930-х годов – гражданскую войну в Испании, конфликт на Дальнем Востоке. Эти темы повторяются и в песнях, написанных во время Отечественной войны, а некоторые довоенные песни продолжают звучать в своем исходном варианте. Песня же «Кавалерийская» (музыка братьев Покрасс, слова А. А. Суркова) приобретает во время войны новое значение. Изначально в ней речь шла о походе знаменитой Первой Конной армии в период Гражданской войны. Однако во время Второй мировой войны во многих боевых подразделениях на эту мелодию создавались новые тексты, в которых говорилось о собственном боевом пути. В очередной раз мы сталкиваемся с тенденцией изменять, дополнять или даже полностью переписывать текст, чтобы привести его в соответствие с актуальным военным опытом.
Существует предвоенная песня, которая особенно точно передает дух эпохи и отражает усилия подготовить страну к войне, предпринимавшиеся советской пропагандой в 1930-е годы после прихода к власти фашистов и приостановленные после подписания советско-германского пакта в 1939 году. В 1937 году К. Е. Ворошилов, народный комиссар обороны, заказал братьям Покрасс и Лебедеву-Кумачу песню «Если завтра война». Песня была написана в срок и должна была прозвучать в фильме с тем же названием, который был снят к отмечавшемуся в феврале 1938 года двадцатилетию Красной армии и восхвалял военную мощь Советского Союза. Были напечатаны и распространены миллионы листовок с нотами и текстом песни, а Краснознаменный ансамбль песни и пляски Красной Армии записал ее на пластинку. Смысл песни очевиден: «Если завтра война, если враг нападет, / если темная сила нагрянет, / как один человек, / весь советский народ / за свободную Родину встанет. / Если завтра война, / если завтра в поход, / будь сегодня к походу готов!»
Песня содержит призыв не только к вооруженным силам, но и ко всем людям без исключения: «Будь сегодня к походу готов!». Последний куплет гласит: «Мы войны не хотим, но себя защитим, / оборону крепим мы недаром, / и на вражьей земле мы врага разгромим / малой кровью, могучим ударом!» [Бирюков 1988: 133–135]. После того как война началась, название песни, естественно, оказалось устаревшим. Более того, чудовищные потери, которые понесла Советская армия на первом этапе войны, противоречили стихотворной браваде. Лебедев-Кумач, не желая сдаваться, снабдил знакомую всем маршевую мелодию новым текстом – «Поднимайся, народ», – который призывал к массовой мобилизации в первые дни войны.
Некоторые предвоенные песни, адаптированные к военному времени, фокусировались скорее на человеческих взаимоотношениях, чем на боевой тематике. Одни песни носили лирический или романтический характер, другие – юмористический. Пожалуй, одна из самых известных песен этого рода – «Синий платочек». Польский джаз-оркестр «Голубой джаз», выбравшись из зоны боевых действий в 1939 году, исполнял эту мелодию перед советскими слушателями, но неизвестно, сопровождалась ли она каким-либо текстом. Услышав ее, драматург и поэт Я. М. Галицкий написал стихи. Песня стала хитом, ее включили в свой репертуар многие советские певцы, в том числе Вадим Козин, Лидия Русланова, Клавдия Шульженко. Накануне войны песня была записана на пластинку в исполнении Екатерины Юровской [Бирюков 1984:213–214; Бирюков 1988:237–240; Луковников 1975: 61–63]. В апреле 1942 года военный корреспондент лейтенант М. А. Максимов на Волховском фронте изменил по просьбе Шульженко текст, опубликованный в газете. После войны исходный текст и текст Максимова соединились, образовав ныне известную версию песни. Если в первоначальном варианте лирический герой предается воспоминаниям о встрече с девушкой в синем платочке, то Максимов в своей трактовке помещает это воспоминание в военный контекст: «И часто в бой / провожает меня облик твой, / чувствую рядом, с любящим взглядом / ты постоянно со мной. / Сколько заветных платочков / носим в шинелях с собой! / Нежные речи, девичьи плечи / помним в страде боевой. / За них, родных, / желанных, любимых таких, / строчит пулеметчик за синий платочек, / что был на плечах дорогих».
Песня заканчивается клятвой бойца, что они с девушкой непременно встретятся, когда наступит мир.
До наших дней дошли еще два военных варианта «Синего платочка». В одном говорится о первом дне войны, о бомбежке Киева и о прощании юноши с девушкой на вокзале перед отходом поезда. Еще один вариант был напечатан на упаковках с сухим пайком [Бирюков 1988: 237–240]. История этой песни рассматривается также в [Луковников 1975:61–63; Бирюков 1984:213–214].
В песне «Морячка», написанной также до войны, рассказывается история девушки, которой моряк хочет подарить свое сердце. Она шутливо отвечает ему, что не знает, где хранить такой подарок: «Он обиделся, наверно, / попрощался кое-как: / шутки девичьей не понял / недогадливый моряк. / И напрасно почтальона / я встречаю у ворот: / ничего моряк не пишет, / даже адреса не шлет. / Мне и горько, и досадно, / и тоска меня взяла, / что не так ему сказала, / что неласкова была. / А еще того досадней, / что на людях и в дому / все зовут меня морячкой, / неизвестно почему».
Стихи, написанные поэтом Исаковским по просьбе композитора и дирижера В. Г. Захарова, использовались и другими композиторами, в том числе В. П. Соловьевым-Седым и А. Я. Лепиным. Наибольшую известность получила мелодия, написанная Л. О. Бакаловым по просьбе певицы Ирмы Яунзем, которая прочла стихи Исаковского в газете во время гастролей на севере. Бакалов написал мелодию и передал ее военному ансамблю, но вскоре началась война, и он забыл об этом. В 1942 году композитор с удивлением услышал свою песню [Бирюков 1984: 217–218; Луковников 1975: 57–58]. Хотя песня, несомненно, написана в шутливом тоне, ее огромная популярность на фронте объясняется сюжетом. Бойцам она служила напоминанием о том, что дома о них думают, а девушкам – советом, что с любимыми нужно прощаться ласково.
Знакомство с предвоенными песнями неизбежно приводит к выводу о том, что представленная в них картина вступала в резкое противоречие с реальностью начала войны. Советские вооруженные силы продемонстрировали неподготовленность к войне. Стремительный разгром врага оказался невозможен. Кадровые чистки среди высшего и среднего командного состава Красной армии привели к дезорганизации в Министерстве обороны, замедлилось, если не вовсе застопорилось развитие новых военных технологий. С другой стороны, в песнях говорилось о человеческих чувствах и отношениях, и в этой части они, пожалуй, отражали реальность гораздо точнее. В конце концов, на фронте и вправду существовала солдатская дружба, а мужчины и женщины действительно тосковали друг по другу, даже если не выдерживали стандартов безупречной верности, воспеваемой в песнях.
Довольно сложно ответить на вопрос, в какой степени слушатели осознавали разрыв между искусством и жизнью. Есть свидетельства, которые доказывают, что в определенных кругах люди отдавали себе отчет в пропагандистском характере этих произведений. Музыковеды и фольклористы окрестили многие песни 1930-х годов как «поденщину», «псевдофольклор» и попросту откровенную пропаганду. Большинство песен 1930-х годов относится к категории «социалистический реализм» – так назывался стиль официального советского искусства, принятый в литературе, музыке и живописи и основанный на приоритете общественного над личным, патриотическом национализме, оптимистической оценке настоящего и будущего Страны Советов. Песни также восхваляли героев революции, Гражданской войны и пролетарского труда и были рассчитаны на легкость восприятия широкими массами благодаря простой мелодии, понятному тексту и бодрой интонации.
Многие из этих песен не выдержали испытания военным временем. Возможно, веселость и оптимизм казались неоправданными в суровых военных условиях. Возможно, песни, посвященные героям Гражданской войны, казались устаревшими. А возможно и то, что, получив некоторую свободу выбора, слушатели сделали его в пользу лучших песен.
Помимо рассмотренных выше жанров, были широко распространены и другие разновидности песен, прежде всего народные песни – как подлинные, так и специально созданные по их образцу в советское время, – а также патриотические песни о партии и ее лидерах. Официальная идеология в значительной степени эксплуатировала символический подтекст народных песен. Кроме того, после войны фольклористы в результате полевых исследований обнаружили, что многие стихийно возникшие песни выросли на почве народных песен различных эпох. Многочисленные примеры использования и адаптации народных песен во время войны приводятся в [Свитова 1985]. Романсы, которые обычно создавались и исполнялись в цыганском стиле, не одобрялись официальными инстанциями во время войны. Их интимный характер, акцент на несчастной любви, кабацкий антураж не могли рассчитывать на поддержку партии и правительства. И все же такие песни были, без сомнения, любимы многими, о чем свидетельствует огромная популярность певца Вадима Козина, наиболее яркого представителя этого стиля в конце 1930-х годов. Независимо от официальной линии, романсы пользовались спросом и звучали и на фронте, и в тылу.
Расцвет патриотических песен пришелся на предвоенное и военное время, их повсеместно исполняли и профессиональные, и самодеятельные певцы, хотя и не всегда с энтузиазмом. Среди патриотических песен главное место занимали оды в честь Коммунистической партии и ее вождей, а также песни, восхвалявшие Отчизну и государство. Популярность отдельных песен этого жанра трудно оценить, поскольку они создавались на заказ, а не стихийно. Эти песни сохранились в песенниках того времени, их предписывалось исполнять в концертах. Например, Вадим Козин включил в свой репертуар песню про день рождения В. И. Ленина, но, несмотря на это, был подвергнут критике на высочайшем уровне за то, что мало исполняет на своих концертах «патриотических песен» [Савченко 1993: 84]. Во время войны некоторые песни о героях прошлого, вызывавших всеобщее восхищение в 1930-е годы, оставались частью популярной культуры. Но, как говорилось выше, новые темы, возникшие в патриотических песнях времен Отечественной войны, заслонили более ранние.
Песни 1930-х годов значительно варьировались по жанру и стилю, были известны самой широкой аудитории и сохранили популярность во время войны, а иногда и после. В военное время авторы заимствовали известные мелодии и адаптировали тексты, чтобы отразить новые темы или развить идеи, заложенные в оригинале. Очевидно, что эти песни глубоко укоренились в сознании. Самые разные люди того поколения – поэты или военные – искренно любили их и потому пели, переделывали и хотели слышать во время войны.