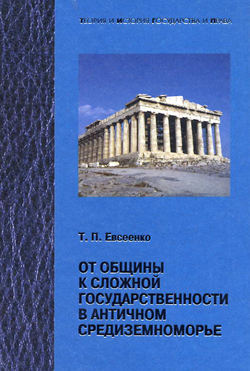Читать книгу От общины к сложной государственности в античном Средниземноморье - Т. П. Евсеенко - Страница 4
Глава 1. Проблемы сложного государства в современной науке
§ 2. Сложное государство и его разновидности
ОглавлениеКак уже упоминалось, термин «сложное государство» может быть отнесен к государствам с совершенно различными формами государственного устройства. Чаще всего современные государствоведы относят к этой категории либо унитарные государства, включающие в себя автономные образования, либо союзные государства – федерации.
Прежде всего, следует выяснить особенности унитарной государственности, допускающей существование автономных образований. На рубеже XIX–XX столетий Г. Еллинек так оценивал наличие в унитарном государстве областной автономии: «Политически область означает, по общему правилу, элемент несовершенной организации или дезорганизации государства. Присоединенные земли могут быть отделены от государства без какого бы то ни было нарушения его внутренней жизни. Но и государство, в котором области являются интегральными составными частями, лишено необходимого политического единства. Нередко в этих членах государства проявляются центробежные тенденции к большей самостоятельности, делающие эту форму государства столь же неустойчивой, как и большинство федераций государств. Существование областей по общему правилу обусловливается теми же причинами, как и многих других соединенных государств: невозможностью слить в одно нераздельное единство народные массы, разобщенные национальными, историческими, социальными различиями. Этой центробежной тенденции нередко соответствуют тенденции государства к централизации, чем обычно вызывается упорная внутренняя борьба»[35].
Классическое государствоведение, таким образом, рассматривало областную автономию как некое зло, которое государства в неблагоприятных обстоятельствах вынуждены терпеть, но которое, в конечном счете, желательно ликвидировать. Как немецкие, так и многие русские либеральные государствоведы, делая односторонние выводы из исторического опыта своих стран, опасались всяких проявлений политической раздробленности и местного сепаратизма. Воспоминания о негативных, а порой и просто трагических последствиях раздробленности для судеб своих народов вынуждали их воспринимать любую политическую централизацию как заведомое благо. А областному и особенно национальному сепаратизму они всячески пытались противопоставить идею местного самоуправления, которое единственное, по их мнению, могло примирить централистские бюрократические режимы, существовавшие в обеих странах, с охраной интересов широких слоев населения. Не случайно Г. Еллинек утверждал: «От указанной формы децентрализации децентрализация в форме самоуправления политически отличается тем, что последняя представляет форму нормальную, а первая – ненормальную, в которой проявляется тенденция либо к новым государственным образованиям, либо к более интенсивной централизации всего государства, нивелирующей особенности отдельных земель»[36].
Современная наука, а главное, политическая практика несколько иначе подходят к данным проблемам. Прежде всего, в настоящее время не наблюдается столь жесткого противопоставления местного самоуправления и автономии, как раньше. Этому способствует более широкое понимание автономии современными исследователями. Как указано в Большом юридическом словаре: «Автономия… в широком смысле – определенная степень самостоятельности каких-либо органов, организаций, территориальных и иных общностей в вопросах их жизнедеятельности»[37]. Такое толкование позволяет считать практически любые виды местной самодеятельности – от финансово-экономической до национально-территориальной. Но обыкновенно, говоря о сложном унитарном государстве, исследователи имеют в виду такие виды автономии, как территориальная (региональная) или государственная.
Территориальная (региональная) автономия нередко называется в литературе политической или законодательной. Фактически она представляет собой не что иное, как дальнейшее логическое развитие местного самоуправления. Появление указанного явления можно объяснить довольно просто. Изначально, с момента зарождения в XVII столетии идеологии либерализма, ее адепты оценивали государство как неизбежное, хотя и необходимое зло. Эти представления коренились в реальном положении капиталистических элементов в позднефеодальном государстве. В интересах дворянства абсолютная монархия стремилась ликвидировать или подчинить себе все местные корпорации, а буржуазию рассматривала исключительно в качестве источника налоговых и иных денежных поступлений. Многочисленные злоупотребления чиновной бюрократии и недостаточная правовая защищенность в рамках сословного строя – все это убеждало буржуазию в потенциальной враждебности государственной машины ее интересам.
Позднее, когда ситуация изменилась и буржуазия вошла в разряд правящих классов, недоверие по отношению к государству у нее осталось. Определенная самостоятельность бюрократического аппарата, его корпоративная сплоченность затрудняли классовый контроль над этой важной общественной силой. К тому же центральная власть, даже в виде избираемого парламента, не всегда могла учесть интересы отдельных фракций правящего класса, особенно специфические частные или групповые интересы. А между тем именно частный интерес должен, безусловно, господствовать в капиталистическом обществе. Потребовались механизмы и организационные структуры для обеспечения такого интереса. Одной из таких структур и стало местное самоуправление.
Г. Еллинек так говорил о причинах образования местного самоуправления: «Невозможность в достаточной мере ознакомиться из центра с реальными жизненными отношениями отдельных частей государства; непригодность чуждой потребностям народа и социально оторванной от него бюрократии к плодотворному управлению. Стремление поднять самодеятельность граждан и таким образом пробудить и усилить в них интерес к государству. Усиление чувства политической ответственности у управляемых, если им предоставляется участие в делах правления и управления. Необходимость для законодательства и управления считаться с местными и профессиональными интересами. Гарантирование законности управления в противовес произволу центральных установлений, перенесение на заинтересованных расходов местного управления»[38].
Даже из указанного перечня видно, что причины эти разнообразны. Следовательно, разнообразными должны быть и функции органов местного самоуправления. Но обилие этих функций породило противоречие. С одной стороны, для осуществления их всех требовались значительные финансовые средства, а с другой – нужны были грамотные и компетентные специалисты. Специалистам следовало хорошо платить, контролируя при этом всю их деятельность. Но для профессионального контроля над специалистами требовались не менее профессиональные контролеры. Таковые уже имелись в наличии, но в лице тех же самых государственных чиновников. Круг, таким образом, замкнулся. Местная самодеятельность пришла в противоречие с необходимым профессионализмом управления.
Политическая автономия предоставила сравнительно простой и дешевый выход из создавшегося положения. Создание системы самостоятельно формируемых органов законодательной и исполнительной власти, установление центральными властями круга вопросов, по которым допускается местное законодательство, – все это позволяет повысить оперативность решения местных вопросов. А возможность самостоятельно распоряжаться средствами местного бюджета позволяет местным органам власти и управления реально разрешать возникающие перед ними проблемы. Местное самоуправление как бы поднимается на новый уровень. Если муниципальные образования обязаны действовать исключительно в рамках общегосударственных законов, то региональные автономии в ряде случаев составляют для себя законы сами или, как это имеет место в КНР, не применяют некоторые общегосударственные законы, не соответствующие местным условиям, правда, с разрешения вышестоящих органов[39].
Разумеется, у местного самоуправления и региональной автономии много общего: местные органы действуют под пристальным надзором органов центральной власти, которая сохраняет право непосредственного вмешательства в дела местных властей. Так же как незаконные решения муниципальных властей, органы центральной власти могут отменить и законы, принятые региональными органами власти, в случае их противоречия законам общегосударственным. И все же степень самостоятельности местных властей в региональной автономии выше, чем у органов местного самоуправления. В силу вышесказанного нельзя согласиться с теми исследователями, которые фактически именуют органы власти автономий лишь агентами или делегатами центральной власти[40]. Поэтому принципы территориальной автономии широко используются как для решения национальных проблем (тогда возникает национально-территориальная автономия, отличающаяся от обычной региональной особыми правами в культурной и языковой сферах), так и для управления отдаленными от основной территории государства владениями (например, Фарерские острова в Дании) или территориями, резко выделяющимися хозяйственным и культурным своеобразием (например, созданная в 1991 г. автономия кочевых племен туарегов в Мали).
Высшей формой автономии признается автономия государственная. Получив от центральных властей ряд атрибутов государственности, например право иметь собственную конституцию и созданную в соответствии с ней, не зависящую от центра структуру органов власти, собственную законодательную компетенцию, собственное гражданство, государственный язык и официальную символику, такое автономное образование в унитарном государстве становится практически неотличимым от субъекта в федерации. Отличием здесь является только: во-первых, то, что источником всех этих правомочий в унитарном государстве являются сами органы центральной государственной власти (что в повседневной жизни не имеет большого значения), а во-вторых, то, что региональные органы власти подобного государства не имеют совместной компетенции с центральными органами, что порой встречается в федерациях. Очевидно, что подобные отличия вряд ли можно признать существенными.
Сегодня в мире существуют различные виды территориальной автономии: от административной (издание газет, радиовещание, судопроизводство на местном языке, некоторые дополнительные полномочия для местных органов) до государственной. В некоторых государствах автономные права предоставляются всем административным единицам, и в результате возникает так называемое «государство областей» (региональное государство). Такими региональными государствами сегодня являются Италия (по Конституции 1947 г.), Испания (по Конституции 1978 г.), Шри Ланка (согласно поправкам к Конституции 1978 г.) и ЮАР (после реформ 1994–1996 гг.). При этом речь не идет о детальном совпадении прав у всех автономных образований. В Испании территориальная автономия, имеющая некоторые черты национально-территориального характера (Арагон, Андалузия, Галисия, Страна басков), сочетается с автономией, обладающей чертами и областного районирования (Астурия, Леон, Валенсия). В Италии пять выделенных автономных областей имеют определенные особенности национального, лингвистического, бытового характера, остальные 15 созданы по территориальному признаку. Иногда высказываются утверждения, что создание регионального государства – новое явление современности[41]. На самом деле такие «государства автономий» вовсе не являются порождением только нашего времени. Сто лет тому назад аналогичным образом именовали Австрию, точнее, австрийскую часть Австро-Венгерской империи. Г. Еллинек прямо именовал ее «государством областей или земель, своего рода федерацией»[42], а З. Авалов утверждал: «Благодаря областному самоуправлению, которым уже сорок лет наделены австрийские земли, народности монархии получили возможность быстро развиваться во всех отношениях. Благодаря ему нашла применение созидательная энергия национальной солидарности»[43].
Государства автономий не случайно сравниваются с федерациями. Некоторыми своими чертами они уже настолько отличаются от унитарных государств, что их просто трудно признать таковыми. Отдельные исследователи предполагают, что «государства автономий» находятся на пути превращения в подлинную федерацию и их следует рассматривать как переходную форму от унитарного государства к федерации[44]. Так это или нет – сказать сложно (хотя австрийский опыт как будто подтверждает высказанную точку зрения). Однако появление такого феномена позволяет сделать важный вывод о том, что не существует непреодолимой грани, отделяющей одну форму государственного устройства от другой. И унитарное государство и федерация существуют не изолированно, а находятся под взаимным влиянием и в постоянном взаимодействии друг с другом.
О федеративном государстве нет необходимости рассказывать подробно, так как его основные признаки в отечественной юридической науке устоялись уже давно. Общепризнанно, что это – сложное государство, состоящее из государственных образований, обладающих юридически определенной политической самостоятельностью. Никем не оспаривается наличие двух самостоятельных систем органов государственной власти с собственной, только им присущей компетенцией и фактическое отсутствие суверенитета у субъектов[45]. В некотором уточнении нуждаются только два вопроса. Во-первых, возможность расширения центральной властью своих полномочий и пределы такого расширения. И, во-вторых, обязательность равного статуса субъектов в федерации.
На первый из этих вопросов можно ответить так: возможности федеральной власти расширять свои полномочия практически неограниченны. Теоретически федерация, таким образом, может быть превращена в унитарное государство. Однако такое рассуждение носит чисто спекулятивный характер. Во-первых, для такого преобразования нужны очень веские причины и продолжительное время. Ведь подобного рода преобразования могут произойти только в том случае, если удастся убедить региональные элиты отказаться от тех выгод, которые им дает государственный статус их регионов. Во-вторых, такая трансформация требует достаточно сложной конституционной процедуры (при этом необходим полный пересмотр не только конституции, но и всего связанного с ней комплекса законодательства), что, как правило, позволяет избежать непродуманных преобразований. Разумеется, проблему можно легко разрешить насильственными действиями (в качестве примера можно привести военный переворот генерала А. Л. Санта-Анна в Мексике в 1835 г., который привел к временной замене федералистской конституции этой страны унитаристской), которые однако, чреваты неожиданными осложнениями (например, «преобразования» Санта-Анны стоили Мексике потери Техаса). Подобные неправовые способы не являются предметом рассмотрения данной работы.
35
Еллинек Г. Указ. соч. С. 441.
36
Там же.
37
Большой юридический словарь / Под ред. А. Я. Сухарева, В. Д. Зорькина, В. Е. Крутских. М., 1997. С. 4.
38
Еллинек Г. Указ. соч. С. 419.
39
Чиркин В. Е. Указ. соч. С. 184.
40
Жилин А. А. Теория союзного государства. Разбор главнейших направлений в учении о союзном государстве и опыта построения его юридической конструкции. Киев, 1912. С. 272–273.
41
Чиркин В. Е. Указ. соч. С. 185.
42
Еллинек Г. Указ. соч. С. 440.
43
Авалов З. Областные сеймы (Федерализм) // Конституционное государство: сб. статей. СПб., 1905. С. 296.
44
Федулова А. В. Федерация и федерализм: общетеоретические аспекты // Право: теория и практика. Ижевск, 2001. С. 4–5.
45
Большой юридический словарь. С. 735.