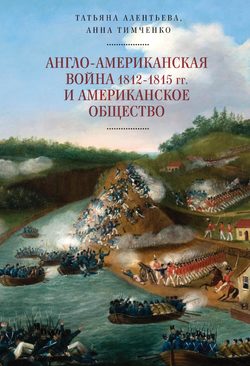Читать книгу Англо-американская война 1812–1815 гг. и американское общество - Татьяна Алентьева - Страница 2
Г л а в а 1
Социально-политическая ситуация перед войной
ОглавлениеПериод конца XVIII – начала XIX веков традиционно именуется американскими историками ранней республикой. Это было время становления американской государственности, развития всех сторон жизни социума. Американская революция XVIII в. расчистила путь для формирования рыночной модели либеральной демократии, становления буржуазного общества и государства, в котором личности-индивидууму предоставлены самые широкие возможности для развития энергии, предпринимательства, реализации стремления к обогащению.
Революция XVIII в. дала мощный импульс экономическому развитию США, формированию политической демократии в рамках президентской республики. Именно революция создала общенациональные символы, использование которых стало частью национальной традиции, закрепившейся в массовом сознании. Такими символами, к которым позже охотно обращались в целях пропаганды и воздействия на общественное мнение, стали национальный флаг («звезды и полосы»), герб (орел), девиз («во множестве едины»), колокол свободы126. Утвердившийся уже в к. XVIII в. в народных представлениях образ типичного американца – янки, жителя Новой Англии, и дядюшки Джонатана – дополняется в начале XIX в. образом дяди Сэма127.
К 1812 г. в США проживало 7 млн 240 тыс. чел. В состав Союза входило 9 штатов на севере и 9 на юге. Американское общество находилось в переходном состоянии, представляя собой весьма разношерстную картину. В политическую элиту входили южные рабовладельцы-плантаторы и различные слои финансовой, торговой и предпринимательской буржуазии. Средние слои составляли многочисленные фермеры и мелкобуржуазные слои городского населения. Низы общества состояли из наемных рабочих и батраков, иммигрантов. Самой угнетенной частью населения были негры-рабы. За пределами американского социума находились коренные жители Америки – индейцы.
Характерной чертой американского общества была социальная мобильность, позволявшая людям, благодаря своему трудолюбию и предприимчивости переходить из одного состояния в другое. Социальная градация населения была условной. В связи с этим американское общество еще не приобрело черты завершенной стратификации.
Соединенные Штаты оставались аграрной страной. Соотношение сельского и городского населения в 1800 г. составляло 6,1 % к 93,9 %. К 1810 г. оно изменилось незначительно: 7,3 % к 92,7 %128. Половина населения жила в местечках, имевших примерно 2,5 тыс. жителей, городов с населением более 8 тыс. насчитывалось только 25. Б. М. Шпотов, детально проанализировавший ход и специфику промышленного переворота в США, убедительно доказал, что его начало следует отнести к 1810-м гг., и, собственно, англо-американская война 1812–1815 гг. стимулировала его развитие129. В 1807 г. на территории США действовало 15 хлопкопрядильных фабрик, в 1815 г. их насчитывалось 213. В 1808 г. общая численность работающих веретен на всех работающих фабриках составляла 8 тысяч; в 1811 г. – 80 тысяч, а в 1815 г. – 0,5 млн130. В США по-прежнему преобладало мелкое ремесленное, кустарное и полукустарное, производство. Американская промышленная буржуазия, сконцентрированная в северо-восточных штатах, была малочисленна и не могла еще оказывать существенное влияние на политику государства.
В начале XIX столетия, после короткой мирной передышки, в связи с Амьенским миром 1802 г.131, возобновившиеся в Европе наполеоновские войны принесли американской торговле невиданное процветание, этот период иногда называют ее «золотым веком». Успех американской коммерции был связан с тем, что американским торговцам, как гражданам нейтрального государства, разрешалось свободно торговать с обеими воюющими сторонами. Общий объем экспорта Соединенных Штатов за это время увеличился с 20 до 108 млн долл. Общий тоннаж американского флота возрос с 202 до 1269 тыс. тонн. Торговцы США буквально заполонили европейские рынки сахаром, индиго, кофе и другими товарами из Южной Америки, Вест-Индии и Филиппин132. Соответственно росли доходы, укреплялось положение крупной торговой буржуазии северо-восточных штатов и тесно связанных с нею деловыми интересами финансовых кругов. Именно эти круги составили главную опору формирующейся партии федералистов.
Внутренняя торговля развивалась слабее. Завися напрямую от экспорта хлопка и табака, плантаторы Юга ориентировались на Англию. Экономика южных штатов представляла плантационную систему и базировалась на рабстве негров. Экономическое сотрудничество южных и северных штатов было слабым. Английский импорт не давал развивать национальные мощности и тормозил промышленное развитие не только северного региона, но и способствовал сужению внутреннего рынка южных штатов.
Основное население северо-восточных штатов и западного региона занималось сельским хозяйством. В отличие от южных штатов здесь существовали тысячи мелких и средних хозяйств. Они выращивали культуры для нужд больших городов. Уже в начале XIX века здесь использовался наемный труд, сельскохозяйственные машины и удобрения. «Пионеры» фронтира, постоянно осваивающие новые земли, занимались охотой, рыболовством, меховой торговлей с индейцами. Они не задерживались долго на одном месте, двигаясь все дальше на запад. Следом за ними шли фермеры – «скваттеры». Они занимались мелкотоварным сельским хозяйством без применения наемной рабочей силы.
В целом, как уже отмечалось, страна оставалась аграрной с тремя крупными городами, в которых проживало от 20 до 40 тыс. чел.: Филадельфия, Нью-Йорк, Бостон. Американский социум представлял собой пеструю картину в этнокультурном отношении. Половина американского населения были выходцами из Англии. Чуть более 200 тыс. называли себя шотландцами, 175 тыс. приехали из Германии, 79 тыс. из Голландии, 62 тыс. из Ирландии, 18 тыс. из Франции133. За короткий период времени, благодаря усилиям первопроходцев и покупке Луизианы, были созданы новые штаты (1792 г. – приняты в Союз: 1792 г. – Кентукки, 1796 г. – Теннесси, 1803 г. – Огайо, 1812 г. – Луизиана)134.
В начале XIX столетия США представляли собой периферийную модель капитализма. Экономические процессы еще слабо влияли на изменение социальной структуры, сложившейся на протяжении XVII–XVIII вв. Для США была характерна крайняя разношерстность населения с различными культурно-религиозными, политическими и экономическими представлениями. В американском социуме продолжали доминировать социальные слои, связанные с аграрным сектором экономики, прежде всего, плантаторы и фермеры. Не случайно один из идеологов американского Просвещения и третий президент США Томас Джефферсон видел будущее Америки как нации фермеров, а не как «страны городов». «Мелкие земельные собственники – это самая драгоценная часть государства», – утверждал он135.
Слаборазвитая экономика, ее ориентация на внешний рынок, еще не разветвленная транспортная сеть определяли регионализацию страны. Спецификой США на протяжении десятилетий было формирование трех основных географических и социально-экономических регионов (промышленный Северо-Восток, аграрные Запад и Юг), что вело к формированию региональных интересов, зачастую противоречащих общенациональным. Другой особенностью была сохраняющаяся многоукладность экономики. Диверсификация экономической сферы не могла не отражаться на позициях различных социальных групп, образующих американское общество. Интересы крупной торговой и финансовой буржуазии, земельных спекулянтов и плантаторской верхушки Юга, составлявших политическую элиту страны, часто приходили в столкновение, требовали постоянного поиска компромиссов. Формирующаяся промышленная буржуазия также начинала активно отстаивать свои интересы. Кроме того, были многочисленные средние мелкобуржуазные слои, включавшие фермеров, мелких торговцев, зажиточных ремесленников, представителей интеллигенции, создававшие пеструю мозаичную картину американского социума. В него входили также скваттеры и пионеры «границы», лица, работавшие по найму, недавно приехавшие малоимущие иммигранты, свободные цветные, представители городских низов. По статистическим данным в стране насчитывалось около 1 млн афроамериканцев, в число которых входило 893, 6 тыс. рабов136. Тем не менее, социальные противоречия в Новом свете не были столь острыми и конфликтными, как в Европе. Во многом это объяснялось возможностью уйти на неосвоенные западные земли. Процесс освоения западных территорий был сложным явлением в становлении американской цивилизации. Ф. Дж. Тернер, создавший концепцию «подвижной границы», утверждал, что именно на Западе происходило подлинное рождение американской демократии и складывание нации137. Впервые эти идеи были высказаны им на заседании Американской исторической ассоциации в 1893 г. В отечественной историографии теория «подвижной границы» была подвергнута критическому анализу, справедливо отмечались слабые стороны аргументации американского историка138. Теория Тернера, по мнению его критиков, не отражала многих сторон заселения Запада.
Продвижение на западные земли сопровождалось изгнанием в большинстве случаев вооруженной силой индейских племен с их земель и варварским уничтожением самих индейцев, что составляет одну из самых мрачных страниц американской истории. Начиная с 1778 г. правительство США заключало неравноправные договоры об отчуждении индейских земель. В Северо-Западном ордонансе от 13 июля 1787 г. говорилось: «Что касается индейцев, то их земли и собственность никогда не могут быть отторгнуты у них без их согласия»139. Но это «добровольное» согласие чаще всего получалось обманом, хитростью, подкупом вождей, угрозами и применением военной силы. Создание первым Конгрессом военного министерства дало президенту возможность объявлять индейцам войны и самостоятельно вести дела по поводу земель, имеющих военно-стратегическое значение140.
Сложные модернизационные процессы, происходящие в стране, сопровождадись формированием гражданского общества. С этим было связано возникновение новых социальных связей и появление нетрадиционных форм коммуникации, находящихся вне правительственного контроля. Гостиницы, таверны и салуны создавали условия для неформального общения. В публичных местах, в том числе и на улице, обменивались информацией и суждениями, вырабатывали общие позиции. Широкая свобода слова и печати, гарантированная Конституцией, отсутствие цензуры, децентрализованность прессы, постоянно растущие тиражи, способность проникать во все районы страны благодаря развитию коммуникативных связей, особенно почты, делали периодическую печать выразителем мнений самых широких слоев населения. В 1790 г. в США было 75 почтовых отделений и 1875 миль почтовых сообщений141.
Об огромном значении для страны периодической печати неоднократно писал Т. Джефферсон: «Только прессе, хотя ее практика и пестрит злоупотреблениями, мир обязан всеми триумфами разума и человечности над заблуждениями и угнетением… именно этому благотворному источнику света – прессе, Соединенные Штаты обязаны многим из того, что привело их к состоянию свободной и независимой нации». Он подчеркивал, что свободная пресса – «грозный надзиратель за государственными и общественными деятелями», она «привлекает их к суду трибунала общественного мнения и мирным образом проводит реформы, которые иначе пришлось бы совершать с помощью революции»142. Несмотря на первоначально небольшие тиражи, круг читателей любой газеты был значительно больше. Широко практиковалось чтение вслух, обсуждение и пересказ наиболее интересных статей в тавернах, кафе, на улице в хорошую погоду. Благодаря коллективному чтению каждый экземпляр любого печатного издания доходил в среднем до 6–8 человек143. В гостиницах были специальные залы для чтения газет, где приезжие или просто завсегдатаи могли прочесть свежие издания. В 1800 г. в США выходило 230 газет, в 1810 г. издавалось 358 газет (главным образом еженедельных) и 40 журналов. Лидировали по числу периодических изданий Нью-Йорк – 66; Массачусетс – 32 и Виргиния – 23144.
Согласно конституции 1787 г. США являлись президентской республикой, основанной на принципах федерализма и разделения властей. Нормы основного закона, однако, не предусматривали наличие политических партий, в связи с чем даже многие «отцы-основатели» относились к ним с явным неодобрением, о чем свидетельствует, например «Прощальное обращение к нации» Дж. Вашингтона145. В общественном мнении большинства американцев отношение к партии было подозрительным и неодобрительным. Формирование первой двухпартийной системы: федералисты – джефферсоновские республиканцы146 происходило в сложных и противоречивых условиях ранней республики не только с точки зрения блокирования различных социальных и политических сил, но и с позиций признания ее права на существование в общественном сознании американцев147.
Процесс создания первой двухпартийной системы был длительным и противоречивым, его начало можно отнести к периоду ратификации конституции 1787 г.148 Даже самоназвания партий часто менялись и привычные наименования: федералисты-республиканцы утвердились лишь в начале XIX столетия. Разумеется, это не были партии в современном смысле, организационно они были слабо оформлены, не имели четких программных установок. По мнению М. О. Трояновской, постепенно складывались нормы взаимодействия между партиями, определялись формы и методы межпартийной борьбы, развивались рычаги воздействия на электорат, закладывались основы организационной структуры. Причем на уровне штатов, как оказалось, джефферсоновцы были организованы лучше, чем сторонники Гамильтона.
К концу 90-х гг. XVIII века обе партии располагали относительно широкой массовой базой, имели фракции в обеих палатах Конгресса и достаточно прочные контакты с легислатурами штатов, активно пользовались прессой для мобилизации общественного мнения149.
Гамильтоновцы имели своим органом «Газету Соединенных Штатов» («The Gazette of the United States»), основанную в 1789 г. Джоном Фенно (1751–1798). Через полгода ее тираж составил 600 экз., а через год – 1400 экз., она имела 1000 подписчиков. Розничная цена составляла 2–3 пенни. После смерти Фенно «Газета Соединенных Штатов» поменяла название и с 1800 г. именовалась «The Gazette of the United States, & Daily Advertiser». Редактором газеты стад Джозеф Денни (1768–1812), блестящий памфлетист, впоследствии основатель другой успешной газеты «Портфолио» («Port Folio»)150. Джефферсон именовал ее газетой чистого «торизма… распространяющей доктрины монархизма, аристократизма, исключающей народ»151.
Также федералистов активно поддерживали: бостонская «Columbian Centinel» (1790–1840), издаваемая журналистом Бенджамином Расселом (1761–1845); массачусетская «Massachusetts Spy» (1775–1876), публикуемая Исайей Томасом (1749–1831); филадельфийская «Porcupine’s Gazette» (1797–1800), издаваемая Уильямом Коббетом (1763–1835), впоследствии известным английском политиком, жившим в Штатах в 1792–1800 гг.; «The Connecticut Courant» (1764–1979), основанная печатником Томасом Грином еще в колониальные времена; нью-йоркская «New-York Commercial Advertiser» (1797–1904), ранее именовавшаяся звучным именем «Минерва». Последняя редактировалась знаменитым ученым-лексикографом, которого считают создателем американского языка – Ноем Уэбстером (1758–1843)152.
В 1801 г. Александр Гамильтон основал свою собственную газету «New York Evening Post»153, ставшую впоследствии одной из ведущих нью-йоркских газет благодаря блестящему руководству со стороны поэта и журналиста У. К. Брайанта, в течение 50 лет занимавшего пост ее главного редактора154.
Главной газетой джефферсоновцев была «Национальная газета» («The National Gazette»), основанная в 1791 г. и редактируемая поэтом Филиппом Френо (1952–1832)155. Ей, правда, была суждена недолгая жизнь, т. к. ее издание прекратилось в 1793 г. Гамильтон очень резко реагировал на яростные атаки этой газеты, считая, что она дискредитирует администрацию Вашингтона156.
Но республиканцы не остались без печатных изданий. Другим важнейшим рупором для них стала филадельфийская «Аврора» («Aurora», 1794–1824), основанная внуком знаменитого ученого и политика Бенджамина Франклина Бенджамином Франклином Бейчем (1769–1798)157. После его смерти издание газеты продолжил Уильям Дуэйн (1780–1865), женившийся на вдове Бейча и впоследствии сделавший успешную политическую карьеру. На стороне джефферсоновцев было немало блестящих журналистов и памфлетистов, таких как философ и экономист Томас Купер (1759–1839), издатель «Pennsylvania Newspaper»158.
В 1800 г. в поддержку Т. Джефферсона была основана наиболее влиятельная вашингтонская газета «National Intelligencer»159. Ее создатель Сэмюэль Гаррисон Смит (1772–1845) впоследствии сделал успешную политическую карьеру, став вначале контролером финансов, а затем министром финансов в администрации Мэдисона.
Хотя обе партии не имели еще официальной партийной платформы, но их политический курс во внутренней и внешней политике был вполне определенным.
У каждой партии был свой проект дальнейшего развития страны. Партия федералистов, возглавляемая до 1804 г. Александром Гамильтоном, выступала за сильное федеральное правительство160.
Оно должно было взять на себя ответственность за выплату государственного долга и долгов штатов. Для этого был необходим национальный банк, способный стабилизировать экономику страны за счет накопления и выпуска денежных масс. Гамильтон хотел создать не просто акционерный банк, а мощный и эффективный финансовый инструмент государства. Банк должен был принимать налоги, кредитовать правительство, выплачивать проценты по государственным облигациям, а главное – регулировать выпуск банкнот частными банками, предъявляя их к оплате золотом. Он считал, что это будет способствовать централизации власти и укреплению союза штатов161. Александр Гамильтон был уверен, что центральная власть, формально наделенная обширными полномочиями, не может быть сильной без прочной финансовой основы своей деятельности: «Деньги совершенно справедливо считают костяком политических структур, обеспечивающим их существование и деятельность, выполнение самых важных функций. Полновластие в отношении регулярного и должного получения их, насколько позволяют ресурсы страны, можно рассматривать как неотъемлемую часть всех конституций. За нехваткой средств следует одно из двух зол: систематический грабеж народа вместо приемлемых методов удовлетворения общественных потребностей либо полная атрофия правительства, погибающего в кратчайший срок»162.
Федералисты полагали, что успешное развитие страны возможно только за счет развития промышленности. Подобные предложения были высказаны А. Гамильтоном в докладах Конгрессу (1790–1791 гг.). «Внешние рынки неустойчивы, – утверждал он в своем знаменитом докладе о мануфактурах, – Для создания же внутреннего рынка нет другого способа, кроме развития мануфактур. Промышленники как наиболее многочисленный после землевладельцев класс населения явятся основными потребителями их избыточной продукции»163. Именно развитие экономики, по его мнению, могло сцементировать союз штатов, в котором аграрный Юг и промышленный Север будут взаимно дополнять друг друга. Лидер южных федералистов Р. Г. Харпер видел главную цель партии в достижении гармонии между промышленными и аграрными интересами нации. Он утверждал, что поощрение торговли и развития мануфактур является «наиболее действенным способом развития сельского хозяйства и других отраслей экономики». Харпер отражал позиции плантаторов и крупных фермеров, желавших расширить внутренние рыночные связи, а также выйти на мировой рынок. Быстрый рост американских городов, поощрение национального мореплавания, доказывал он, увеличивают возможности сбыта сельскохозяйственной продукции и самым непосредственным образом отвечают аграрным интересам США. Разумеется, что подобные радужные перспективы не разделялись мелкими плантаторами и фермерами, на что указывал в своем исследовании В. А. Ушаков164.
Федералисты считали, что политическую независимость страны необходимо поддержать и экономической. США нуждались в промышленных товарах, которые навязывались европейскими государствами наряду с коммерческими услугами и внешнеполитическими предпочтениями. В подобной ситуации страна могла надолго сохранить статус полуколониального государства165. Чтобы поддержать курс Гамильтона на поощрение национальной промышленности, президент Вашингтон носил одежду из американского сукна и отказывался пить портер или есть сыр, изготовленный вне Америки166. При всех ее негативных сторонах и издержках, именно политику Гамильтона следует признать отвечавшей насущным потребностям страны, уверенно вступавшей на путь развития либеральной рыночной экономики.
Совсем иной путь развития предлагали демократы-республиканцы, возглавляемые Т. Джефферсоном, они выступали против сильной центральной власти. «Достаточно сделать лишь шаг в сторону, и это будет расценено, как попытка захвата беспредельной власти, власти, неподдающейся никакому определению…»167. Джефферсон, Мэдисон и их активный сторонник в Нью-Йорке Девитт Клинтон, ратовали за «узкое толкование конституции и указывали на ее незыблемость: все, что не «перечислено» – незаконно168.
Джефферсоновцы выступали за преимущественное развитие сельского хозяйства, что сохранило бы страну как «край преуспевающих фермеров». По мнению республиканцев, развитие мануфактур вело к усиленной урбанизации – развитию городов, где царят нищета, грязь и пороки, разрушающие все человеческие добродетели и не способствующие построению здорового общества169. Выражая интересы прежде всего аграриев южных и западных штатов, экономическая программа республиканцев содержала в себе немало противоречий, в том числе и по проблеме рабства. Джефферсон был сторонником постепенного отмирания рабства и считал, что освобожденные рабы должны покинуть США и вернуться на африканский континент170.
Несмотря на то, что английские политические устои повлияли на формирование политической системы США, Джефферсон и его соратники стремились к созданию таких условий для функционирования американского правительства, чтобы оно имело лишь минимальные полномочия. Он категорически отвергал гамильтоновские идеи, считая их «петлей, затянутой на шее народа»171. «Никакие земные соображения, – утверждал он, – не могли заставить меня согласиться на установление такого долга, какой имеет Англия, чтобы вести свои торговые войны, а затем с помощью налогов довести наших граждан до самого жалкого состояния… И все это, чтобы содержать тысячи военных судов и насытить алчность немногих купцов-миллионеров для защиты их коммерческих спекуляций»172.
Особенно, враждебно он относился к созданию Национального банка173. Он писал своему стороннику, памфлетисту Джону Тэйлору: «Как и вы, я в равной мере отвергал систему банков. Я рассматриваю ее как пятно на всех наших конституциях… Вместе с вами я твердо и искренне верю, что введение банков более опасно, чем постоянные армии»174.
Джефферсоновцы были поклонниками Франции, не случайно их противники именовали их якобинцами. Гамильтоновцам больше импонировала британская модель политического устройства. Они считали эту страну эталоном политического и экономического развития, главным торговым партнером США. Но при этом выступали за достижение именно экономической независимости. В то время США все еще оставались аграрно-сырьевым придатком Великобритании. Англия покупала американское сырье, продавая республике необходимые промышленные товары, обеспечивая тем самым немалую выгоду торговцам и всем тем, кто хоть как-то был связан с портами175.
Федералисты, связанные с банковскими домами Новой Англии, были заинтересованы в успехе бизнеса. Это обеспечивало определенную сплоченность партии176. Она состояла в основном из людей состоятельных, наживших свой капитал на торговле, денежных спекуляциях и банковских операциях. Еще в 1793 г., оценивая суть социального размежевания формирующихся партий, Джефферсон писал: «Черта проведена совершенно отчетливо, с одной стороны, высшие слои Филадельфии, Нью-Йорка, Бостона, Чарльстона («природная аристократия»), купцы, торгующие за счет британского капитала; Люди, связанные с бумажными деньгами… С другой стороны купцы, торгующие на отечественном капитале, торговцы, ремесленники, фермеры и все остальные слои наших граждан»177. Конечно, в этом перечне Джефферсон забыл упомянуть о южных плантаторах, к числу которых и сам принадлежал. Правда, добавил: «весь земельный интерес также республиканский», не уточняя, кто за этим стоит.
В 1784–1785 гг. были изданы акты об образовании государственного земельного фонда. В него также вошли еще незаселенные северо-западные территории, еще через десять лет добавились юго-западные земли, а в 1803 г. была присоединена Луизиана. Федеральный земельный фонд разделился на северо-западную часть и юго-западную178. В последней преобладали коммерциализированные плантационные хозяйства, ориентированные на сельскохозяйственное производство и использующие труд рабов и белых законтрактованных слуг. Осваивая западные территории, американцы активно обращали ее в собственность. Однако после введения в жизнь закона о продаже участков из государственного фонда не менее 640 акров по цене 1 долл. за акр (1785 г.) быстрое освоение западных земель фермерами приостановилось179.
В 1800 г. к власти в США, после 12 лет правления федералистов, пришла партия республиканцев. Ее глава, Томас Джефферсон, патетически назвал победу на президентских выборах «революцией 1800 г.», не уступавшей революции 1776 г.180 Одной из главных причин, способствовавших победе республиканцев, было то, что наряду с нестабильностью в рядах федералистов, Джефферсон смог создать сплоченную партию, которая предложила американским гражданам новый экономический путь, заменивший критикуемую ею политику оппонентов181.
Эти выборы действительно были в своем роде уникальны: впервые в недолгой истории США власть перешла от одной партии к другой – и притом мирным путем. Американская конституция доказала, что может обеспечить выход из острых ситуаций за счет демократических механизмов.
От республиканцев кандидатом был выдвинут Джефферсон (1743– 1826). В качестве кандидата на пост вице-президента республиканцы выбрали Аарона Бэрра (1756–1836)182, авантюриста с грандиозными замыслами, беспокойным наполеоновским честолюбием и полным отсутствием каких-либо принципов. Четыре года спустя он приобретет довольно мрачную славу, убив на дуэли Александра Гамильтона, а еще позднее попытается выкроить себе империю на западе США. Эти события известны в американской истории как «заговор Бэрра».
Федералисты также выдвинули две кандидатуры: действующего президента Джона Адамса – на пост главы государства и участника Войны за независимость из Южной Каролины, дипломата Чарльза Котсуорта Пинкни (1746–1825) – на пост вице-президента. Предвыборная кампания была ожесточенной, и партии не скупились на крепкие эпитеты в отношении друг друга. Республиканские газеты расписывали «ужасающее» положение сельского хозяйства, стонущего под гнетом налогов, и мануфактур, якобы попавших под пяту британских промышленников благодаря федералистской политике. Большое внимание уделялось пропаганде личных достоинств «друга народа» Джефферсона. Была сочиненна красочная биография кандидата, весьма популярной стала песня «Джефферсон и свобода». Республиканцы в популярной и навязчивой форме говорили о несчастьях и бедах страны под властью федералистов: британское влияние, постоянная армия, прямые налоги, государственный долг, дорогостоящий флот, непомерно высокое жалованье членов Конгресса, аристократический дух183
Впервые в этой предвыборной кампании кандидаты стали выступать непосредственно перед избирателями на митингах. Оливер Уолкотт, министр финансов, с негодованием писал: «Кандидаты обеих партий разъезжают по своим округам, пытаясь расположить к себе людей… Люди высокого положения нисходят до того, что созывают толпы распутных и невежественных фермеров и механиков, перед которыми произносят длинные речи на открытом воздухе»184.
Федералисты не оставались в долгу, изображая республиканского кандидата якобинцем и безбожником. А переметнувшийся в лагерь федералистов, не получивший в республиканском лагере вожделенной синекуры журналист, известный как «возмутитель спокойствия» Джеймс Каллендер раскопал сведения о любовнице Джефферсона, чернокожей рабыне по имени Салли Хемингс. «Хорошо известно, – писал он, – что человек, которому народ воздает почести, содержит в качестве наложницы одну из своих рабынь. Ее имя – Салли»185. Она родила Джефферсону 6 детей186. Но о таких отношениях плантатора со своими рабынями не принято было говорить публично, так что скандал, разумеется, отразился на имидже поборника прав человека, который к тому же был расистом и считал представителей черной расы неполноценными людьми187.
Разумеется, республиканцы отвергали все обвинения их лидеру. В одной из листовок джефферсоновцев говорилось: «Республиканцы, спасите свою страну от разрушения! Покончим с императорами, королями, с железной хваткой клики британских тори – беспринципных грабителей и спекулянтов! …Долой тори, долой британскую фракцию, пока они не поработили нас… Республиканцы хотят таких людей, как Джефферсон и Клинтон, которые защищали нашу страну в 1776 г.»188
Победа республиканцев на президентских выборах 1800 г. все же была довольно странной. Томас Джефферсон и Аарон Бэрр получили по 73 голоса выборщиков. Поскольку голоса выборщиков разделились поровну, то в первый раз в истории страны выбрать президента должна была Палата представителей. Но и она зашла в тупик. Когда Палата представителей выбирает президента, то она, согласно конституции, голосует по штатам, причем для избрания кандидат должен собрать абсолютное большинство голосов, т. е. за него должны проголосовать половина всех штатов Союза и еще один штат. В 1800 г. абсолютное большинство штатов равнялось девяти. Между тем Джефферсон получил поддержку восьми штатов, Бэрр – шести. Два штата не решили, кому отдать преимущество. Одно голосование за другим оканчивались одним и тем же результатом: ни один из кандидатов не мог собрать необходимого большинства. Приближалось 4 марта, день инаугурации, а в стране не было ни президента, ни вице-президента. В этой ситуации многие федералисты готовы были поддержать Бэрра, который в силу своей беспринципности мог скорее пойти на какую-либо сделку с побежденной партией. Однако Гамильтон использовал весь свой авторитет и дар убеждения, чтобы склонить свою партию на сторону Джефферсона. Бэрр, как верно разгадал Гамильтон, думал только о собственном возвеличении, а не о благе страны и в роли президента мог оказаться просто опасным для США. Гамильтон так характеризовал Бэрра: «Ни один смертный не может сказать, каковы его политические принципы. Он противоречит сам себе. Временами он изъясняется на языке якобинцев; иногда решительно провозглашает полную непригодность федерального правительства и необходимость замены его более энергичным. Истина, по-видимому, заключается в том, что у него нет никакого плана, кроме как получить и удержать любыми средствами власть»189
В результате, после долгих обсуждений, 17 февраля 1801 г., во время 36‐го голосования, Палата представителей избрала Томаса Джефферсона третьим президентом Соединенных Штатов. За него отдали голоса 10 штатов из 16; за Бэрра – 4190. «Буря, которая в течение долгого времени бушевала в политическом море, наконец, утихла. Обе партии испробовали свои силы: победа и успех увенчали усилия республиканцев, – писала газета «National Intelligencer». – В то время как другие нации в силу монархических или аристократических несовершенств при аналогичных обстоятельствах прибегали к помощи оружия… просвещенная Америка продемонстрировала все преимущества республиканских политических институтов»191.
Бэрр стал вице-президентом. Госсекретарем был назначен Джеймс Мэдисон, министром финансов – швейцарец Альберт Галлатин (1761– 1849), любимец фермеров, вождь пенсильванских демократических обществ, известный своими нападками на Гамильтона и «гамильтоновскую систему». Джефферсон, Мэдисон и Галлатин сосредоточили в своих руках все нити управления государством в этот новый период, получивший название у американских историков «джефферсоновской демократии».
Новый президент был полон решимости свести партийные противоречия к минимуму. «Мы все республиканцы – мы все федералисты, – заявил он в своей инаугурационной речи. – …Так будем же мужественно и решительно придерживаться наших федералистских и республиканских принципов, нашей приверженности Союзу и представительной форме правления»192.
На самом деле это высказывание было лишь удачной формой компромисса, так как даже среди республиканской партии не было единого мнения о дальнейшем развитии государства. Правое крыло консерваторов, в лице Дж. Тейлора, Дж. Рэндольфа и Э. Пендлтона, ратовали за превращение США в страну только аграрную, аргументируя это тем, что развитие торговли и мануфактурного производства приведет к моральной деградации нации193. Их действия были мотивированы нежеланием допуска федералистов к управлению государством. Тем самым «старые республиканцы» отстаивали экономические и политические права южных плантаторов. Поэтому вскоре оказались в оппозиции президентскому курсу. Наряду с этим левый фланг республиканцев, во главе с Дж. Логэном, видели в политике Джефферсона начало демократизации всего американского общества. Поэтому также не приняли примирительный лозунг президента и настаивали на отлучении федералистов от политической деятельности. В свою очередь Джефферсон опирался на прагматиков, умеренную фракцию республиканской партии. Государственный секретарь. Дж. Мэдисон, был не только, как и президент, выходцем из штата Виргиния, но и давним его соратником и другом194, хотя их политические взгляды в некоторых моментах имели существенные расхождения. Так, например, Джефферсон опасался излишней централизации власти, которая может вести к установлению тиранического правления. Мэдисон же видел опасность в «бесконтрольном волеизъявлении большинства»195.
Экономическая политика Джефферсона сводилась к трем основным целям: строгая экономия, сокращение государственного долга, уменьшение налогов. В период президентства Джефферсона были приняты кое-какие меры для облегчения доступа к западному земельному фонду. По закону 1804 г., минимальный размер поступающих в продажу участков земли был снижен до 160 акров, а минимальная цена за акр – до 1,64 долл. за акр. Но аукционы сохранялись.
Джефферсон пропагандировал полный отказ от всех прямых налогов и «возложение на плечи» верхних слоев общества всей тяжести импортных пошлин, которые и потребляли заграничные товары. Конгресс по его предложению принял закон об отмене внутренних налогов. Сохранился только налог на продажу государственных земель и почтовые сборы. После отмены последнего акциза (на соль) президент с гордостью спрашивал: «Какой фермер, какой промышленный рабочий, кто из трудящихся хоть когда-нибудь сталкивался со сборщиком федеральных налогов?»196 Единственным (и, как считал Галлатин, достаточным) источником доходов для федерального правительства оставались таможенные сборы. Однако на практике ликвидация налогов параллельно с предпринятой Галлатином форсированной выплатой государственного долга обрекала государство на голодный паек в 2,6 млн. долл. в год. Это означало режим строжайшей экономии. Государственный аппарат был несколько сокращен, ликвидированы некоторые второстепенные представительства за границей. Но главное, что укрепило позиции нового президента, было назначение на все государственные должности исключительно своих сторонников. «Достаточная причина для отстранения федералистов состоит в том, что их время прошло», – писала газета «Aurora»197.
Но главной статьей экономии стало урезание военных расходов. Регулярная армия и флот были для республиканцев объектом особой ненависти, считая, что регулярная армия представляет собой потенциальную угрозу свободе. Джефферсон полагал ее существование несовместимым с республиканской формой правления и мечтал ликвидировать ее совсем. Он говорил: «Я за то, чтобы для поддержания внутреннего порядка полагаться исключительно на милицию, а также на военные корабли, которые бы охраняли наши берега и порты; я против регулярной армии, которая будет смущать общественные чувства… а также против военного флота»198. Сразу же после прихода республиканцев к власти были сокращены расходы на строительство военных кораблей. По предложению Галлатина половина военных кораблей США была продана. Размеры армии также были сокращены – в полтора раза, до 3 тыс. чел. 199
К 1801 г. долг США был равен 83 млн. долл. По решению министра финансов его погашение планировалось осуществить путем выплаты каждый год по 7 млн долл. в течение десяти лет. Но, из-за покупки Луизианы и увеличения военных расходов, в связи с обострением англо-американских отношений, долг вырос еще на 15 млн долл. И план не удалось реализовать. Хотя к 1809 г. сумма долга снизилась до 57 млн долл., а перед войной составляла 45 млн долл. 200
За время пребывания у власти Джефферсон был вынужден отказаться от многих из своих излюбленных утопий и признать прагматичность ненавистной ему «системы Гамильтона». Если в качестве лидера оппозиции он резко выступал против самой идеи развития мануфактур в США, то в конце второго срока своего президентства он уже призывал к равновесию промышленности, сельского хозяйства и торговли. Показательно также отношение Джефферсона-президента к банкам. Хотя теоретически он был противником подобных учреждений, в период его президентства Первый национальный банк продолжал функционировать, а сеть банков штатов значительно расширилась. Республиканцы лишь постарались взять под свой контроль Банк США. «Я, безусловно, за то, чтобы сделать все банки республиканскими. Мы можем достичь этого, делая вклады в прямой пропорции к их политической позиции»201.
Важнейшим свершением президентства Джефферсона стало приобретение Луизианы202. Эта огромная территория включала современные штаты Луизиана, Миссури, Арканзас, Айова, Северная и Южная Дакота, Небраска, Оклахома, а также значительные части Канзаса, Колорадо, Вайоминга, Монтаны и Миннесоты. Она простиралась с юга на север, от истоков до устья Миссисипи, а на северо-западе ее границей были Скалистые горы. С 1763 г. она принадлежала Испании, но в 1800 г. вернулась под власть Франции. К Франции отошел и Новый Орлеан – ключевой порт, контролировавший устье Миссисипи. Его важность для американской торговли невозможно было переоценить: через Новый Орлеан вывозилось около 40 % всего американского экспорта. «На земном шаре, – писал Джефферсон в частном письме к французскому первому консулу Н. Бонапарту, – есть одно-единственное место, обладатель которого является нашим естественным врагом. Это – Новый Орлеан, через который должны идти на рынок товары с 3/8 нашей территории, плодородие которой будет давать нам более половины наших продуктов, там живет более половины нашего населения. В тот день, когда Франция овладеет Новым Орлеаном, она вынесет приговор, по которому мы будем заперты в наших внутренних водах… С этого момента мы должны будем соединиться с британским флотом и государством»»203.
Джефферсон готов был объявить о смене внешнеполитического курса, с про-французского на про-британский. До войны с Францией, впрочем, дело не дошло. Наполеон нуждался в деньгах для продолжения войны в Европе, поэтому его мало интересовали территории на североамериканском континенте. Франция согласилась уступить Луизиану Соединенным Штатам за 60 млн. ливров (15 млн долл.) и принятие на себя долгов Франции американским гражданам (они составляли ок. 20 млн ливров). В результате территория США увеличилась почти вдвое204. Джефферсон пытался также приобрести испанскую Флориду, но безуспешно. 21 октября 1803 г. президент подписал акт, по которому исполнительная власть брала на себя всю полноту гражданского и военного управления в Луизиане, пока не будет принято решение Конгресса об управлении этой территорией. Должность временного губернатора Луизианы получил Уильям Клейборн (1775–1817), остававшийся на этом посту до 1813 г.
После покупки Луизианы (1803 г.) пионеры-скваттеры в массовом порядке двинулись на заселение территорий вдоль р. Огайо и по берегам оз. Эри. Это обострило взаимоотношения американцев и коренного населения. В 1800 г. на территории США между Аппалачами и Миссисипи жили 600 тыс. индейцев. Висконсин, Мичиган, Иллинойс, Индиану и треть Огайо населяли вайандоты, шауни, майами и кикапу, которые вместе могли выставить 5 тыс. воинов. Миссисипи, Алабаму, Джорджию населяли «пять цивилизованных племен»: крики, чероки, чикасо, чокто, а также семинолы, основная масса которых жила во Флориде205. Отношения США с племенами регулировались (до 1834 г.) актом от 30 марта 1802 г., который в принципе признавал права отдельных племен на занимаемую землю, следовательно, при заселении белыми колонистами эту землю надо было выкупать. Однако даже заключенные от имени правительства США неравноправные договоры чаще всего грубо нарушались. По мнению американского исследователя Г. Зинна, индейцы представлялись белым переселенцам «чужеродным внешним элементом»206. Они представляли для них преграду на пути освоения новых земель. Когда-то Т. Джефферсон в своих «Заметках о штате Виргиния» довольно высоко отзывался об индейской расе, в то же время подчеркивая те негативные явления, которые привнесла в их жизнь американская цивилизация. Он писал: «Спиртные напитки, оспа, война и сокращение территории принесли народу, который жил, используя в основном дары природы, ужасные бедствия, которые нынешнее поколение при существующих препятствиях вряд ли сможет побороть»207.
Став президентом, он во многом поменял свое мнение. Во второй инаугурационной речи он говорил, характеризуя индейцев: «Но наши усилия, направленные на то, чтобы … побудить их взяться за разум… изменить свои занятия в связи с изменением обстоятельств, сталкиваются с мощным противодействием; этому мешают их физические привычки, предрассудки, невежество, гордыня, влияние предубежденных и хитрых вождей»208. Белые поселенцы, частично уничтожив, заставили коренное население переселиться с территории «неосвоенного западного резервного района», оттесняя их все дальше на Запад. Правительство США продолжало смотреть сквозь пальцы на нарушения договоров с индейскими племенами.
В 1804 г. Джефферсон был переизбран на второй срок, на этот раз с триумфом. Из 176 выборщиков за него проголосовали 162. Его оппонент Ч. К. Пинкни получил только 14 голосов209. Его внушительная победа во многом объяснялась удачной покупкой Луизианы. И все же приобретение новой огромной территории принесло с собой серьезные проблемы для сторонника «узкого толкования» конституции Т. Джефферсона, поскольку основной закон вовсе не упоминал о праве федерального правительства приобретать новые территории. Ему пришлось в очередной раз пожертвовать своими принципами и прибегнуть к доктрине «широкого толкования» заклятых врагов-федералистов и счесть, что такие полномочия «подразумеваются». В своем втором инаугурационном обращении он отметил: «Я знаю, что многие не одобряли приобретение Луизианы, искренне считая, что расширение территории поставит под угрозу наш Союз. Но кто очертит те пределы, в которых федеративный принцип может эффективно работать? Чем обширнее наше объединение, тем меньше его будут потрясать местные страсти»210. Он не преминул осудить федералистскую прессу за ее яростные нападки на его правительство: «Чтобы причинить нашей администрации беспокойство, пресса обрушила на нее огонь разнообразных обвинений, какие могла только выдумать и позволить себе свойственная ей беспардонность. Такие выходки со стороны столь важного для дела свободы и просвещения института вызывают глубочайшее сожаление… Несомненно, их можно было бы проучить при помощи благотворных мер наказания, предусмотренных и предписанных законами ряда штатов за публикацию ложных и порочащих сведений, но время государственных служащих посвящено более насущным общественным заботам, и по этой причине наказанием для злопыхателей стало исключительно общественное негодование»211.
Не анализируя полностью внешнюю политику Джефферсона, поскольку это будет сделано дальше, следует отметить, что военная доктрина третьего президента была рассчитана на прочный мир в Европе. И в этом был его серьезнейший просчет, не учитывавший глубину англо-французских противоречий и политические амбиции наполеоновской Франции. Амьенский мир был всего-навсего передышкой в противоборстве Англии и Франции. Уже в мае 1803 г. военные действия между Англией и Францией возобновились. Не довольствуясь этим, обе тогдашние сверхдержавы пытались задушить друг друга с помощью экономических мер. В ноябре 1806 г. Наполеон (теперь уже император Франции) подписал знаменитый первый декрет о континентальной блокаде, добиваясь от всех своих союзников и сателлитов полного разрыва всех торговых отношений с Англией212. Англия ответила контрмерой. Так называемые «Указы в совете» 1807 г. запрещали всем нейтральным странам торговать с Францией и ее союзниками; каждому судну предписывалось заходить в английский порт и там вносить соответствующую пошлину. Ответные декреты Наполеона, изданные в ноябре–декабре 1807 г., гласили, что всякое нейтральное судно, подчинившееся «Указам в совете», будет рассматриваться как английское и в качестве такового может быть захвачено в открытом море. В случае захода такого судна во французский или союзный порт его груз подлежал конфискации. Внешняя торговля Америки, попавшая между двух огней, оказалась под угрозой.
Британия систематически нарушала морские права США, захватывая американских моряков под предлогом поиска английских дезертиров. Несмотря на маневренность и боевую мощь, а также славу флота Англии, служба на ее кораблях была не из легких. Плохая еда, муштра и насильственный призыв на службу побуждали многих англичан поступать на американскую службу. Это вызывало недовольство у командиров британского королевского флота, поэтому нередки были случаи захвата английских матросов, заодно и американцев, на американских кораблях и возврата на службу в английских военно-морских силах213 Общее число американцев, захваченных англичанами с 1793 до 1812 г., то есть до начала войны, оценивается в 20 тыс. человек. В докладе Конгрессу в июле 1812 г. Дж. Монро говорил о 6257 случаях захватов в период 1803–1811 гг. Эти цифры не столь существенны по сравнению с численностью британского флота, которая оценивалась в 120 тыс. человек в 1805 г. или в 113 тыс. – в 1812 г., однако отказ от практики захватов мог еще больше усилить дезертирство, достигшее в одном 1807 г. 2500 человек214. Англичане преследовали конкурентов в лице американских торговых судов, задерживая их, бесцеремонно обыскивая трюмы, конфисковывая товары, забирая команду на свои корабли. Кроме того, в ответ на континентальную блокаду Наполеона, Великобритания вводила запретительные меры на торговлю нейтральных стран. По подсчетам американского историка У. Дженнингса, с 25 марта 1793 г. по 14 октября 1808 г. Великобритания приняла 31 акт, наносящий ущерб торговле США, в том числе и ряд Указов в Совете, прямо запрещающих торговлю нейтралов215.
Британский флот нуждался в моряках, а поскольку их требовалось все больше, то насильственный захват американских моряков и принуждение их к службе англичанам становились постоянно повторяющимися действиями.
Особенно возмутил общественность США инцидент с американским военным судном «Чесапик», которое 23 мая 1807 г. было обстреляно английским военным фрегатом «Леопардом». «Чесапик», уступавший в огневой мощи английскому кораблю, спустя полчаса сдался, имея троих убитых и 18 раненых. Команда британцев обыскала американский корабль. С «Чесапика» были сняты четыре матроса, якобы дезертировавших из британского флота, причем одного из них англичане тут же повесили216. Инцидент с «Чесапиком» был не просто единичным проявлением враждебности, но выражением официальной политики Великобритании, и именно так его восприняли в США. По стране прокатилась волна протестов. Наблюдая за ростом антианглийских настроений, Джефферсон отмечал, «со времен битвы при Лексингтоне страна никогда не была в состоянии такого возбуждения»217. Толпы народа собирались в приатлантических городах и требовали отмщения.
Инцидент несомненно вредил американской внешней торговле, подрывал авторитет страны, как морской державы, наносил ощутимый удар по самолюбию молодой американской нации. Но английские правящие круги также продолжали игнорировать дипломатические демарши американцев. Война за независимость и военный опыт Триполитанской кампании218 давали правительству возможность заявить о начале военных действий против Англии в случае, если Великобритания и дальше будет проводить несправедливую политику по отношению к США. Однако Джефферсон опасался дорогостоящего, опасного и непредсказуемого военного конфликта с могущественной державой.
Бесцеремонные действия Великобритании на море заставили правительство США прибегнуть к принятию экономических мер, чтобы заставить уважать свой суверенитет. По мнению М. О. Трояновской, эти методы были привычными для американской внешней политики со времен Войны за независимость219. 22 декабре 1807 г. Конгресс под давлением президента принял закон об эмбарго, имевший для США самые негативные последствия. Против закона в палате представителей голосовали не только федералисты, но и республиканцы. Из 44 человек, голосовавших «против», 17 принадлежали к джефферсоновцам. Согласно закону экспорт американских товаров должен был прекратиться, но одновременно прекращался и всякий импорт. Любые внешнеторговые отношения – не только с Англией и Францией, но и со всеми прочими странами – запрещались. Морская торговля попадала под непосредственное управление президента. Иностранные корабли должны были покинуть американские порты220. Президент Джефферсон так охарактеризовал новый закон: «Я придаю огромное значение осуществлению этого эксперимента для проверки того, насколько эффективным оружием может быть эмбарго, как в этом случае, так и в будущем». Далее президент конкретизировал суть «эксперимента»: «охранять нашу собственность и моряков от захвата и морить голодом страны-обидчики». Подобная мера «должна была действовать до того времени, пока последние не откажутся от несправедливых и неправомерных действий против США»221. Он называл эмбарго «мирным заменителем войны» и видел в нем эксперимент по «мирному принуждению» агрессоров, который может со временем вытеснить войну как средство политики. При этом президент допустил ряд серьезнейших просчетов. Он не понимал, что слабая еще американская экономика не сможет обойтись без торговых отношений с европейскими странами. Джефферсон переоценил не только значение американской торговли для Европы, но и готовность собственного народа к жертвам во имя национальной идеи222.
Федералистская пресса немедленно подвергла критике закон об эмбарго223. «New York Evening Post» писала: «Эмбарго, наконец принятое Конгрессом, несет с собой немедленное банкротство купцу и конечно меньшую занятость трудовому люду нашего города». Редактор газеты задавал прямой вопрос: «Неужели друзья президента думают, что народ по-прежнему будет превозносить его, когда окажется без продовольствия и одежды»224. О разорении новоанглийских фермеров писала газета «Columbia Centinel»225.
В Нью-Йорке вышел анонимный памфлет под красноречивым названием «Война или не война». Аноним скрывался под псевдонимом спартанца Ликурга, что позволило автору резко критиковать политику администрации Джефферсона. Вместе с тем автор советовал укреплять обороноспособность страны. Любопытно также, что он требовал немедленного прекращения «притока иностранцев», чтобы избежать «отождествления с политикой выдавливания преступников из Европы»226. Осуждение политики эмбарго содержится в письме лидера новоанглийских федералистов Роберта Траупа известному художнику Джону Трамбуллу227.
Закон вызвал неоднозначную реакцию не только среди оппонентов, но и в самой республиканской партии, поскольку страдала от эмбарго, прежде всего, американская торговля. Так, например, министр финансов в правительстве Джефферсона Альберт Галлатин заявил: «…учитывая человеческие страдания, государственные доходы, внутренние политические противоречия, я предпочитаю войну постоянному эмбарго…»228.
Введенное эмбарго (22 декабря 1807 г.) активно поддержали джефферсоновские газеты. Редактор республиканской газеты «National Intelligencer» утверждал: «Мы убеждены, что фермер, плантатор и ремесленник одобрят эмбарго, исходя из безопасности, которую оно обеспечит общим интересам; и если купцы будут тоже честны и поддержат этот акт, они усмотрят в этом нерасторжимую связь между своим стабильным процветанием и общим благополучием»229. Другой рупор джефферсоновцев «Richmond Enquirer» писала: «Безусловно, эмбарго нанесет урон нашим торговцам, экспортирующим товары в Европу. И, если они прибегнут к спекуляции, цены на продукты поднимутся. Но на карту брошена честь нашей страны. Наше мнение таково: эмбарго существенным образом приблизит европейские страны к осознанию своей несправедливости»230.
Эффект от введения эмбарго для европейской торговли был довольно сомнителен. В апреле 1808 г. Наполеон объявил, что поскольку США запретили своим купцам торговать с Францией, то всякое судно, приходящее во Францию, Голландию, ганзейские города или в Италию под американским флагом, отныне будет считаться английским, а его бумаги – подложными. На американские суда, таким образом, в полной мере распространялась политика континентальной блокады. Что касается Англии, то потеря американской торговли была для нее болезненным ударом, но отнюдь не катастрофой. Отсутствие американского хлопка и колониальных товаров было возмещено за счет других стран-экспортеров, в том числе, латиноамериканских.
В течение одного года действия эмбарго экспорт США уменьшился с 108,3. млн до 22,4 млн долл. (т. е. в 5 раз), а импорт – с 138,5 млн до 56,9 млн долл. (т. е. более чем в 2,5 раза)231. Эти цифры доказывают, что политика джефферсоновцев нанесла чувствительный удар по интересам торговой буржуазии.
Внутри страны политика эмбарго имела некоторые позитивные последствия. Она послужила для американских мануфактур определенной протекционистской мерой. Согласно отчету, представленному Галлатином, в 1810 г. почти 2/3 потребляемых в США одежды и сукна были произведены на американских мануфактурах. Успехи делала не только текстильная промышленность, но и строительное дело, горнодобывающие предприятия, металлургия.
Разрыв торговых отношений с Европой резко ускорил процесс создания фабричного производства за Аллеганами. Особенно примечателен был рост г. Питтсбург (Пенсильвания). К 1809 г. он превратился в ведущий промышленный центр Запада. Республиканец Г. Клей отмечал, что «…учитывая выгодность отечественных мануфактур, никому теперь не придет в голову настаивать на исключительно аграрном характере нашей экономики»232. Томас Джефферсон в годы своего президентства также изменил свое отношение к эгалитарному идеалу республики свободных фермеров. Говоря о действии политики эмбарго, он отмечал, что она приблизила «…тот день, когда состояние равновесия между занятиями сельским хозяйством, мануфактурами и торговлей упростит нашу внешнюю торговлю до обмена того избытка, с которым мы можем расстаться на те предметы комфорта, которые мы не можем произвести»233.
Не все были согласны с подобными взглядами. Впоследствии многие конгрессмены прямо заявляли, что эмбарго крайне невыгодно стране в целом: «Эмбарго было оригинальной аферой для населения этой страны и являлось частью политического противостояния. Принятие закона об отмене эмбарго положит конец безжалостным условиям этого закона. Необходимо было учитывать главные интересы страны, препятствуя всему британскому импорту. Многие поддержали введение эмбарго из-за правительственного курса, поддерживающего национальные мануфактуры и коммерцию в целом. Но повышение налогов на сахар, кофе и чай под предлогом поощрения мануфактур по производству шерсти и хлопка в восточных штатах – это смешно. Это есть пренебрежение интересами общества. О поддержке мануфактур необходимо говорить с некоторой осторожностью…» – таково было мнение представителя Нью-Гэмпшира234.
В то же время эмбарго тяжело отозвалось и на американской экономике в целом, и на положении населения, особенно приатлантических штатов. Оно лишило торговцев большей части прежнего дохода, а моряков, рыбаков, портовых работников – пропитания. Особенно это коснулось жителей Массачусетса. На его долю приходилась одна треть от всей торговли США. Сенатор Томас Пикеринг так оценивал сложившуюся ситуацию: «50–60 тысяч моряков и многие тысячи других людей, всецело зависевших от торговли, не станут покорно голодать ради глупости нашего правительства, осуществляющего эксперимент, бесполезность которого очевидна всем…»235.
У моряков, рыбаков, рабочих портов и верфей оно отнимало заработок, у купцов – прибыли. За первые 5 месяцев эмбарго только в Нью-Йорке обанкротились 145 компаний. Портовые города Новой Англии летом 1808 г. представляли собой печальное зрелище. Только в нью-йоркском порту стояло на приколе 500 кораблей. Население Сейлема настолько бедствовало, что властям пришлось организовать общественные кухни, где 1200 человек ежедневно получали бесплатный суп236.
Пакгаузы были забиты никому не нужными товарами. Цены на хлопок, зерно, табак, рыбу и лесоматериалы упали катастрофически низко. Банкротства торговых домов происходили чуть ли не ежедневно. Политика эмбарго повлекла за собой снижение цен на сельскохозяйственную продукцию, прежде пользовавшуюся спросом на внешних рынках. Многие фермеры южных и западных штатов влезали в долги, надеясь вернуть их с открытием внешней торговли, но чаще всего сбывали продукты за бесценок. Число фермеров, оказавшихся в долговых тюрьмах, увеличивалось с каждым месяцем. Резко упали цены на хлопок, объем продаж упал, что вызвало банкротство многих плантаторских хозяйств. Виргинский плантатор констатировал: «Только и слышно отовсюду о банкротствах, которые уже произошли или ожидаются»237.
Несмотря на дополнительные акты от 8 января, 25 февраля, 12 марта 1808 г., 9 января 1809 г., которые расширяли права президента в контроле над соблюдением эмбарго и усиливали карательные функции таможенников, многочисленные нарушения эмбарго стали повседневной практикой. Министр финансов А. Галлатин констатировал, что Новая Англия ведет себя изменнически и безнравственно. Бывший президент Джон Адамс писал сенатору-федералисту Дж. Квинси, что политика эмбарго имеет «…разрушительные последствия для морального облика людей, а также их привычки подчинятся закону»238.
Попытки ужесточить контроль за его соблюдением при помощи таможни и военно-морского флота не могли полностью пресечь контрабанду даже на атлантическом побережье. Еще хуже обстояло дело на канадской границе. Нарушения эмбарго здесь нередко выливались в активное неповиновение и даже вооруженное сопротивление. В мае– августе 1808 г. вспыхнули бунты на озерах Шамплейн, Эри, Онтарио. Для усмирения бунтовщиков Джефферсон пустил в ход регулярную армию. Президент заявил: «Я считаю, что подавить эти наглые действия и дать нарушителям почувствовать последствия вооруженного сопротивления закону будет настолько важным примером, что не следует щадить сил для достижения этой цели»239. В январе 1809 г. Конгресс принял закон, разрешающий президенту использовать регулярные войска в целях соблюдения политики эмбарго240. Таким образом впервые в американской истории президенту дозволялось использовать войска в мирное время против собственного народа. Джефферсон, ранее ратовавший за «минимальные полномочия» правительства, противник жесткой централизации власти, готов был теперь эту власть всячески укреплять. Ему пришлось отказаться от многих своих первоначальных идей, и армия была увеличена до 6 тыс. чел. Его распоряжения военному министру были лаконичными: «…необходимо быть наготове, немедленно направиться туда, где возникают мятежи, чтобы подавить их в зародыше»241.
Все это не способствовало популярности его администрации. Политика Джефферсона встретила острую критику со стороны федералистов. В 1808 г. в Бостоне появилась сатира «Эмбарго, или Современные очерки», подписанная «тринадцатилетний юноша». Автором поэмы был молодой поэт У. К. Брайант. В ней высмеивалось по существу ошибочное решение президента о прекращении всех внешнеторговых связей из-за военных действий в Европе. В злых куплетах, требовавших отставки Т. Джефферсона, повторялось известное обвинение о любовной связи президента с его рабыней-негритянкой Салли Хемингс. Юноша-поэт с пафосом писал: «О ты, позор для патриотов всей страны!/ Погибель Родины, исчадье сатаны!/ Будь проклят! Президента пост оставь, / Покайся в тайных мерзостях, крест на грехах поставь…»242
Федералистская газета «New York Evening Post» писала в передовице под названием «Эмбарго»: «Восемь лет правления президента Джефферсона вот-вот истечет. Он пришел к власти, воздействуя на разум народа. Он стремится сохранить его хорошее мнение, оставляя его в темноте… Он требует слепого доверия. Не в силах оправдать свои меры, он просит нацию подчиняться и уверовать в Акт, который погубил столь многое и разрушил все. Кода несчастные страдальцы, жертвы этого акта вопрошают: “Почему на них излился этот поток несчастий”, в ответ они слышат, что они – “тори, находящиеся под британским влиянием”. Да, требуется все доверие, вся вера, с помощью которой глупая фанатичная партия может оправдать это ужасное запустение. В обоснование этого ужасающего разгрома политической сферы требуется действительно пожертвовать всем: гордостью, свободой и самоуважением нации»243.
Возмущенные жители Новой Англии готовились к массовому неповиновению. Первая годовщина введения эмбарго была объявлена «Днем всеобщего траура». Звонили погребальные колокола. Рыбаки, матросы и портовые рабочие прошлись по городам, скандируя антиправительственные лозунги. Все это привело к росту популярности федералистов. В 1807 г. губернаторами всех штатов Новой Англии, кроме Коннектикута, были республиканцы. В 1808 г. во всех штатах Новой Англии без исключения на губернаторских постах в результате выборов оказались федералисты. Даже представители республиканской партии тех же штатов оказались в оппозиции курсу правительства.
К концу второго срока популярность президента Джефферсона резко упала, он практически растерял тот кредит доверия, с которым пришел к власти в 1801 г. Все же он выдержал характер и отменил ненавистное всем эмбарго лишь за три дня до инаугурации своего преемника. В Новой Англии отмену эмбарго встретили торжественными богослужениями, орудийными салютами и ликующими шествиями.
Политика эмбарго окончательно разрушила мечты Джефферсона о создании в США республики мелких свободных фермеров, выявила необоснованность его убеждения, что индустриальные центры Европы больше нуждаются в продукции американского сельского хозяйства, чем США – в европейских промышленных товарах. Действительность все более властно толкала молодую республику на гамильтоновский, а не джефферсоновский путь экономического развития.
В 1808 г. на президентский пост был избран ставленник республиканцев Джеймс Мэдисон. Он имел немалый авторитет в стране, т. к. сыграл важнейшую роль в принятии и ратификации Конституции 1787 г., приняв вместе с А. Гамильтоном и Джеем участие в издании серии блестящих памфлетов «Федералист», ставших классикой американской политической мысли. Американские историки именуют его «отцом конституции». В 1801–1809 гг. занимал пост государственного секретаря США, во всем поддерживая внешнеполитический курс Т. Джефферсона. Его победа на президентских выборах не являлась такой убедительной, как переизбрание на второй срок Джефферсона. Если за последнего в 1804 г. проголосовали 162 выборщика, то за Мэдисона только 122. Его оппонент, федералист Ч. К. Пинкни получил 47 голо-сов244. Несомненно, что на итогах выборов негативно сказалась политика эмбарго и только его отмена и разброд среди федералистов спасли республиканцев от возможного поражения. Вступая в должность, новый президент подчеркивал: «Современная обстановка в мире поистине не имеет исторических аналогий, а ситуация в нашей стране полна трудностей»245.
126
Алентьева Т. В. Феномен американской цивилизации в конце XVIII – первой половине XIX веков // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. – 2007. – № 2 (4). URL: http://scientific-notes.ru/index. php?page=6&new=4. (11. 10. 2014).
127
Гаджиев К. С. Американская нация: национальное самосознание и культура. М., 1990. С. 143–144; Polding J. K. Uncle Sam // The Annals of America: In 20 Vols. Chicago-L., 1976. Vol. VI. P. 166–169.
128
Статистическая история США XVII – начала XXI вв. М., 2012. С. 23.
129
Шпотов Б. М. Промышленный переворот в США: В 2 ч. Ч. 1. М., 1991. С. 91; Он же. Промышленный переворот в США: основные черты и особенности // Вопросы истории. 1990. № 2. С. 59; см. также: Куликова Е. Г. США: начало промышленного переворота, конгресс и война 1812 г. М., 1990.
130
North D. The Economic Growth of the United States, 1790–1860. N. Y., 1961. P. 36– 38.
131
См.: Хрестоматия по истории международных отношений XIX – начала XX вв. / сост. Н. Ю. Васильева. М., 2010. С. 20–21.
132
Трояновская М. О. Дискуссии по вопросам внешней политики в США (1775–1823). М., 2010. С. 183–184.
133
Ward H. H. Mainstreams of American Media History. Boston, 1997. P. 133–134.
134
Статистическая история США XVII – начала XXI вв. М., 2012. С. 13.
135
См.: Шелдон Г. Политическая философия Томаса Джефферсона. М., 1996. С. 95.
136
Статистическая история США XVII – начала XXI вв. М., 2012. С. 22, 112.
137
Turner F. J. The Significance of the Frontier in American History // Turner F. J. The Frontier in American History. N. Y., 1920. P. 1–38.
138
См.: Ефимов А. В. Свободные земли Америки и историческая концепция Ф. Д. Тернера // Из истории общественных движений и международных отношений. М., 1957. С. 549–560; Демиховский М. В. Еще к вопросу о теории «предохранительного клапана» // Вопросы истории. 1965. № 11; Болховитинов Н. Н. О роли «подвижной границы» в истории США (критический анализ концепции Ф. Тернера) // Вопросы истории. 1962. № 9. С. 57–94.
139
Documents of the United States Policy / ed. by F. P. Prucla. Lincoln, 1975. P. 10. См. подробнее: Филимонова М. А. Территориальная экспансия США на Северо-Западе и националисты. 1780-е годы // Новая и новейшая история. 2007. № 1. С. 74–89.
140
См.: Исаев С. А., Романова Н. Х. Политика федерального правительства в отношении индейцев // История внешней политики и дипломатии США. 1775–1877. М., 1994. С. 168.
141
Саломатин А. Ю. Модернизация государства и права в США, конец XVIII–XX вв. Пенза, 2003. С. 70–71; Филимонова М. А. Пресса становится властью: политические дискуссии на страницах периодической печати США в конце XVIII в. Курск, 2016.
142
Джефферсон Т. О демократии / сост. С. К. Падовер. СПб., 1992. С. 276–277.
143
См.: Мир Просвещения. Исторический словарь. С. 128, 264, 292, 334.
144
Алентьева Т. В. Американская журналистика в первой половине и середине XIX века. Курск, 2008. С. 125; Иванян Э. А. От Джорджа Вашингтона до Джорджа Буша. Белый дом и пресса. М., 1991. С. 11; Wood J. P. Magazines in the United States: Their Social and Economic Influence. N. Y., 1949. Р. 72–73.
145
См.: История США. Хрестоматия / сост. Э. А. Иванян. М., 2005. С. 67–75.
146
Для краткости джефферсоновских республиканцев именуют просто республиканцами, но их нельзя отождествлять с современной республиканской партией, основанной в 1854–1856 гг.
147
Власова М. А. Политические партии XIX века как специфический элемент американской цивилизации // Восприятие США по обе стороны Атлантики. М., 1997. С. 100–110.
148
См.: Филимонова М. А. Общественно-политическая сфера в США и группировка националистов (1780-е годы) // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История. Политология. Экономика. Информатика. 2008. № 10 (50). Вып. 8. С. 46–50; Она же. Полемика вокруг ратификации конституции 1787 г. в периодической печати США: Поражение антифедералистов // Мифы и реалии американской истории в периодике XVIII–XX вв. Т. 2. М., 2009. С. 7–46.
149
Трояновская М. О. США: У истоков двухпартийной системы. М., 1989. С. 33.
150
Литературная история США: в 3 т. Т. I. М., 1977. С. 227–228.
151
Wood G. S. Empire of Liberty: A History of the Early Republic, 1789–1815. N. Y., 2011. Р. 151.
152
Филимонова М. А. Ной Уэбстер: в поисках американского языка // История и историография зарубежного мира в лицах. Вып. 10. Самара, 2011. C. 70–81; Она же (в соавторстве с Т. В. Алентьевой). Реформаторы, нонконформисты, диссиденты в США: от Войны за независимость до Гражданской войны. Курск, 2012. С. 85–100.
153
Издается по настоящее время.
154
Алентьева Т. В. Из истории американской журналистики: Уильям Каллен Брайант // Время и человек в зеркале гуманитарных исследований. Т. 1. Курск, 2003. С. 76– 82; Она же. «Река времени» Уильяма Каллена Брайанта: журналистика, политика, поэзия // Американский ежегодник, 2007. М., 2009. С. 107–133.
155
Лучинский Ю. В. Формирование системы партийной прессы в США в конце восемнадцатого столетия // Теория и история журналистики. 2014. № 4. С. 73–80.
156
Hamilton A. The Papers of Alexander Hamilton: 25 Vols. / ed. by H. Syrett, J. Cooke. Vol. 11. N. Y., 1960. P. 426.
157
Филимонова М. А. «Aurora» – «якобинская» газета в федералистский период //Американистика. Актуальные подходы и современные исследования. Вып. 6. Курск, 2014. С. 19–39.
158
См. о нем: Филимонова М. А. Томас Купер и проблема сецессии // Americana. Вып. 12. Волгоград, 2011. С. 78–92
159
См.: Алентьева Т. В. Из истории американской прессы. «Daily National Intelligencer» и ее редакторы // Американистика: Актуальные подходы и современные исследования. Вып. 3. Курск, 2011. С. 86–102.
160
См.: Алентьева Т. В. Политико-правовые концепции А. Гамильтона // Проблемы истории государства и права. Вып. 1. М., 1996. С. 22–25.
161
См.: Дебаты о создании Национального банка США (Письма Т. Джефферсона и А. Гамильтона) // Imagines Mundi. Альманах исследований всеобщей истории XVII–XX вв. Екатеринбург, 2001. С. 37–53.
162
Цит. по: Цуциев М. Александр Гамильтон и американская финансовая система //Бюджет. 2007. № 3. URL: http://bujet.ru/article/12452. php. 10.11.2014.
163
Цит. по: Печатнов В. О. Гамильтон и Джефферсон. М., 1984. С. 176.
164
См.: Ушаков В. А. Америка при Вашингтоне. Политические и социально-экономические проблемы США в 1789–1797 гг. Л., 1983. С. 129–130.
165
См.: Филимонова М. А. Александр Гамильтон и создание конституции США. М., 2004; Она же. Формирование концепции национального интереса в системе взглядов А. Гамильтона // Американский ежегодник. 2000. М., 2002. С. 118–136; Она же. Американская революция и экономическая независимость США // Всеобщая история. Современные исследования. Вып. 14. Брянск, 2005. С. 46–55; Она же. Соединенные Штаты на пути к консолидации: Политическая борьба в Континентальном конгрессе (1781–1788). М., 2007.
166
Глаголева Е. В. Вашингтон. М., 2013. С. 212.
167
См.: Севостьянов Г. Н., Уткин А. И. Томас Джефферсон. М., 1976. С. 196; Согрин В. В. Джефферсон – человек, мыслитель, политик. М., 1989. С. 139.
168
См.: Согрин В. В. Демократия в США. От колониальной эры до XXI века. М., 2011. С. 80–83; Он же. Центральные проблемы истории США. М., 2013. С. 70–72.
169
См.: Захарова М. Н. Т. Джефферсон и проблема собственности // История социалистических учений, 1982. М., 1982. С. 160–178.
170
А. Гамильтон и ряд лидеров федералистов были аболиционистами, то есть выступали за полную отмену рабства. См. Филимонова М. А. Ранний аболиционизм в Америке во взглядах «отцов-основателей» // Новая и новейшая история. 2012. № 4. С. 95–107; Она же. Проблема рабства во взглядах «отцов-основателей» США // Americana. Вып. 13. Россия и Гражданская война в США. Волгоград, 2012. С. 199–214.
171
Jefferson Th. Writings of Th. Jefferson: in 20 vols. / ed. by A. Lipscomb, A. Bergh. Washington, 1903–1904. Vol. 15. P. 29.
172
Jefferson Th. Writings of Th. Jefferson: in 20 vols. / ed. by A. Lipscomb, A. Bergh. Washington, 1903–1904. Vol. 15. P. 29.
173
Ibid. P. 18–23.
174
Ibid. P. 18–23.
175
Макинерни Д. США. История страны. М., 2009. С. 141–142.
176
Adams J. T. New England in the Republic, 1776–1850. Gloucester, 1960. P. 209–210.
177
Jefferson Th. The Works of Thomas Jefferson: in 12 vols. / ed. by P. Ford. N. Y.–L., 1892–1897. Vol. III. P. 557.
178
Согрин В. В. Экономическое неравенство в истории США // Новая и новейшая история. 2009. № 1. С. 76.
179
Main J. T. The Social Structure of Revolutionary America. Princeton, 1965. P. 41.
180
Jefferson Th. The Works of Thomas Jefferson. Vol. XII. P. 136.
181
Согрин В. В. Политическая история США. XVII–XX вв. М., 2011. С. 87.
182
Третий вице-президент США, герой Войны за независимость США, путешественник, организатор так называемого «заговора Бэрра» в 1807 г.
183
История США: в 4 т. Т. 1. М., 1983. С. 258.
184
Wolcott O. Memoirs of the Administrations of Washington and John Adams, Edited from the Papers of Oliver Wolcott, Secretary of the Treasury. N. Y., 1846. P. 404.
185
Введение в руморологию: использование слухов на американских выборах / сост. С. Василенко. М., 2004. С. 4.
186
Болховитинов Н. Н. Счастье и трагедия Томаса Джефферсона и Салли Хемингс //Вопросы истории. 2003. № 9. С. 126–131.
187
См.: Лайтфут К. Права человека по-американски. М., 1983. С. 137; Плешков В. Н. Томас Джефферсон и проблема рабства в США // КЛИО. СПб. 2007. № 4. С. 7–11; Трояновская М. О. Томас Джефферсон и американское рабство. Современные историографические тенденции // Новая и новейшая история. 2013. № 5.
188
Nunis D. B. American Political Thought: Search for National Hood. From Hamilton to Lincoln. Menlo Park, 1975. P. 49.
189
Цит. по: Майроф Б. Лики демократии. М., 2000. С. 39.
190
Алентьева Т. В., Филимонова М. А. США в новое время: общество, государство и право. Ч. 2. 1800–1877 гг. Курск, 2009. С. 17; Ширяев Б. А. Политическая борьба в США в 1783–1801 гг. Л., 1981. С. 193–194.
191
National Intelligencer. 5 January. 1801.
192
Инаугурационные речи президентов США. М., 2001. С. 56, 58.
193
История США. Т. I. М., 1983. С. 262.
194
Koch A. Jefferson and Madison. The Great Collaboration. N. Y., 1964. P. 44.
195
Согрин В. В. Основатели США. Исторические портреты. М., 1983. С. 119.
196
Инаугурационные речи. С. 61.
197
Aurora. 21 July. 1801.
198
Цит. по: Трояновская М. О. США: у истоков двухпартийной системы. М., 1989. С. 39.
199
Севостьянов Г. Н., Уткин А. И. Томас Джефферсон М., 1976. С. 293.
200
Алентьева Т. В., Филимонова М. А. США в новое время. С. 20.
201
Jefferson T. The Works. Vol. IX. P. 394.
202
The Writings of T. Jefferson: in 20 vols. / ed. by A. A. Lipscomb. A. E. Bergh. Wash., 1902–1904. Vol. X. P. 31; Луцков Н. Д. Присоединение Луизианы к США // Американский экспансионизм. 1985. C. 19–20.
203
The Writings of T. Jefferson: in 20 vols. / ed. by A. A. Lipscomb. A. E. Bergh. Wash., 1902–1904. Vol. X. P. 31; Луцков Н. Д. Присоединение Луизианы к США // Американский экспансионизм. 1985. C. 19–20; Севостьянов Г. Н., Уткин А. И. Ук. соч. С. 302.
204
Иванян Э. А. История США. М., 2004. С. 133.
205
Siuruainen Е. The Native Indians in the United States of America. Oulu, 1979. P. 17.
206
Зинн Г. Американская империя с 1492 до наших дней. М., 2014. С. 141–145; Он же. Народная история США. М., 2006. С. 161–188.
207
Джефферсон Т. Автобиография. Заметки о штате Виргиния. Л., 1990. С. 177.
208
Инаугурационные речи. С. 63.
209
Статистическая история США. С. 163.
210
Инаугурационные речи. С. 62.
211
Инаугурационные речи. С. 64.
212
Международная политика новейшего времени в договорах, нотах и декларациях: в 3 ч. / под ред. Ю. В., Ключникова, А. В. Сабанина. М., 1925–1929. Ч. I. С. 79; Нарочницкий А. Л. Об историческом значении континентальной блокады // Новая и новейшая история. 1965. № 6. С. 51–63.
213
Horsman R. The Causes of the War of 1812. Philadelphia, 1962. P. 171.
214
Трояновская М. О. Дискуссии по вопросам внешней политики в США (1775–1823). М., 2010. С. 193; Perkins B. Prologue to War. England and the United States, 1805–1812. N. Y., 1961. P. 95.
215
Jennings W. The American Embargo. 1807—1809. Iowa City, 1921. P. 23.
216
Washington Federalist, 3 July 1807; National Intelligencer, 10 July 1807; New York Evening Post. 24 July 1807; Perkins B. Op. cit. Р. 144–145.
217
Цит. по: Севостьянов Г. Н., Уткин А. И. Ук. соч. С. 323.
218
См.: Рагунштейн А. Г., Рагунштейн О. В. Борьба американского флота с североафриканскими пиратами в период Триполитанской войны 1801–1805 гг. // Американистика. Вып. 4. С. 17–32.
219
См.: Трояновская M. O. Джефферсон, республиканцы и эмбарго 1807 г. // Проблемы новой и новейшей истории, 1982; Она же. Нарастание англо-американского конфликта и начало второй Войны за независимость США // США-Канада: экономика-политика-культура. 2013. № 3. С. 85–94.
220
Documents of American History / ed. by H. Commager. N. Y., 1946. P. 202–204; The American Economy: Essays and primary source documents / ed. by C. C. Northrup. N. Y., 2011. Р. 97.
221
Цит. по: Печатнов В. О. Гамильтон и Джефферсон. М., 1984. C. 316. См. также: Яровой В. В. Американская политика эмбарго в начале XIX века. Иркутск, 1980.
222
Jennings W. The American Embargo. 1807–1809. Iowa City, 1921. P. 81–82; Печатнов В. О., Маныкин А. С. История внешней политики США. М., 2012. С. 46–47.
223
Boston Gazette. 2 February 1809; Baltimore Federal Republican. March 1809; New York Evening Post. 1 July 1809; Aurora. 31 July 1809.
224
New York Evening Post. 29 Dec. 1807.
225
The Embargo and the Farmer's Story // Columbia Centinel. 25 May 1808.
226
Lycurgus. War or no war? N. Y, 1807. Р. 64.
227
Letter from Robert Troup to John Trumbull. February 7, 1809 // URL: http://collections. libraries. indiana. edu/warof1812/exhibits/show/warof1812/before. (12.10.2014).
228
Walters R. Albert Gallatin: Jeffersonian Financier and Diplomat. N. Y., 1957. Р. 200.
229
National Intelligencer. 25 Dec. 1807.
230
Richmond Enquirer. 31 Dec. 1807. См. также Трояновская М. О. Дискуссии. С. 196–197.
231
Куликова Е. Г. Борьба торговой и промышленной буржуазии в Конгрессе США в период англо-американской войны 1812–1815 гг. // Американский ежегодник, 1980. М., 1980. С. 238.
232
Annals of Congress. 11 Cong. 2nd Session. P. 627–630.
233
Jefferson Th. The Writings. Vol. XII. P. 235.
234
Annals of Congress. 13th Cong. 2nd Session. P. 1965–1967, 1970–1972.
235
Цит. по: Печатнов В. О. Ук. соч. С. 318.
236
Трояновская М. О. Дискуссии… С. 136.
237
Schachner N. Thomas Jefferson: in 2 vols. Vol. 2. N. Y., 1961. P. 863.
238
Quincy E. The Life of Josiah Quincy. Boston, 1869. P. 162.
239
Цит. по Печатнов В. О. Ук. соч. С. 319.
240
Lewis L. Jefferson and the Embargo. Philadelphia, 1979. P. 175.
241
Печатнов В. О. Ук. соч. С. 319.
242
Цит. по: Алентьева Т. В. «Река времени» Уильяма Каллена Брайанта… С. 109.
243
New York Evening Post. 2 February. 1808.
244
Статистическая история. С. 163.
245
Инаугурационные речи. С. 69.