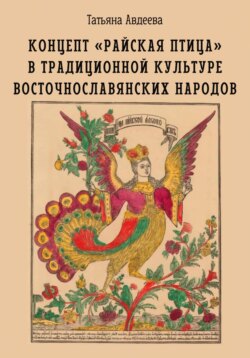Читать книгу Концепт «райская птица» в традиционной культуре восточнославянских народов - Татьяна Авдеева - Страница 3
Глава 1. Концепт «райская птица» в контексте динамики традиционных орнитоморфных представлений
§2. Смысловые трансформации орнитоморфных представлений: от архетипа птицы – к концепту «райская птица»
ОглавлениеКонцепты «детерминируются культурой, принадлежат сознанию и опредмечиваются в языке»62. Эти вербализованные смыслы отражают ментальность определенного этноса. Неудивительно, что современные культурологи и лингвисты называют концепт единицей ментальности63. Концепты, связанные прототипическими представлениями о мире, во многом определяют поведение человека и его психические реакции64. Язык конкретного народа отражает способ восприятия действительности этим народом, – нельзя не согласиться. Значения, выражаемые в языке, формируют своеобразную народную философию, в результате чего складывается определённая система ощущений и взглядов на мир.
Концепт (от лат. conceptus – зачинать) – способ организации и существования культуры, выявляющий взаимодействие базисных антропологических культурных факторов65. Концепт – ключ к пониманию культуры той эпохи, в период функционирования которой он возник. Исследование концепта позволяет особенно почувствовать культурный фон, стоящий за определением понятия в языке и соотнести языковое выражение с глубинной сущностью эпохи. Структурируя культуру, концепт направляет динамику когнитивно-культурных процессов, обеспечивая связи между веками66.
Концепт – это культурные гены генотипа культуры, единица ментальных ресурсов сознания и памяти, которая отражает результаты познания мира и человеческой деятельности в виде «квантов» знания, возникающих в результате структурирования как объективной, так и воображаемой информации о мире67. Логично именовать концепт микромоделью культуры, из чего следует, что культура – это макромодель концепта68.
В философских исследованиях концепт определялся как «устойчивый сгусток смысла»69. В культурологии трактовался как смысловая структура, обладающая динамическим потенциалом. Неустойчивость, подвижность и эластичность концепта обуславливается его способностью обогащаться и разрастаться за счет культурно-эмоционального индивидуального опыта носителей языка70, что подтверждает способность концепта к саморазвитию, так как появляются новые понятия, которые формируются в связи с общественными изменениями. В строение концепта хорошо вписывается идея слоистой, уровневой структуры, которая просматривается в серии его метафорических описаний: В.В. Колесов – в виде «зерна первосмысла, из которого прорастают иные смыслы»; Г.В. Токарев – в форме облака; Н.Н. Болдырев – в виде «снежного комка».
Структура концепта включает понятийную часть и психосоциокультурную основу, которая переживается, а не мыслится языковым носителем. Концепт «впитывает» не саму реальность, а представление о ней: сначала проясняется «нечто», возникающее как впечатление; потом появляется ощущение, возникает мысль, наконец, формируется понятие – организованное, осознанное, означаемое.
В исследованиях по культурологии получила развитие мысль о синонимичности терминов «смысл» и «концепт». Концепт – «предмет культурологии и описание типичной ситуации культуры», – согласно мнению Ю.С. Степанова. В культурно-социальной деятельности людей смысл отражает сущность представлений о содержании. Поиск смысла – главная линия в структуре концепта, «дорога», по которой люди приходят к его названию. Название концепта наиболее понятно и полно поясняет основное его содержание. Выразителем концепта в языке является слово со статусом знака71; концепт, обращенный к знаку, становится значением.
Смысл возникает из знаний о мире, семантики и прагматической информации; в этом концепт схож с архетипом. В текстах культуры концепт наполняется смыслами, которые являются человеку через знак, символ и образ. Любое понятие не может быть описано без ряда элементарных символов, только семантика обладает объяснительной силой и может толковать тёмные и сложные значения в простых и самоочевидных терминах. Схема формирования концепта есть «эволюционный семиотический процесс и ряд», в результате которого новый предмет или социальное явление в сознании общества и в быту занимает место прежнего, принимая и его функцию. Происходит процесс преемственности и эволюции одновременно72.
В разное время концепт становился предметом анализа философии, культурологии, лингвистики. Подходы в его изучении не являются взаимоисключающимися (культурологический, лингвистический, национально- специфичный), а поскольку концепт в сознании человека – образование ментальное, то его исследование – это поиск концептосферы социума и, как следствие, выход на культуру. Как единица культуры концепт закрепляет коллективный опыт, чтобы потом передать его индивиду.
Подходы в изучении культуры различаются лишь отношением к человеку. Образ мыслей и поведение индивида объясняются причинами культурными или социальными, а свободная воля и личностные особенности человека игнорируется. Лингвистический подход предполагает направленность к культуре от индивидуального сознания, а культурологический, наоборот, к индивидуальному сознанию от культуры. Разделение движений вовнутрь и вовне – это всего лишь исследовательский приём, в действительности направление движения есть процесс многомерный и целостный.
Существует две модели концепта: архетипическая и инвариантная. В первом случае – архетипическая модель – речь идет о моделировке архетипа- концепта, который рассматривается как нечто образно-чувственное, предельно обобщенное, но скрытое в глубине сознания, и в редуцированной форме воплощающееся в значении, представлении или понятии слова.
В инвариантной модели концепта в содержании моделировки выступает другой объект, раскрывающий определённую семантическую область, которая представляется как обобщенная языковая комбинация73. Концепт образует культурный слой, который посредничает между миром и человеком. Этот слой формируется в результате взаимодействия фольклора и национальной традиции, идеологии и религии, образов искусства и жизненного опыта74.
Райская птица – это новый объект – понятие, которое появилось вследствие трансформации мифопоэтического восприятия птицы после христианизации Руси в 988 году. Главный архетипический смысл птицы – существо, творящее мироздание, – изменился в результате «мировоззренческого поворота». Очевидно, что в исследовании заявленного концепта разумно использовать инвариантную модель.
В «формуле хронотопа» М.М. Бахтина «время-пространство» неразрывно связаны между собой. В историческом хронотопе время и пространство осмысленно переплетаются. Пространство усиливается, затягиваясь в сгущающееся движение времени – тогда и обнаруживаются знамения времени в пространстве75. В изучении культуры время и пространство приобретают особенный смысл, а любое историческое событие и каждый факт повседневной реальности неизбежно включаются в существующую систему координат76.
Пространство и время, по Канту, – априори формы чувственности. Разделённость вечного сакрального и бренного профанного времени, неоднозначность их сопряженности и «полисюжетность» способствуют разноообразию темпоральных переживаний человека, который является носителем, транслятором и творцом социокультурных образцов, ценностей и норм. Феномен времени, «вынашивающий перемены», воплощается в разных идеологемах и мифологемах77.
Для миропонимания восточнославянских народов представляет особенный интерес взаимодействие языка и религии. культуроносным мощным источником стало христианство, в частности, православие. По мысли Дж. Фрэзера, – «из храма вышла вся славянская культура», нашедшая в языке своё отражение, выразившееся в культурных концептах, словах, поговорках, пословицах и пр. Концепт «райская птица» – это, своего рода, примета времени, символ меняющегося пространства, появившийся тогда, когда в нём нуждались больше всего. Новое религиозное осознание восточнославянскими народами самих себя связано с другим ощущением окружающего мира, с переживаниями, потребовавшими объяснения и подтверждения, что иное мировоззрение имеет право на существование.
В процессе взаимодействия язычества с христианством происходит «креолизация» христианского книжного языка и «удвоение» его плана содержания. Как следствие, рождаются тексты с двойной (языческой и христианской) семантикой, а архаические формулы, использующиеся в христианстве для выражения новых идей, близки к понятиям минувших эпох78. Этимологически концепт явился инвариантом, позднейшей логификацией, сохранившей отдельные черты существовавшего ранее орнитоморфного материнского архетипа.
В восточнославянских легендах проявлением трансцендентности стала мифическая страна – ирий, куда осенью улетают птицы и уползают змеи. С мотивом зимовки в ирии змей и птиц, которые, по верованиям восточных славян, воплощали души мертвых, связано понимание ирия как «того света». В белорусском причитании по отцу поется: «в вырай все пташечки полетели, и вслед за ними ты». Сами перелетные птицы у белорусов и русских также назывались «вырей» («ирей»); известно русское (тверское) слово «вырей» – «жаворонок».
Первые упоминания об ирии находятся в «Поучении» Владимира Мономаха (1096 г.): «И… подивуемы, како небесныя птица из ирья идут… да наполнятся поля и леси». Русь крещена уже более столетия, а древние поверья живы в народе. Ключи от ирия, под которым, очевидно, подразумевается рай, по-прежнему сохраняются у той или иной птицы, но появляются новые смысловые значения, разделяющие ирий на светлый и темный миры (рай и ад)79.
На Украине понятие «ирий» разделяют на «птичий вирий», располагающийся «за багатирями i за пущами» на теплых водах и «гадючий вирий», что в «Руськiй землi»80; однако, по сути, описывается одно и то же место, речь идет лишь о разных путях, что ведут в рай. Выреем или ирием называют не только стаи птиц, улетающих на зимовку, либо возвращающихся весной, но и стаи змей, ползущих на зимнюю спячку, под предводительством своего царя. В Полесье (Волынская область, Украина)81 верили, что змеиный ирий находится под землей, вход в него – огромная яма в лесу, но змеи, направляющиеся в ирий по деревьям, поддерживали представление о древе, связующем тот и этот мир. Подобные свидетельства о противопоставлении ирия как места, куда птицы улетают, а змеи уползают на зиму («птичьего» и «гадючьего» ирия), связаны уже с христианским различием рая и ада. Такого рода воззрения представляют собой более позднее понимание непознаваемости мира.
По мысли В.В. Иванова, – в славянских сказках и песнях о Мировом древе чаще упоминаются змеи, чем птицы82. Змей – это «исторический персонаж», изменяющий свои формы и функции в процессе действия. В своей древнейшей форме змей (как и птица) представлял природные стихии воды, огня, грозы, дождя, гор и небесных сил83. В славянских сказках сохранились эти представления при указании мест обитания змеев – рек, озер, подземных царств. Даже после принятия христианства изображения драконов-змиев в быту новгородцев являлись не только украшением, но и своеобразным оберегом, защищающим от зла и способствующим благополучию84.
Птица сливается в одно представление со змеем в поздних поверьях русского народа о чуме, которая воображалась летающей уткой с головой и хвостом змеи. В русской сказке птица Усыня – змей с двенадцатью головами85. Известный образ антропоморфного чудовища Соловья-разбойника родственен Змею из белорусских сказаний с птичьим именем рогатый Сокол, который нередко награждался эпитетом Сокол-разбойник. Рогатый Сокол сродни также русскому Змею Горынычу.
Но в христианстве амбивалентный образ змея в большей степени обладает негативной наполненностью. Змей – отрицательный персонаж, символизирующий Дьявола в его хтонической ипостаси. Крылатый ящер стремится заменить птицу, обитающую на вершине Мирового древа, чтобы уничтожить безупречные космические связи. Летающий змей – это воплощение особенного могущества и угрозы со стороны хтонического нижнего мира86, потому что извечна борьба за право стать первым среди равных.
Эту мысль подтверждает сюжетный сказочный мотив о том, как в подземном царстве герой спасает от змея птенцов, сидящих в гнезде на высоком дереве, а громадная птица в награду за спасение своих детенышей выносит его на землю. В южнославянских поверьях сохранился рассказ о крылатом змее, живущем в озере и угрожающем птенцам из орлиного гнезда87. Переплетение образа птицы со змеем уже после Крещения Руси свидетельствует о процессе впитывания христианством ценностей язычества, в процессе развития которого складывается новая форма религиозного мировоззрения – двоеверие.
Понятие о райской птице формируется постепенно, но свойство потусторонности, изначально птице свойственное, сохраняется. Слово «ирий» не уходит из обыденной речи и не теряет своего основного значения – потусторонний мир, но смысл его теперь сводится только к понятию рая. Ирреальный мир четко разделяется на светлый (мир Бога) и темный (мир Дьявола).
Для всякой религии характерна вера в «сверхъестественное», а птица ближе других к Богу88. Архетип птицы редуцируется, оставляя за собой лишь часть значения. Теперь птица – символ Святого Духа – воспринимается как божья вестница и помощница, место её обитания соединяется с раем. Прилет птиц и встреча весны людьми начинают рассматриваться как напоминание о Благой вести Иисуса Христа и спасении человечества от смерти89. Так складывается представление о райской птице, но сохранившиеся языческие традиции связывают птицу с потусторонним миром в целом, поэтому она по-прежнему остается амбивалентной и омофоничной.
Концепт не столько мыслится, сколько переживается, так как включает в себя как логические признаки, так и компоненты эмоциональных, художественных, бытовых ситуаций и явлений. Смысловые значения складываются в результате углубленной переработки первичного опыта, в основании которого находится процесс апперцепции, когда новое смысловое содержание включается в систему уже существующую или «участвует в создании новых мыслей сильнейших представлений»90.
Исторически и в христианстве, и в язычестве птицы изначально – символы духа и божественные вестники, но, если в язычестве птица – культурный архетип, то в христианстве она – концепт – конструкт архетипа. Как конструкт концепт «реконструируется», а не воссоздаётся в той действительности, которая его формирует посредством языкового выражения и внеязыковых знаний91. В язычестве определение «райская» по отношению к птице не употреблялось, ведь птица считалась жительницей ирия – потустороннего мира без деления на рай и ад. В христианстве идея райского царства получает свое развитие, поэтому птицам предписывается проживать в раю. В народной среде в языковом выражении слово «ирий» постепенно становится синонимом слова «рай».
Анализ понятия «рай» подтверждает, что представления о птицах изменились после Крещения Руси. Общеславянское слово «рай» дохристианского происхождения означало «прекрасный сад»92. Другое значение слова «рай» – дерево со значением стремиться вверх, возвышаться. В украинских колядках свадебное дерево так и называется «рай»93.
Деревья вообще составляют символ рая. В славянских сказках нередко именно дерево символизирует райское царство с живущими там птицами. Например, в поздней русской сказке «Поющее дерево и птица-говорунья» героиня, по указке волшебной птицы, поднявшись на гору – в иное царство, находит там поющее дерево, с помощью которого освобождает своих братьев94. Иное царство в сказках нередко называется «тридесятым» и располагается на горе; герои сказок проникают в тот мир, поднявшись по высокой крутой горе95; очевидно, что значения горы и дерева, символизирующие путь наверх, сближаются. Несмотря на уже развившиеся христианские традиции, слово «рай» в сознании народа по-прежнему связывается с Мировым древом, при этом волшебная птица, проживающая в раю, выступает в роли помощницы человека, что подтверждает новое понимание её облика как птицы божьей, а значит, – райской.
Концепт возникает путем столкновения смыслового значения слова с народным и личным опытом человека, его потенции будут богаче и шире, только если богаче и шире будет культурно-духовный опыт человека96. Концепт формирует речь, но не в плане грамматики, а в пространстве души с её энергией, ритмами, уточнениями и интонацией97. В условиях христианской монотеизации функциональность концепта облегчила практику общения между людьми, сгладив противоречия в толковании понятий «птицы» и «райской птицы». Под «райскими птицами» стали подразумеваться существа, прямо связанные с небом.
Ю.С. Степанов назвал концепт «сгустком культурной среды» в сознании индивида; через концепт культура погружается в ментальность человека, а человек окунается в поле культуры, на которое может влиять98. В мире ментальности человека концепт не формируется как ряд четких понятий, – это «пучок» ассоциаций, представлений, знаний, тревог и волнений человека99.
Истоки первоначальных сведений о райских птицах находятся в легендах Востока. Сообщения попали на Русь вместе с историями о невиданных странах от купцов, везущих товары из дальних государств через Каспийское (Хвалынское) море по реке Волге (Славянской). В славянский порт Корсунь (Херсонес) на Черном море, широко известный во времена могущества древней Греции, свозились восточные и византийские товары, своеобразие которых отразилось на изделиях местных ремесленников. Археологические раскопки Херсонеса представляют найденные осколки глиняных поливных блюд с изображением сирина в короне100.
Уже в первые века после крещения Руси изображения птиц украшают божественные книги. На первом листе Юрьевского Евангелия (XII в., ГИМ) заставка киноварью выполнена «вроде храма без крестов с изображениями по краям павлинов, четырех птиц неизвестного названия и двух животных»101. Райские птицы украшают книги, архитектурные сооружения, ювелирные изделия, их изображения можно увидеть на старинных лубках.
Закреплению в сознании народа мифов о райских птицах способствовал тот факт, что с начала XVI в. в Россию из Новой Гвинеи начали попадать чучела райских птиц. Эти непривычные птицы (ближайшие родичи наших ворон и сорок) обладали ярким оперением и были привезены в Россию из Европы, куда завозились португальцами. Испанцы прозвали их небесными райскими птицами, так как они были ясно видимы только летающими в воздухе, поражая воображение разнообразием цветовой окраски. Торговцы отрубали им ноги, чтобы продавать как можно дороже, выдавая за птиц небесных, дабы убедить покупателей, что эти птицы вовеки не садятся на деревья.
В свое время райские птицы истреблялись сотнями тысяч особей. Их чучела и перья доставлялись в Европу на торговых судах и часто шли на отделку дамских шляп и другие украшения. В России в 1790 году райская экзотическая птица была описана в коммерческом словаре, переведенным с французского языка В.А. Левшиным, как товар, пригодный для торговых целей. Сегодня охота на райских птиц запрещена, за исключением нужд папуасов Новой Гвинеи, которые столетиями используют эти перья в ритуальных и обрядовых целях.
С одной стороны, категориальными свойствами концепта, направленного на понимание здесь и сейчас, являются память и воображение. С другой стороны, концепт – синтез трёх дарований души: как действие памяти – направлен в прошлое; как действие воображения – ориентирован в будущее; как действие суждения – стремится в настоящее102. Воображение имело серьёзное значение в толковании орнитоморфных существ и в присвоении им определённых смысловых значений, что не противоречит определению концепта как вербализованного понятия, отрефлексированного в категориях культуры. Разработка концепта связывается с трактовкой смысла не только существующего в голове человека, но и ориентированного на человека.
А. Вежбицкая при толковании слова «птица», наряду с клювами, перьями, гнёздами и яйцами, значимым признаком этого выражения называла способность птиц летать (передвигаться по воздуху) Это немаловажная часть стереотипа, но не всегда обязательные признаки птицы. Отдельные существа этого рода по воздуху не передвигаются; желая их представить, люди воображают себе существ, умеющих летать. Нет границы между выражениями, обозначающими птиц, и определениями, которые означают не-птиц; из чего следует, что не обязательно значимые признаки птицы имеются в наличии у всех представителей этого класса103.
Исследование концепта «райская птица» правомерно в рамках исторического исследования, связанного с обозначением места пребывания птиц – локуса. В середине прошлого века В.П. Клингер называл птиц животными воздуха104, тем самым определяя среду их пребывания. О.М. Иванова-Казас, рассуждая о структуре Мирового древа, писала, что птицы гнездятся в верхнем мире105. А.А. Потебня прямо указывал, что «на всемирном дереве солнце сидит птицею». Показательна русская загадка о восходе солнца: «Летит птичка Говорок / Через барский дворок, / Сама себе говорит: / Без огня село горит106. А.В. Гура выделяет птиц в особую группу на основании двух признаков: места обитания (локуса) – воздух, небо – и способа передвижения – летание. Как видно, с самого начала определяется их местонахождение – небо; кроме того, птицы – жители пространственной верхней сферы (в просторечии рая) – противостоят змеям, обитающим в нижнем мире107.
В культурно-социальной деятельности концепт раскрывается через смыслы, складывающиеся на основе социальных преобразований. Стремление человека к пониманию божественного концентрируется с появлением новой религии, что явилось одной из причин появления в реальности восточных славян устойчивого выражения «райские птицы». Складывается базовый компонент концепта, опирающийся на формирующиеся смыслы райских птиц – стратима, сирина и алконоста. Теперь не птица, а райская птица украшает собой «счастливое дерево», на что указывает содержание поздних свадебных песен восточных славян, где встречается мотив пространственной ориентации животных на Мировом древе: «Зверху яго райскія пташкі, / З сярэдзіны яго баравыя пчолы, / А з кораня яго чорныя саболі» (Минская губ., Пинский уезд)108.
Концепт появляется, когда выстраивается вся информация об объекте и его свойствах. Концепт «принадлежит человеку», выступая как продукт его поисков и познания в системе социальных взаимодействий109. В результате подсознательного переосмысления значения птицы, люди сами определили для себя объект, связывающий их с Богом, – так птица стала райской.
В XVII в. на Руси вошла в обиход новая книга – «Великое зерцало» – сборник нравоучительных рассказов, переведенный с польского языка в 1677 году, согласно распоряжению царя Алексея Михайловича Романова. В этой книге райская птица описывается как «средство» искушения монаха; она же – «способ» исправления его гордыни110. В это же время появляются рукописные списки духовных стихов, в которых описываются райские птицы; например, в известной «Голубиной книге» представляется птица стратим – «матерь всех птиц и птиц-людей». В этих сочинениях закрепляется связь птицы с раем.
В XVII в. (условно) завершился основной период формирования концепта «райская птица», хотя в концептах формируются идеи, возникающие в разные эпохи и времена, а хронология и историческое время значения не имеют, – согласно суждению Ю.С. Степанова, – ассоциации и суммы идей, гармонирующие друг с другом – вот что важно111.
Распределяются ли значения птиц в содержании концепта? Согласно мнению А.В. Гуры, – разделение птиц на чистых и нечистых совпадает с оппозицией «хищный» – «безвредный»112, что не означает отсутствие каких-либо птиц в райском царстве. К примеру, ворон, сова, сорока, утка, гагара и воробей относятся к птицам нечистым, а лебедь, голубь, жаворонок и ласточка называются чистыми птицами, но все они – небесные обитатели. Важно отметить, что дифференцирование не затрагивает многих птиц; например, оно не сказывается на символике сокола, хотя в сказках орел, ворон и сокол нередко считаются братьями, которые совершают объединенное сватовство, значит, и живут они вместе или близко друг к другу, хотя ворон – птица нечистая, а орёл по натуре амбивалентен.
А.В. Гура использует выражение «райские птицы», но относит к этой группе лишь птиц, принципиально не связанных с профанной действительностью – сиринов и алконостов. В различных книжных жанрах статус райских приписывается именно этим птицам. Возможно речь идет не только о том, где они живут, но как выглядят, ведь райским птицам всегда приписывалась необыкновенная внешность, которой обладали алконосты и сирины. По одной из версий, сирина отождествляют с совой – нечистой птицей, но сирин – птица райская изначально; значит, и сова может быть райской птицей, несмотря на её отрицательную характеристику.
62
Слышкин Г.Г. Дискурс и концепт (о лингвокультурном подходе к изучению дискурса) // Языковая личность: институциональный и персональный дискурс. – Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2000. – С. 39.
63
Воркачев С.Г. Сопоставительная этносемантика телеономных концептов «любовь» и «счастье» (русско-английские параллели): монография. – Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2003. – С. 10.
64
Савельева У.А. Архетипы в человеческом сознании // Гуманитарные исследования: журнал фундам. и прикл. исследований, 2007. – № 3. – С. 30.
65
Токарев Г.В. Введение в семиотику: учеб. пособие. – М.: ФЛИНТА, 2013. – С. 20.
66
Фесенко Т.А. Реальный мир и ментальная реальность: парадигмы взаимоотношений. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 1999. – С. 22; Рядчикова Е.Н., Кушу С.А. Концепты как отражение менталитета народа и его языковой картины мира // Наука-2004: ежегод. сб. науч. ст. молодых ученых и аспирантов АГУ. – Майкоп: Изд-во АГУ, 2004. – С. 229, 397.
67
Краткий словарь когнитивных терминов / под общ. ред. Е.С. Кубряковой. – М.: Филол. ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова, 1997. – С. 90; Ляпин С.Х. Концептология: к становлению подхода // Концепты: научн. тр. Центрконцепта. – Архангельск, 1977. – Вып. 1. – С. 18.
68
Токарев Г.В. Введение в семиотику: учеб. пособие. – М.: ФЛИНТА, 2013. – С. 25.
69
Deleuze J. Logique du sens: material description. – Paris: Éditions de Minuit, 1969. – Р. 157.
70
Сукаленко Н.И. Об одном важном концепте русской культуры // Культурные слои во фразеологизмах и дискурсивных практиках / отв. ред. В.Н. Телия. – М: Языки славян. культуры, 2004. – С. 202-207.
71
Нерознак В.П. От концепта к слову: к проблеме филологического концептуализма // Вопросы филологии и методики преподавания иностранных языков: сб. – Омск: Изд-во Омск. Гос. пед. ун-та, 1998. – С. 84-85.
72
Степанов Е.С. Константы: словарь рус. культуры. – М.: Академ. проект, 2004. – С. 26.
73
Воркачев С.Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление антропоцентрической парадигмы в языкознании // Филологические науки, 2001. – № 1. – C. 66-68.
74
Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. – М.: Языки рус. культуры, 1999. – С. 100.
75
Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики: исслед. разных лет. – М.: «Худож. литература», 1975. – С. 234-235.
76
Иконникова С.Н. Хронотоп культуры как основа диалога поколений // Очерки по философии и культуре: к 60-летию проф. Ю.Н. Солонина. – СПб.: СПб. филос. общ-во, 2001. – Вып №5. – С. 72.
77
Шибаева М.М. Темпоральные переживания в контексте культуры // Общественные науки и современность, 2004. – № . – С. 158, 161.
78
Константы мировой культуры: алфавиты и алфавитные тексты в периоды двоеверия / Е.С. Степанов, С.Г. Проскурин. – М.: Наука, 1993. – С. 26.
79
Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу: опыт сравн. изуч. слав. представл. и верован. в связи с мифол. сказан. др. родств. народов: в 3-х т. – М.: Совр. писатель, 1995. – Т.2. – С. 72.
80
Булашев Г.О. Український народ у свїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях: космогонічні українські народні погляди та вірування. – Київ: Довіра, 1992. – С. 381.
81
Эта область с автохтонным славянским населением на протяжении длительного времени не подвергалась влиянию культур других этносов. В Полесье в наибольшей степени сохранились воззрения, относящиеся к восточнославянской общности.
82
Иванов В.В. Проблемы этносемиотики // Этнографическое изучение знаковых средств культуры / АН СССР, Ин-т этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая; отв. ред. А.С. Мыльников. – Л.: Наука, 1989. – С. 51.
83
Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки / науч. ред. и текстолог. коммент. И.В. Пешкова. – М.: Лабиринт, 2001. – С. 69.
84
Василенко В.М. Образ дракона-змия в новгородских деревянных ковшах // Древняя Русь и славяне / АН СССР, Ин-т археологии; отв. ред. Т.В. Николаева. – М.: Наука, 1978. – С. 330; Приложение: ил. №28-1, 2.
85
Великорусские сказки в записях И.А. Худякова / АН СССР; отв. ред. В.Г. Базанов; изд. подг. Л.В. Домаковский, О.Б. Алексеева, Э.С. Литвин. – М.-Л.: Наука, 1964. – С. 60.
86
Фольклор и книжность: миф и ист. реалии / О.В. Белова, В.Я. Петрухин; РАН; Ин-т славяноведения; отв. ред. С.М. Толстая. – М.: Наука. 2008. – С. 67.
87
Гура А.В. Символика животных в славянской народной традиции. – М.: Индрик, 1997. – С. 298.
88
Токарев С.А. Религиозные верования восточнославянских народов XIX-XX века / отв. ред. С.И. Ковалев. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – С. 15.
89
Лобанова Т.А. Семантика русского изразцового искусства: автореф. дисс. … докт. культурологии. – М., 2012. – С. 18
90
Потебня А.А. Полное собрание трудов: мысль и язык / подг. текста Ю.С. Рассказова и О. А. Сычева; коммент. Ю.С. Рассказова. – М.: Изд-во «Лабиринт», 1999. – С. 194.
91
Сазонова Т.Ю. Различные подходы к трактовке концепта // Слово и текст в психолингвистическом аспекте: сб. науч. тр. – Тверь: Твер. Гос. ун-т, 2000. – С. 71.
92
Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М.: Политиздат, 1986. – С. 203.
93
Потебня А.А. О некоторых символах в славянской народной поэзии. – Харьков, 1914. – С. 172.
94
Афанасьев А.Н. Народные русские сказки: полн. изд. в одном томе. – М.: Альфа-Книга, 2010. – С. 671-673.
95
Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. – Л.: ЛГУ, 1986. – С. 282; Афанасьев А.Н. Народные русские сказки: полн. изд. в одном томе. – М.: Альфа-Книга, 2010. – С. 84-89; 308-309.
96
Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // Русская словесность: от теории словесности к структуре текста: антол. / под общ. ред. В.П. Нерознака. – М.: Academia, 1997. – С. 282.
97
Прохоров Ю.Е. В поисках концепта. – М.: Флинта-Наука, 2009. – С. 31.
98
Степанов Ю.С. Концепты: тонкая пленка цивилизации. – М.: Изд-во «Языки славянских культур», 2007. – С. 34.
99
Сукаленко Н.И. Об одном важном концепте русской культуры // Культурные слои во фразеологизмах и дискурсивных практиках / отв. ред. В.Н. Телия. – М.: Изд-во «Языки славянских культур», 2004. – С. 202-207.
100
Жегалова С.К. Русская народная живопись. – М.: Просвещение, 1984. – С. 79.
101
Описанiе Евангелiя, писаннаго на пергаминъ въ Новгородъ для Юрьевскаго монастыря в 1118-28 года / Архимандрит Амфилохiя // Известия Императорской Академии наук по Отделению русского языка и словесности. – СПб., 1861. – Т. Х. – Вып. I. – С. 73
102
Алефиренко Н.Ф. Лингвокультурология: ценностно-смысловое пространство языка: учеб. пособие. – М.: Флинта, Наука, 2010. – С. 177.
103
Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание / отв. ред. М.А. Кронгауз. – М.: Изд-во «Русские словари», 1996. – С. 205, 218.
104
Клингер В.П. Животное в античном и современном суеверии. – Киев: Тип. Имп. Ун-та св. Владимира АО печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1911. – С. 39.
105
Иванова-Казас О.М. Мифологическая зоология. – СПб.: Филол. ф-т СПбГУ, 2004. – С. 130.
106
Потебня А.А. О некоторых символах в славянской народной поэзии. – Харьков, 1914. – С. 178.
107
Гура А.В. Символика животных в славянской народной традиции. – М.: Индрик, 1997. – С. 299.
108
Гура А.В. Символика животных в славянской народной традиции. – М.: Индрик, 1997. – С. 66.
109
Залевская А.А. Концепт как достояние индивида // Психолингвистические исследования слова и текста: сб. науч. тр. – Тверь: Твер. Гос. Ун-т, 2002. – С. 5-18.
110
Райские птицы // Энциклопедический Словарь Ф.А.Брокгауза и И.А. Ефрона: в 86 томах с ил. и доп. мат. – URL: http://www.vehi.net/brokgauz/
111
Степанов Е.С. Константы: словарь рус. культуры. – М.: Академ. проект, 2004. – С. 50, 81.
112
Гура А.В. Символика животных в славянской народной традиции. – М.: Индрик, 1997. – С. 527.