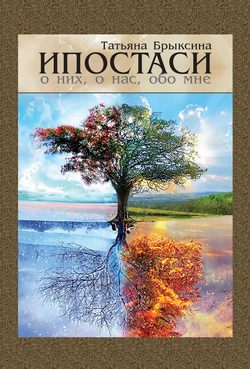Читать книгу Ипостаси: о них, о нас, обо мне - Татьяна Брыксина - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
За чертой отзвеневшего дня
Как многие Иваны на Руси?
Данилов Иван Петрович 14.06.1936 – 19.12.1995
ОглавлениеВ кумылженской районной библиотеке меня спросили: «Вы хорошо помните Ивана Данилова? Каким он был?» – «Красивым и очень талантливым», – ответила я. «А вот говорят, что жил трудно… Это правда?»
Такой простой вопрос, но как сложно на него ответить!
Иван Петрович Данилов не был очень открытым человеком. В том смысле, что, не наводя тень на плетень в бытовом устрое и творческих делах, душу не рассыпал пригоршнями по затоптанным городским тротуарам, не ронял, как пепел с сигареты за хмельными столами, но бережно нес к чистому листу бумаги и смелым красивым почерком выражал ее в правдивейших повестях и рассказах, в чабрецовых стихах, в емких, сверкающих умом и наблюдательностью миниатюрах. А боль?.. Ее было много. И дело тут не в житейских проблемах, не в расшатанных табуретках, условно говоря, но в том честном взгляде на русскую жизнь, которая даже ясные глаза заволакивает седой пеленой тоски. В этом смысле Иван Данилов жил трудно, ибо повинно жил и не скаредно – не талант свой лелеял, не здоровье берег пуще совести, а горькую земную тяготу принимал на жилистые плечи и светлую душу. Иной, размахивая шариковой ручкой, тщится решать мировые проблемы, а Данилов тонко вырисовывал видимую правду единственного уголка земли, который для каждого Ивана на Руси зовется вечным словом – родина. Это любовь. С ней не поспоришь. Ан не всякому
Ивану дается небесное слово, чтобы спеть такую песню о земле, чтобы она понималась как правда. Главную свою песню Данилов называл Скурихой.
Скуриха – станица Скуришенская Кумылженского района Волгоградской области приняла его в полынно-донниковый повивальник в разгар июня 1936 года и укутала в снежный саван декабря 1995 года. Между ними пятьдесят девять лет жизни одного из лучших Иванов этой земной веси, воспетой и оплаканной им с безоглядной сыновней щедростью.
Каким он был?.. Красивым – это точно! Сухое лицо с выразительными губами, очки в темной тяжелой оправе, ералаш седеющих волос, вздыбленных, как у страстного дирижера, манипулирующего перед оркестром музыкально-одаренной палочкой. Темно-синие брюки отутюжены, чистейший белый свитер сияет и очень идет ему. Иван часто курит, роняет столбики пепла на брюки, смотрит пристально и насмешливо, ерничает. Я его слегка побаиваюсь…
Именно таким и запомнился мне один из самых ярких волгоградских прозаиков. С книжных страниц, неизбежно высвечивающих автора, он видится другим, а в реальной жизни – остряк и ерник, к тому же нередко хмелен, что добавляет ему остроты и шарма.
Где-то в 1973 году, еще до личного знакомства, я прочитала его книжку «Привозная невеста» – малоформатную, в скромном картонном переплете белого цвета. Книга обнаружилась среди многих других, преимущественно серых и скучных, на полке в больничной столовке, когда я целых три месяца, изнывая душой, поднимала уровень гемоглобина в крови, надышавшись случайно парами изопрена на заводе синтетического каучука. Перегорел листопадный октябрь, отгузынил дождливо-ветреный ноябрь, сухой поземкой по асфальту прошмыгнул декабрь и подошел Новый год. «Привозная невеста», притаившаяся под казенной подушкой, была единственным обретением души в ту осень.
Попросту я украла ее, и расставаться с книгой не захотела уже никогда. Чем поразила меня повесть Данилова, объяснить не берусь. Как и всякая хорошая проза, она вошла в сердце и осталась в нем. Осознанное почтение к волгоградской литературной школе закрепилось во мне и этим именем. Вскоре мы познакомились.
Иван Петрович Данилов – Данилóв (с ударением на «ов», как любят величать друг друга местные казаки) служил в оные времена литературным консультантом областной писательской организации, исполняя службу либо чересчур буквально, либо крайне легкомысленно. Вытянув ноги на середину кабинетика, попыхивая сигаретой, он сидел в железно-деревянном кресле и всех входящих поэтов ошарашивал категоричным требованием: «Читай новые стихи, только фигни не читай!» Этой неоднократной экзаменовки не избежала и я. Обращаясь ко мне «Танька» или «Брыксина», Данилов сурово требовал хороших новых стихов и всегда оставался недоволен. «Фигня на букву «х»! – резюмировал он и повторял требование: – Читай другие стихи!» И вновь клеймил прочитанное емкой и откровенной полуцензурщиной, пока слезы не брызнут из глаз. «Иван Петрович! – вспыхивала я. – Вам никогда не угодишь!» – «Пиши хорошие стихи – и угодишь!» – резонно отвечал он.
Разбирать стихи с листа Иван не любил – хлопотно и долго! – а нам хотелось с листа, ибо оставалась еще надежда, что глазами он выловит из стихотворного столбца удачный образ, живой эпитет, звучную рифму. Ан нет – читай, и вся недолга! Честно говоря, профессионалу и двух строчек на слух достаточно, чтобы понять, стихи это или не стихи. Но молодые авторы редко доверяют скорому впечатлению о своих творениях и обязательно хотят, чтобы с листа и подробно.
Когда литературная пятиминутка к обоюдному неудовольствию завершалась, Данилов начинал слегка охмурять меня. Уставившись погрустневшими вдруг глазами в мои мучительно-сжатые коленки, говорил: «Носи юбки подлиннее, нам здесь за вредность не платят». Я возмущенно вскипала: «Иван Петрович!..», и он снова веселел.
Однажды Данилов, Колесников, Кононов, еще кто-то решили гульнуть средь бела дня – непонятно где – стали приглашать меня, и я вроде как не возражала. Уже на троллейбусной остановке против «Современника» спрашиваю Данилова: «А куда мы едем? И я вам зачем?» – «Будешь моей девушкой…» – шепнул Данилов, не предполагая, что такой поворот событий испугает меня и я сбегу прямо с подножки троллейбуса. При следующей встрече Иван поклялся, что пошутил, и нашим дружеским отношениям с тех пор уже ничего не угрожало.
Так вышло, что стихов Данилова я тогда не читала – в любимых ходили другие волгоградские поэты, но вкусу его доверяла, хотя позже убедилась, что охотнее он воспринимает стихи «под себя», то есть написанные в его манере. Для меня Иван оставался прежде всего замечательным прозаиком. Если же говорить о проникновении даниловского слова в душу, то и поныне никого из наших сравнить с ним не могу.
Каждую новую книжку Ивана Данилова мы прочитывали со страстью, шли к нему делиться впечатлениями, чему он был рад, но восторги воспринимал так же ернически, с некоторым показным недоверием, мол, что вы, молодь зеленая, понимаете. Со временем тон его поменялся, в беседах «без дураков» стали проскальзывать горькие нотки, легкая обида на то, что в лидеры поперли ловкачи и хваты от литературы. Но речь не о них. Да и особых причин обжаться у Ивана, если честно, не было. Издавался он часто, отклики в прессе получал только хвалебные, литературные награды, может, и не сыпались на него щедрым дождем, но и стороной не обходили. Главное – его читали люди и любили товарищи по писательскому цеху. Среди самых известных книг Ивана Данилова я бы назвала «Февраль – месяц короткий», «Лесные яблоки», «Холодная весна», «Скуришенские летописцы», «Городские петухи», «Красные ставни», «Незавещанный сад». Некоторые упрекали Ивана Петровича в однотипности названий, но он стоял на своем и был по-своему прав – ведь помнятся его книги, даже обложки помнятся.
Кстати, в тяжелейшие годы начала перестройки областная писательская организация, получив из бюджета некоторую сумму на книгоиздание, предложила издательству две главные рукописи: коллективный сборник волгоградских поэтов «Утренние колокола» и книгу Данилова «Незавещанный сад». Это ли не признание заслуг и таланта своего товарища?
Когда я прочитала в журнале «Наш современник» за 1970 год, попавшемся под руку в общежитской библиотеке, его рассказ «Платок с золотистой ниткой» и чуть ли не со слезами сказала Ивану, что это о моей бабушке, Данилов серьезно ответил: «Конечно, о твоей бабушке! И о моей, и обо всех деревенских бабушках на свете». До сих пор живет в памяти картинка: на прогретых солнцем порожках деревенской избы сидит ослепшая от старости и слез крестьянка, ощупывает заскорузлыми пальцами цветастый шелковый платок, подаренный внуком и говорит о платке, словно видит его воочию… Какая неоспоримая явь! Это вам не «Афанасий задрюкал по меже, вдали мельтепело…»! (А. Бухов «Рождение языка».) Аналогии ищите сами!
Но вернемся к поэзии, ведь именно со стихов начинался Иван Данилов, с первой публикации в газете «Колхозный ударник» Кумылженского района. Было это в 1952 году. Стихотворение называлось «Памятная дата», о чем свидетельствует В. Б. Смирнов в книге «По следам времени». Ивану едва исполнилось шестнадцать лет. Поэзия не отходила от него ни на шаг до самой смерти, оставаясь, быть может, не главной любовью писателя, но первой и незабываемой наверняка. Поищите его поэтический сборник «Поздние соловьи» за 1986 год, почитайте и убедитесь сами.
А я в доказательство своих слов приведу три строфы из стихотворения про кукушку.
Куковать – значит, жить одиноко…
И совсем не случайно, не зря
Окликает кукушка дорогу,
Лишь затеплится в небе заря.
Куковать – значит, жить в ожиданье —
Без гнезда, без приюта, без сна,
И взывать, вызывать на свиданье,
Зная, как тороплива весна…
…Ничего-то она не пророчит,
В куковании нет ворожбы —
Лишь тревога, что зов обхохочет
Перелетная птица судьбы.
Вполне естественно, что, собравшись жениться во второй раз, Иван выбрал не просто красавицу Лиру Запорожцеву (имя-то какое!), но подающую надежды поэтессу. Насколько я могу судить, Эльвира была горда своей судьбой, красотой и мужем. Поэтессой не стала, склонившись в сторону живописных миниатюр, но родила Ивану двоих замечательных ребятишек – Гришку и Настю. Данилов любил заявляться в Дом литераторов с обоими малышами, которых и чертенятами назвать не было преувеличением. Они дико носились по писательским коридорам, забирались ко всем на колени, висли на шее – разгоряченные, глазастые, с прилипшими ко лбу волосенками. Отец напрочь не реагировал на озорства детей, сидя в излюбленной позе (ноги вперед) все в том же железно-деревянном кресле.
Была у Ивана еще одна дочь, от первого брака – Галя. Галина тоже писала стихи, очень даже неплохие, и отец легонько подталкивал ее в спину по направлению к серьезному стихописанию. С Галей Даниловой мне довелось даже слегка посоперничать в поэтическом плане на областном творческом фестивале в Киляковке. А потом и Галина предпочла деторождение стихописанию. По последним данным у нее родилось либо четверо, либо пятеро детей. Достойный выбор! Что тут скажешь? Иван Петрович не сокрушался потерей для писательской организации потенциальной поэтической единицы, но гордился дочерью, хотя и понимал, на какую трудную жизнь та себя обрела. Он вообще был хорошим, любящим отцом и дедом. Когда возникли серьезные проблемы со здоровьем у Григория, всеми правдами-неправдами доставал сыну черную икру и другие питательные продукты. А времена были – страх вспомнить! – мыльная колбаса и пельмени по талонам, зубные щетки дарили друг другу на дни рождения, спичками делились. Появились «сникерсы», и у Насти одна просьба к отцу: «Принеси «сникерс»! Данилов изловчался, экономил, но модную конфетку для дочери покупал – хвастался, пряча «сникерс» в нагрудный карман: «Это для Насти!»
Собственно, трудная жизнь для многих из нас началась с середины 80-х. Дефициты, дефициты, дефициты… На пятидесятилетие Ивана Данилова водку по талонам доставали всей писательской организацией. Спасибо Володе Овчинцеву – направил с черного хода, позвонив кому следует. А праздник все равно получился веселым! В новой четырехкомнатной квартире Даниловых мебельного достатка не наблюдалось, диван с одного боку держался на обычной деревянной чурке, сидели на чем придется, но верили, что жизнь в самом разгаре, – и дети вырастут, и достаток появится, – лишь бы литературная удача не отвернулась!
Увы, увы… Жизнь становилась труднее с каждым днем, а литература с ее тотальным обесцениванием, упадком, заброшенностью стала напоминать затоптанный фантик от «сникерса». Как вырулили – не пойму!
В конце 70-х, когда вышла моя первая отдельная книжка «У огня», Иван Петрович, лежа в обкомовском стационаре, написал мне три удивительных письма с подробным анализом опубликованных стихотворений. Во первых строках он похвалил книжку в целом, мол, не ожидал, что легкомысленное создание Таня Брыксина помимо любовной лобуды способна так трагично писать о собственной судьбе и крестьянской своей родне. Далее шла сдержанная похвала изобразительных средств и мелодики поэтической речи. А потом, прямо по страницам книги, принялся детально анализировать все стихотворения. Я ликовала! Вот он – долгожданный разбор с листа! Заметил-таки Данилов то, на что я так надеялась прежде. Мнение Ивана Петровича многое значило для дальнейшей судьбы молодого автора. В те годы писательский союз свою территорию охранял, как государственную границу, – графоман за бутылку водки не проскочит, а большой начальник без таланта и за ящик коньяка не проползет! На страже стояли рыцари писательской чести, одним из которых без сомнения был Иван Данилов.
В конце 80-х – начале 90-х все изменилось, в литературу хлынули мутные потоки вторичности и откровенного словоблудства. Слава Богу, что в них не захлебнулись те, кем сегодня писательская организация жива и горда. Справедливости ради скажу, Волгоград и в смутные времена свои писательские ряды не замусорил, почти не замусорил. Наши потери в другом. Многие утратили ощущение твердой почвы под ногами, разуверились в идеалах, обнищали до крайности, не найдя себе приложения к новым экономическим условиям.
После пятидесяти пяти жизнь Ивана Данилова становилась все труднее и труднее. Он сопротивлялся как мог, зарабатывал копейку в газете «Казачий круг», ставил на крыло уже подросшего сына Гришу. Парень оказался молодец – выучился, обрел престижную специальность, помаленьку стал опорой семьи. Но обезножила Эльвира, с трудом могла добраться от дома до писательской организации, чтобы подхватить под белы руки расслабившегося Ивана. Приезжал Гриша, горько смотрел на отца, отвозил его домой. Семейная проблема стала хроническим горем, и уже никто не мог этому помешать.
Иван Петрович иногда заходил ко мне в кабинет и, как в молодости, требовал: «Читай новые стихи!» На сердитые отнекивания предлагал неожиданный компромисс: «Тогда наведи мне кофе!» Но и кофе почти не пил, расплескивая его на пиджак и брюки. Избави Бог сделать ему замечание! На такое мог отважиться разве что Валентин Леднев, да и то в мягкой форме – попенять, что называется. И все же большой беды ничто не предвещало. Она пришла как всегда неожиданно. Ивана Данилова, нашего кудесника соловьиной речи, нашли замерзшим около железнодорожного вокзала. Он просто не добрел до дома, до приметной высотки на углу Пархоменко и Хиросимы, до своего шестидесятилетия.
Тяжкую эту правду знают, конечно, все родные и близкие. Должны ее знать, полагаю, и многие другие, особенно те, от доброй или недоброй воли кого так зависит судьба и жизнь писателя.
Быть может, кто-то скажет: «Сгорел, как многие Иваны на Руси». И что это оправдывает? Какой итог подводит? Иван Данилов – не многие. Чтобы понять это, нужно прочесть его книги, полюбить эту землю, пожалеть стариков.
Посмертную книгу миниатюр Ивана Петровича Данилова мы назвали «Оклик». Чудесная книга, живая… Иван словно бы всем все простил и окликает нас не для упрека – просто для памяти. Вот маленький кусочек:
«Слушайте, люди, ликующих соловьев, но никогда не пытайтесь заглянуть им в глаза. Нет ничего печальнее глаз соловьиных. Большие, как будто притуманенные слезой, они не каждого обрадуют. Увидев их, не всякий поймет, что нет в птичьей песне притворства, что в ней лишь желание счастья и вера в него».
Напрасно, напрасно я не попыталась заглянуть в глаза Ивана в том декабре 95-го. Быть может, в них зародилась уже другая истина, но никто ее не распознал вовремя?