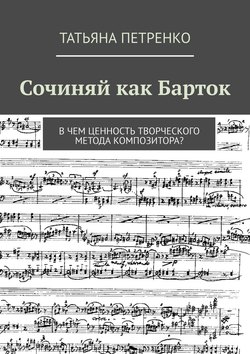Читать книгу Сочиняй как Барток. В чем ценность творческого метода композитора? - Татьяна Петренко - Страница 4
Раздел 1. Принципы творческой деятельности и композиторская техника Бартока
Глава 1. Творческие установки Белы Бартока
ОглавлениеХХ столетие ознаменовано событиями, оказавшими решающее воздействие на судьбы музыкального искусства: это величайшие социальные потрясения и трагические коллизии – войны и революции; это кризис мировоззренческой системы и стремление обрести новую гармонию в сложном окружающем мире; это научно-техническая революция и последовавший за нею информационный «взрыв». Указанные события обусловили значительное расширение культурного кругозора эпохи – географического и исторического, поскольку в европейскую реальность в различном виде включились художественные ценности собственного прошлого (фольклор и композиторское искусство) и практически ранее неизвестные неевропейские культуры. Также происходили напряженные поиски путей и способов обогащения европейской музыкальной традиции.
Именно на этой событийной основе сложился характерный для ХХ века и судеб искусства тип художника-новатора – интеллектуал и одновременно высоко эмоциональная творческая личность. Такой художник, отстаивая свое право на индивидуальное видение мира, вырабатывает собственные подходы, собственную систему средств выразительности (в качестве примера можно вспомнить эстетическую декларацию И. Стравинского, детально изложенные системы А. Шёнберга или П. Хиндемита и т.п.).
В этой связи примечательными являются личность и творчество гениального венгерского композитора, крупнейшего ученого-фольклориста и музыкально-общественного деятеля первой половины ХХ века Белы Бартока.
В отличие от большинства своих современников-новаторов, он был крайне сдержан в изложении своих творческих принципов. Однако изучение научно-фольклористических работ, эпистолярного наследия и сочинений великого венгра позволило, собрав воедино разрозненные, порой весьма сжатые высказывания, выявить основные творческие установки композитора.
В чем суть бартоковской позиции?
Барток уже на раннем этапе творческого пути осознал себя национальным художником. В подтверждение приведу отрывок из письма 20-летнего композитора [40, с.54] :
«Нужно, чтобы каждый человек по достижении зрелого возраста определил, ради какой идеальной цели он хочет бороться, чтобы согласовать с нею всю свою деятельность, подчинять ей каждый свой поступок. Я, со своей стороны, всю свою жизнь, во всех областях, всегда и всеми способами буду служить одной цели – благу венгерской нации и венгерского отечества».
Бесспорно, эта позиция молодого музыканта во многом объясняется настроениями венгерской общественности, с новой силой заговорившей на рубеже XIX – XX веков о национальной независимости. Об этом пишет в «Автобиографии» и сам Барток [41, с.95]:
«…одно обстоятельство оказало решающее воздействие на мое развитие. Около этого времени возникло общественно-политическое течение, которое охватило и область искусства. Речь шла о том, что в музыке также необходимо создать нечто специфически венгерское».
Очевидно, что свое предназначение Барток видел в обновлении венгерской музыки и, в каком-то смысле, находившегося к началу ХХ века в кризисном состоянии европейского музыкального искусства в целом. Заметим, что идея обновления «витала в воздухе» и во многом определила общую атмосферу в искусстве первой половины прошлого столетия. Возникновение ее, по мнению исследователей, связано с ситуацией кризиса, сложившейся в постромантическую эпоху в музыке.
Барток – художник ХХ столетия и сын своего народа. И потому идеи обновления и создания «специфически венгерского» составили тот эстетический «фундамент», на котором сложилась бартоковская «установка» на новации.
Идея обновления ведет к поискам источников обновления. По ознакомлении с различными музыковедческими материалами и работами самого Бартока можно говорить о том, что важнейшим источником обновления музыкального языка для композитора стал крестьянский фольклор – прежде всего, венгерский, а также других народов.
Можно предположить, что для Бартока основанием для обращения и использования фольклора разных народов, несомненно, была его активная этнографическая деятельность, а также факт взаимовлияния, проявление которого он наблюдал, исследуя устное творчество народов, населявших Австро-Венгрию, эту, так называемую «лоскутную империю». У Бартока читаем [40, с.181]:
«Самым отрадным было бы, если бы каждая страна, каждая область, каждая деревня сумели бы создавать нечто первозданное… Но ведь это невозможно, ибо люди – говорят они на одном языке или на разных – соприкасаются друг с другом, влияют друг на друга».
Рубежным в поисках композитора стал 1905 год, когда он стал записывать и изучать венгерскую крестьянскую музыку. Вплоть до 1918 года, то есть даже в годы Первой мировой войны, он был организатором многочисленных фольклорных экспедиций. Диапазон записанного в этот период фольклорного материала необычайно широк – венгерская, словацкая, румынская, болгарская, украинская, сербская, арабская крестьянская музыка. В 1921 году Барток напишет [41, с.95]:
«…я 15 лет собирал песни венгерских, словацких и румынских крестьян (даже арабских в области Бискра) и этими исследованиями занимался не только с музыкальной, но и со строго научной точки зрения. Это было моей второй жизненной целью».
Как известно, деятельность ученого-этнографа многогранна. И после 1918 года, когда организация фольклорных экспедиций по ряду причин стала невозможной, Барток не прекращает работу в этой области: расшифровка фонографических валиков, текстологические работы, чтение лекций и создание статей о народной музыке. А в период работы в Колумбийском университете (США, 1941—1943 гг.) композитор занимался изучением записей фольклора народов Югославии.
«Но что мне действительно необходимо, как другим свежий воздух, – пишет Барток в одном из писем в 1921 году, – это продолжать мои занятия народной музыкой в деревне, чего я безнадежно лишен». [40, с.142] Подобные замечания встречаются неоднократно в его письмах к друзьям [40, с.143]:
«И даже если бы меня сделали папой римским от музыки, это не помогло бы мне, если я и дальше буду оторван от крестьянской музыки».
Или [40, с.143]:
«Сколько прекрасного я мог бы совершить еще – я имею в виду собирание народных песен – но безумие мира помешало этому».
Венгерский композитор оставил немало работ о фольклоре разных народов. В них он предстает художником, для которого «главным и сознательно исповедуемым принципом мышления и процесса сочинения» [167, с.2] является народная песня.
Мысль Бартока направлена на постижение основ народного музыкального мышления и возможностей использования открытого в композиторском творчестве. Важным представляется то, что в наследии самого композитора это воздействие было тотальным и весьма глубоким.
Композитор также полагал, что обращение к древним пластам народной музыки – выход из создавшегося к началу ХХ века кризиса в искусстве не только для венгерской, но и для всей современной музыки [41, с.95]:
«… наша эпоха предъявляет одни и те же требования на самых отдаленных друг от друга территориях: обновление профессионального творчества элементами нетронутой за последние столетия народной музыки».
Подчеркнем, что Барток особо акцентировал значение устного творчества неевропейских народов для процессов обновления средств выразительности [40, с.98]:
«Наше счастье, что мы живем на границе с Азией: здесь еще в изобилии имеется народная музыка, способная влить свежую кровь в одряхлевшую европейскую музыку».
Другим важным источником обновления собственного творчества Барток считал традиции европейской композиторской школы. Из сокровищницы композиторского искусства он почерпнул все то, что могло быть органично соединено с особенностями народной музыки.
Так же, как и многие его современники (И. Стравинский, А. Шёнберг и другие), в поисках новых способов работы с тематическим материалом Барток обращается к творчеству композиторов-полифонистов эпохи строгого и свободного стилей. Поиски в полифоническом «направлении» предвидел в начале ХХ века русский композитор-мыслитель С.И.Танеев, который указывал, что «для современной музыки, гармония которой постепенно утрачивает тональную связь, должна быть особенно ценной связующая сила контрапунктических форм», и что «современная музыка есть преимущественно контрапунктическая». [164, c.10]
Подтверждая эту мысль С. Танеева, много позже И. Стравинский скажет: «Контрапункт – архитектурная основа всей музыки, регулирующая и компонующая всю композицию. Без контрапункта мелодия теряет свою логику и ритм». [163, c.410]
Барток был критически настроен по отношению к некоторым художественным явлениям предшествующего времени [42, c.258]:
«Преувеличения позднего романтизма становились невыносимыми и не было другого выхода, кроме полного разрыва с XIX веком».
Видимо, в этом высказывании можно найти объяснение сложности «отношений» Бартока с его великим соотечественником Ф. Листом, с которым он, по словам Б. Сабольчи, «то борется, то защищает его». [155, c.18]
В ранних произведениях («Кошут-симфония», Рапсодия ор.1, оркестровые сюиты №1, 2) Барток выступил как продолжатель традиций композитора-романтика, но далее пошел по другому пути. Познакомившись с венгерской крестьянской музыкой, Барток счел, что Лист ошибался, называя используемый в сочинениях стиль «вербункош» народной музыкой, ибо «в действительности это более или менее тривиальные профессиональные песни в народном духе, которые дают мало поучительного». [41, c.94]
В этом с Бартоком трудно согласиться, поскольку опыты Листа стали той «платформой», оттолкнувшись от которой можно было двигаться дальше, направить свои поиски в другое русло. Кстати, в этом позиция Бартока пересекается с позицией ряда представителей различных национальных школ, снисходительно-пренебрежительно относившихся к городскому фольклору.
Барток знал и выразил свое отношение к творчеству многих современников. Прежде всего обратимся к традициям «новой французской школы», значение которой для Бартока отмечают практически все исследователи. По словам самого композитора [44, c.96]:
«Двойной корень моего искусства вырастает из венгерской крестьянской музыки и из новой французской школы».
По признанию Бартока, во многом именно К. Дебюсси был «пионером музыкального Ренессанса ХХ века», именно он «вновь раскрыл всем музыкантам сущность аккорда». Бартоку импонировало ладовое своеобразие его произведений, а также обращение к восточным мотивам.
Нередко в высказываниях Б. Бартока находим ссылки на сочинения И. Стравинского «русского периода». Очевидно, во многом поиски двух художников шли параллельно. Обращаясь к творчеству современника-новатора, Барток не столько использовал «находки» Стравинского, сколько, думается, видел в них подтверждение своим собственным открытиям.
Великий венгерский композитор отдал дань самым различным влияниям. Но он говорил, что его идеал – хорошо уравновешенный сплав всех элементов. И потому один из первых исследователей творчества композитора Эдвин фон дерр Нюлль считал [33, c.16]:
«Барток относится к числу тех немногих творцов, которые как Бах, Моцарт, Вагнер (что не означает уравнивания ценностей) в состоянии воспринимать самые различные влияния, не теряя при этом своеобразия. Неповторимость этих композиторов заключается в гениальной способности к такому сплаву всех элементов, при котором каждый звук их произведений воспринимается исключительно по-новому».