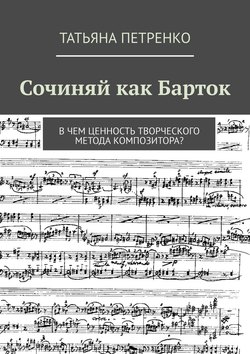Читать книгу Сочиняй как Барток. В чем ценность творческого метода композитора? - Татьяна Петренко - Страница 5
Раздел 1. Принципы творческой деятельности и композиторская техника Бартока
Глава 2. Народная музыка «глазами» Бартока
ОглавлениеВ своей статье «О влиянии крестьянской музыки на музыку нашего времени» Барток выделяет три формы подобного процесса. Так, суть первой формы заключается в том, что «композитор использует крестьянскую мелодию без изменений или слегка варьирует ее, снабжая аккомпанементом, иногда обрамляя вступлением и заключением». [46, с.249]
Вторая форма определяется тем, что «вместо использования подлинной крестьянской мелодии композитор создает ее имитацию». [46, с.249] Образец такого влияния фольклора на профессиональную музыку Барток видит в творчестве Игоря Стравинскоrо «русского» периода.
Третья форма: «В произведениях нет ни крестьянских мелодий, ни их имитаций, но они наполнены атмосферой крестьянской музыки». [46, с.249] По мнению Бартока, эта форма наиболее ярко представлена в сочинениях 3олтана Кодаи.
Очевидно, что нет принципиального различия между второй и третьей формами: обе они могут быть реализованы, если «композитор отлично изучил музыкальный язык крестьян и владеет им с совершенством, как поэт – родным языком». [46, с.249]
Таким образом, подход Бартока к фольклору можно определить как «конструктивный», «рациональный»: он направлен на глубочайшее постижение различных музыкально-языковых сторон народной музыки, которые в итоге проецируются на область тематизма, ритма, многоголосной организации, композиции в собственных сочинениях.
Что же увидел Барток в народной музыке? Что подсказало увиденное?
«Ознакомление с крестьянской музыкой имело для меня исключительно важное значение, ибо оно помогло освободиться из-под единовластия мажоро-минорной системы, – читаем у Бартока в „Автобиографии“. – Оказалось, что древние лады, давно уже не применяемые в нашей художественной практике, отнюдь не утратили своей жизнеспособности. Применение их сделало возможным новые гармонические комбинации». [41, с.95]
Данное наблюдение кажется нам весьма важным. Как известно, определяющим в раскрытии национальных особенностей музыкального языка композитора является ладовая система. Лад также выступает в роли своеобразного музыкально-стилистического «индикатора» стиля и даже эпохи.
Исследователи-фольклористы и, в частности, соратник Б. Бартока Золтан Кодаи отмечали определенную связь между некоторыми особенностями венгерского языка и ладовыми структурами венгерского фольклора. Так, ведущая роль гласных в языках финно-угорской группы приводит к распространению так называемого «силлабического пения». Это, в свою очередь, предопределяет потенциальное равноправие каждой ступени лада, что, в конечном итоге, подводит к политоникальности. Господство узкообъемных попевок-трихордов без крупноинтервального и обостренно-полутонового интонирования связывается с «нисходящей волной» в венгерском речевом интонировании.
Ладозвукорядные структуры венгерской крестьянской музыки Барток делит на две группы, относящиеся к разным историческим пластам. К первой относятся «определенный, завезенный нами из Азии старинный пятиступенный звукоряд пентатоника». [45, с.34] Кстати, согласно сведениям, содержащимся в труде З. Кодаи «Венгерская крестьянская музыка», древнейшим ладовым образованием венгерской музыки и «первоначальной инстинктивной формой выражения венгерской национальной самобытности» [108, с.34] является пентатоника.
Как отмечал Барток [43, с.13]:
«Определенная система пентатоники и так называемая „нисходящая“ мелодическая структура представляет собой основные характерные черты старейших венгерских народных мелодий».
Думается, что в каком-то смысле семантика пентатоники также связана с национально-лингвистическим особенностями, в частности, со спокойно-сдержанной манерой венгерского речевого интонирования.
Вторую группу составили лады «новой венгерской музыки»: «часто встречается натуральный мажор, так называемые дорийский и эолийский, реже миксолидийский, еще реже – фригийский». [45, с.12] Следует указать, что типичным для венгерской народной музыки, наряду с пентатоникой, считается лидийско-миксолидийский лад. Он получил столь широкое распространение в творчестве Бартока, что Ю. Холопов назвал его «бартоковским». [171, с.254]
Ко второй группе композитор относил также и многозвуковые полиладовые структуры. По его наблюдению: «Это свойство /полиладовость – Т.П./ заложено в самой народной музыке». [45, с.91] Необходимо подчеркнуть, что по мнению Ю. Холопова [171, с.254]:
«Полиладовость следует считать характерным признаком бартоковского ладового мышления».
Какие же особенности вышеназванных ладов «сделали возможным новые гармонические комбинации»?
Наиважнейшее наблюдение, послужившее одним из оснований для переориентации в области ладотональной и многоголосной организации, касалось роли квинты [39, с.253]:
«В большинстве этих ладов квинта не играет господствующей роли, как в мажоре или в миноре. Этот факт оказал большое влияние на наш метод гармонизации. Последовательность тоники и доминанты, столь знакомая нам по классической музыке, здесь во многом теряет свою самостоятельность».
Указанная Бартоком роль квинты, на наш взгляд, наряду с другими обстоятельствами, обусловила появление нетерцовой вертикали.
Квинте Барток как бы противопоставляет кварту, разносторонне представленную в народной венгерской мелодике – песенной и инструментальной. Подчеркнем, однако, что Барток выделяет кварту не просто как интервал, способный, в совокупности с другими факторами, определить характерный «венгерский» колорит тематизма. Он видит в кварте основу для построения вертикали. По словам композитора, «накопление кварт явилось толчком к образованию квартаккордов». [46, с.248] Появление такой вертикали следует рассматривать в русле типичных для ХХ века поисков единства горизонтали и вертикали. Единство мыслилось на основе интеграции [46, с.248]:
«Нет ничего естественнее того, чтобы равноценное в последовательности попытается воспринять как равноценное в одновременности».
Другой заслуживающий внимания интервал – септима (большая и малая). Она выступает как интервал, равный по значению терции и квинте, а также суммарный (ч.4+ч.4) или очерчивающий контуры той или иной попевки. Барток свободно использует септиму, возводит ее в ранг консонанса [39, с.253]:
«Малая септима звукоряда, особенно в пентатонических мелодиях, имеет консонантный характер».
Приметная черта в звуковысотной сфере связана с тритоном, который, по мнению исследователей, стал одним из важнейших выразительных и конструктивных элементов стиля композитора. Генетические корни бартоковской тритоновости следует искать в фольклоре, в частности, в румынском и словацком. При изучении его Барток столкнулся со свободным применением названного интервала, что подтолкнуло его к разнообразному использованию увеличенной кварты и уменьшенной квинты в собственной практике. Барток пишет:
«В румынских и словацких народных песнях мы наблюдаем очень интересную трактовку тритона: во-первых, миксолидийский с малой септимой, а во-вторых, – лидийский. Эти формулы породили свободное использование увеличенной кварты, уменьшенной квинты и соответствующих гармоний».
Для интонационного облика крестьянской музыки и, соответственно, бартоковской мелодики, показательны трихордовые структуры в кварте и квинте. Имеют место трихорды в тритоне.
Очевидно, постижение особенностей ладовой основы народной музыки и использование открытого в собственном творчестве – «верный» путь к «освобождению от единовластия мажоро-минора». Однако для Бартока данное освобождение вовсе не означало отказа от тональной организации, которую в известной степени символизировала мажоро-минорная система. Композитор отмечал [39, с.257]:
«Наша народная музыка исключительно тональна, хотя и не в духе чистой мажоро-минорной тональности. Атональная народная музыка, по-моему, немыслима.
Поскольку наше творчество опирается на такую тональную основу, наши произведения, естественно, также носят ярко выраженный тональный характер».
Это утверждение представляется весьма важным, поскольку в период кризиса тональности и расцвета атональности народная музыка укрепила Бартока в том, что музыка может быть тонально организована.
Наблюдения Бартока касаются и некоторых конструктивных принципов венгерского мелодического творчества. Один из них, если характеризовать его с привычных позиций – обращение. Заметим, однако, что в народном «исполнении» он выглядит несколько иначе, нежели у композитора: нет строгого соответствия между тем, что можно назвать обращаемым и обращенным; есть только подобие, которое обнаруживается в рисунке отдельных фраз. [см. 69]
Прием обращения используется Бартоком последовательно и разносторонне. Но было бы неправомерно связывать его происхождение только с фольклором: безусловно и влияние полифонической техники, которой великолепно владел композитор. Обращение – явление симметрии в ее зеркальном выражении. Как известно, в музыке ХХ века симметрия стала наиважнейшим способом музыкальной организации – построение ладов, тем-мелодий, вертикальных комплексов, многоголосия, формы. Может быть, ни один из новаторов прошлого столетия не прибегал к симметрии, как к порождающему и организующему началу столь охотно, как Барток. [см. об этом 27, 28, 29]
Именно поэтому следует указать на различные фольклорные предпосылки композиторского приема. Очевидно, что столь вдумчивый художник увидел в народной мелодике не только зеркальную симметрию, но и другое проявление симметрической техники – повторение узкообъемного, чаще в диапазоне кварты, мелодического построения на новой высоте. К примеру, в «Микрокосмосе» названные виды симметрии проявляются также в использовании «искусственных» ладов, в построении вертикальных комплексов (№№122, 131, 143 и др.), в создании многоголосной фактуры.
Описанные феномены симметрии в венгерской мелодике можно рассматривать как специфическое проявление вариационности. Иногда она служит отправной точкой для продвижения, связанного с обновлением. Указание на связь симметрии и продвижения с вариационностью призвано подчеркнуть, сколь широк диапазон, в котором «работает» принцип вариационности в венгерской крестьянской музыке. Не углубляясь далее в область вариационных отношений, заметим, что они очень активны на основных масштабных уровнях – от попевки до целого. Активность и разнообразие вариационных отношений в фольклоре, безусловно, послужили импульсом к развитию бартоковской вариационной техники.
Фольклор, продемонстрировав поразительную ритмическую свободу и богатство ритмических комбинаций, повлиял на метроритмическую сторону музыки композитора. «Я мог бы еще упомянуть прямо-таки беспримерное многообразие ритмов в этих народных песнях, – писал Б. Барток. – В мелодиях /parlando rubato/ обращает на себя внимание поразительная ритмическая свобода. Даже в мелодиях с четким танцевальным ритмом мы встречаем своеобразные ритмические комбинации. Само собой разумеется, эти обстоятельства раскрыли нам новые ритмические возможности». [41, с.95]
Композитор констатировал нерегулярность метроритмической организации как одну из специфических черт народной музыки [41, с.95]:
«Часть собранных мною мелодий изобилует разнообразными ритмическими фигурами и переменными размерами».
Так что с полным правом нерегулярность ритмики Бартока можно рассматривать как отражение одного из свойств народной музыки. В «Микрокосмосе» это выражено смешанными размерами (№№82, 113, 115, 120, 130, 148, 149, 150, 152, 153), переменными метрами (№№100, 126, 140, 141, 144), неквадратными структурами (№№3, 5, 15, 87, 104 и др.), синкопированием (№№9, 27, 32, 34, 84, 95, 102, 116, 122, 135, 138).
В заключение отметим, что композитор неоднократно указывал на «двойной корень», двуединую основу своего творчества. В этой связи возникает вопрос: что же было первотолчком – фольклор или профессиональная традиция? Ответ находим у Бартока [39, с.256]:
«Мы творили, следуя природе. Ведь крестьянская музыка – явление природы».
Таким образом, народная музыка, являясь совершенным художественным организмом, излучала импульсы, которые послужили фундаментом столь же совершенной системы, созданной уже композитором.