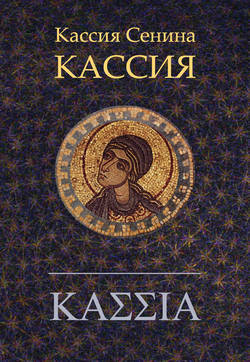Читать книгу Кассия - Татьяна Сенина (монахиня Кассия) - Страница 27
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть II. Борьба за образ
1. Портик Мавриана
ОглавлениеНе слушайте слов пророков, которые пророчествуют вам и прельщают вас: видение от сердца своего говорят они, а не от уст Господних.
(Книга пророка Иеремии)
Император только вернулся к себе после вечерни, как доложили о приходе патрикия Фомы. Лев посмотрел на вошедшего выжидательно. В последнее время ожидание царствовало и в сердце василевса, и при дворе. Все ждали, чем окончится поединок «между Священным дворцом и Великой церковью», как выразился Феодот Мелиссин. Как ни старался патриарх удержать неумолимый ход событий, все усилия были тщетны. На праздник Богоявления император, войдя по обычаю в алтарь Святой Софии, не воздал поклонения священным изображением на алтарном покрове, тем самым ясно показав, какое решение принял. Тогда патриарх написал нескольким влиятельным синклитикам и даже императрице, моля их убедить императора не потрясать Церковь. Но всё было напрасно: синклитики только посмеивались и пожимали плечами, а кое-кто даже поносил Никифора за «баранье упрямство». Августа тоже не решилась открыто противостать мужу, тем более что ничего не понимала в богословии. Она лишь спросила, точно ли он уверен, что задуманное им «ниспровержение ложного догмата» угодно Богу.
– Более, чем уверен! – ответил Лев. – А если я и ошибаюсь, то Бог укажет на это. Ты что, думаешь, я безбожник и не молюсь Ему о вразумлении? Да ведь и патриарх молился на коронации о том, чтоб Господь руководил мною… Притом, прежде чем делать то, что я делаю, я совещался с людьми достойными и мудрыми. Успокойся, ради Бога, и не докучай мне больше своими страхами! Вот ведь, женщины!..
Феодосия вздохнула и решила, что она сделала, что могла, а прочее уже не ее ума дело, – «и да будет воля Божия!» Между тем император взялся за тех епископов, которые не успели разъехаться из столицы после проведенного патриархом собора. Сам Лев, впрочем, увещаниями не занимался, памятуя рождественский провал, а поручил это дело протопсалту, протоасикриту и Феодоту Мелиссину. Они воздействовали на собеседников, пуская в ход те святоотеческие цитаты, которые в свое время, по совету Иоанна, не были показаны патриарху и поэтому не разбирались на собрании православных после встречи с императором; иерархов, известных склонностью к тщеславию и корыстолюбию, соблазняли обещаниями почестей и даров; более образованных и неуступчивых отправляли для увещания к Грамматику. И здесь поражение патриарха тоже оказалось весьма чувствительным: уже к концу января многие из епископов, подписавшихся под определением собора и обещавших стоять за веру до смерти, обратились против икон. Когда таких епископов набралось достаточно, Лев отправил нескольких к патриарху с призывом «внять голосу верных» и «применить божественное и богоугодное снисхождение». Это было 28 января, за две недели до начала Великого поста.
– Святейший, согласись с нами немного в том, чтобы снять низко висящие иконы, – сказали посланные. – Если же ты не хочешь, то знай, что мы не позволим тебе здесь пребывать. Церковь не нуждается в тех, кто противится ей!
– Это вы-то Церковь? – насмешливо ответил патриарх. – Нет, господа, вы не Церковь, вы лжецы и крестопопиратели. Так-то коротка у вас память, что вы забыли и свое обещание стоять за веру до смерти, и подписи и кресты, которые поставили под ним?! Пойдите вон и избавьте меня от слушания ваших безумных речей. А государю передайте вот что: просто так с кафедры я не уйду, потому что на мне нет вины для низложения. Если же меня насилием принудят к этому из-за моей православной веры, то пусть он прикажет своим слугам меня вывести, и тогда уйду.
Посланные удалились в гневе, едва удержавшись от проклятий в адрес Никифора. Но и святейшему это посещение обошлось дорого: вечером он слег в постель с сердечным приступом, к ночи у него вступило в печень и сделался жар, а наутро патриарх был уже в таком состоянии, что келейник с испугу вызвал не одного врача, а целых трех. Наследники Асклепия прописали больному сандаловый сироп, розовый мед и полный покой. Поэтому, когда на другой день в патриаршие палаты опять явились двое епископов вместе с Феодотом Мелиссином, келейник попросту захлопнул дверь у них перед носом со словами:
– Владыка болен, ему нужен покой!
– Лучше б он на вечный покой поскорей отправлялся, – пробормотал Феодот.
Оба епископа дипломатично промолчали, но в душе были согласны с патрикием: патриарх становился лишним звеном в цепи. После этого в течение нескольких дней ничего определенного о состоянии здоровья патриарха узнать было нельзя. Император воспользовался болезнью Никифора, чтобы временно передать церковное управление в руки патрикия Фомы, однако недуг патриарха обеспокоил василевса. «Теперь еще начнут говорить, что я уморил его!» – думал Лев, а в глубине сердца зашевелилось сомнение: «Точно ли я иду правым путем?..»
Колебания императора не укрылись от Мелиссина, и Феодот, никому ничего не говоря, даже Иоанну, отправился к знакомому монаху, который жил в портике Мавриана и слыл у народа постником и молитвенником. К этому черноризцу однажды ходила и супруга Феодота: ее стали сильно донимать головные боли, и одна подруга посоветовала ей попросить молитв у «маврианского подвижника».
– Чудеса! – сказала Мелиссину жена, вернувшись от монаха. – У меня сегодня опять так голова болела, а вот только этот отец помолился и перекрестил меня, так и снял всё! И до сих пор не болит, ты подумай! Видно, он и впрямь святой, правду люди говорят! Вот только мне странным показалось… В углу-то этом, где он живет, ни одной иконы у него нет!
– Вот как? – Феодот приподнял брови. – Ну, верно, он взошел на такую духовную высоту, что беседует с Богом, так сказать, лицом к лицу…
Через несколько дней Феодот навестил этого монаха и разговорился с ним, с того времени они и подружились, если только это можно было назвать дружбой. Патрикий посещал монаха примерно раз в месяц, просил молитв, благочестиво ужасался его «нищей и постной» жизни и рассказывал те или иные придворные сплетни, до коих подвижник, несмотря на носимые им вериги, оказался весьма охоч: он мог порассказать Мелиссину ничуть не меньше слухов – не придворных, но уличных, а они-то как раз, в свою очередь, интересовали Феодота. И вот, отправившись к нему на сей раз, патрикий после обычной болтовни сказал:
– Видно, отче, грядут у нас в Церкви перемены. Святейший заболел, того и гляди отдаст Богу душу.
– Помилуй, Господи! – монах набожно перекрестился.
– Господь да помилует всех нас! – не менее набожно сказал Феодот и продолжал: – Значит, будет новый патриарх… А новому патриарху понадобятся помощники, свежие силы… в том числе в клире, – патрикий значительно взглянул на собеседника.
– Господь да поможет восстановить чистоту веры! – монах вновь перекрестился.
– Аминь! – ответил Феодот. – Но вот какое дело, отче… Трижды августейший государь немного поколебался в своем уповании… Надо его утвердить, по мере наших сил!
– Всенепременно надо, – кивнул монах. – Тебе требуется моя помощь, господин?
– Да, – ответил Мелиссин. – Слушай, отче, и запоминай. Завтра, как стемнеет, я приведу сюда государя. Он будет в простом одеянии, без всяких отличий. Он начнет с тобой советоваться о вере и других важных вещах. Ты же – слушай внимательно! – обещай ему, что он будет царствовать семьдесят два года, – Феодот подмигнул монаху, – назови тринадцатым апостолом и всячески уверяй, что он увидит на престоле детей от детей своих, если только примет веру, которой держался августейший Лев Исавриец. А если он не захочет последовать этому совету, скажи с клятвой, что грозит ему тогда от Бога погибель, стремнины и пропасти. В общем… э… подойди к делу с душой, отче!
О походе в портик Мавриана с императором было условлено заранее.
– Монах этот, августейший, – говорил Мелиссин, – жизни высокой и святой, живет почти на улице, спит на каменном полу, вериги носит, молится день и ночь, удостоился дара исцелений и от Бога имеет разум и рассуждение. Если у тебя есть какие-то сомнения относительно наших церковных дел, думаю, будет полезно у него вопросить, он в народе и за прозорливца почитается!
Когда император вместе с Феодотом уже в сумерках вошли в портик и пробрались в угол, где жил «прозорливец», первое, что услышал император, были слова:
– Негоже тебе, государь, менять пурпурное одеяние на простое и морочить умы людей! После встречи с монахом Лев оставил всякие сомнения. И теперь, когда в ответ на его выжидательный взгляд патрикий Фома сообщил, что, по словам врачей, патриарх при смерти, император сказал только:
– Что ж, тем лучше! Это избавит нас от необходимости выгонять его силой.
…В сыропустный вторник около трех часов пополудни Грамматик сидел в столовой у Мелиссина и обсуждал с хозяином дома положение церковных дел.
– Что ты думаешь насчет определений будущего собора? Повторить сказанное в Иерии? – спросил Феодот, собственноручно разрезая большого зажаренного судака; слуги были высланы – столь важный разговор не должен был иметь лишних свидетелей.
– Не только, – лениво ответил Иоанн, отпивая глоток ароматного золотистого вина. – Иерийским богословам не хватало последовательности или, скорее, свободы для маневров. Следует определиться по поводу того, когда именно тело Христа стало неописуемым. Ответ, данный на этот вопрос в Иерии, на мой взгляд, не совсем точен, – Грамматик умолк и отправил в рот ломтик сыра. – А впрочем, разве для тебя это так уж важно, господин Феодот? Правда, – он задумчиво посмотрел на патрикия, – при определенном положении это может стать для тебя важным, хотя… Даже и при таком положении главное – иметь хороших советников, самому во все тонкости вникать не обязательно.
– Ты что-то говоришь загадками, Иоанн! – сказал Мелиссин, ставя перед гостем тарелку с двумя аппетитными кусками рыбы.
В голосе патрикия послышалось легкое раздражение. Феодот слыл в Синклите и среди знакомых человеком не только набожным и начитанным, но и неплохо разбиравшимся в богословии. Последнее удавалось ему за счет того, что он вовремя и к месту умел блеснуть изречением из божественного Дионисия, великого Василия или его не менее великого друга из Назианза. Мало кто мог подметить, что набор этих изречений у Мелиссина был довольно ограничен, и что на самом деле патрикий вовсе не так много значения придавал «священнейшим догматам богопреданной веры», как это могло показаться неискушенному наблюдателю. Вопрос Грамматика, в котором слышалась легкая насмешка, уязвил Феодота: Иоанн слишком прямо дал понять, что видит, насколько Мелиссину на самом деле интересно богословие. Но дальнейшее рассуждение Иоанна об «определенном положении» и вовсе обеспокоило патрикия. «Как он мог догадаться? Невероятно!.. Нет, скорее, это он так, рассуждает… так сказать, вообще… Он ведь, наверное, сам туда метит, и если б догадался, не принял бы так философски!» – успокаивал себя Феодот, подливая вина в кубки. Но рука его чуть дрогнула, и вино пролилось на скатерть.
– Тьфу! – сердито пробормотал Мелиссин; Грамматик наблюдал за ним.
– Я вот что думаю, господин Феодот, – сказал Иоанн, вынимая из судака длинные реберные кости и аккуратно складывая их на край тарелки, – главное – всё делать без лишней спешки. Спешить вредно даже в таком деле, как разлив чувственного вина, а тем более – когда речь идет о вине духовном.
– К чему ты это? – нетерпеливо спросил Феодот.
– Да так, рассуждаю… У меня сегодня, – улыбнулся Грамматик, – созерцательное настроение.
– Ну, а мне не до созерцаний! – ответил Мелиссин. – Государь считает, что мы уже обратили довольно епископов, чтобы провести собор. И на него пригласят патриарха для прений об иконах… Хоть врачи и предсказали скорую смерть, но что-то святейший, видишь, умирать не торопится! Говорят, вчера он даже вставал с постели… Ты говоришь: не спешить? Нет, надо именно спешить! Ведь Никифор сочиняет какое-то церковное воззвание!
– И что же?
– Говорят, он там грозится, что всех, «присоединившихся к еретической части», постигнут прещения. В общем, я боюсь, как бы наши преосвященные отцы не пошли на попятный.
– Не бойся, господин Феодот. Наши отцы, раз отступив от того, что обещали Никифору, теперь пойдут до конца, не останавливаясь, и сделают всё, что надо, если не более. Им ведь нужно доказать самим себе, что они на верном пути. Вот увидишь, они еще потребуют у государя более крутых мер к противникам, чем те, о которых думает он сам!
Мелиссин искоса взглянул на Иоанна. Этот человек начинал иногда пугать его. Временами патрикий задавался вопросом: а во что, собственно, верит сам Грамматик? И вера ли вообще движет им? Если относительно себя самого Феодот мог честно признаться, что, несмотря на симпатии, которые он с юности питал к иконоборчеству и лично к императору Константину Исаврийцу, догматы сами по себе были для него делом десятым, то Иоанна он поначалу считал «человеком убеждений». Однако теперь он начинал ощущать какую-то иную движущую силу в поступках этого монаха. Ради чего Грамматик затеял это «крушение веры», что тут привлекло его? Близость ко двору, почет, богатство? Желание стать епископом или даже патриархом?.. Может, и так, но тут угадывалось также нечто другое – и это было не желание «торжества истины» само по себе. «Ум, внушающий страх, и власть над умами», – эти слова, некогда сказанные Грамматиком, Мелиссин счел просто шуткой, но сейчас начал понимать, что они действительно выражали устремления этого ученого аскета, чей холодный внимательный взгляд иной раз заставлял внутренне съеживаться, вонзаясь в собеседника словно острый клинок. Казалось, Иоанн насквозь видит всё, что происходит внутри других людей, и понимает то, чего они сами еще не понимают, а может, и никогда не поймут. От этой мысли становилось неприятно; еще неприятней было думать, что Грамматик, возможно, и самим Феодотом просто пользовался для осуществления каких-то своих планов, вовсе не считая его сотрудником в собственном смысле слова…
«Ладно, господин философ, – подумал Мелиссин, пережевывая кусок рыбы, – у тебя свои цели, у меня свои… Время покажет, кто быстрей добьется желаемого!»