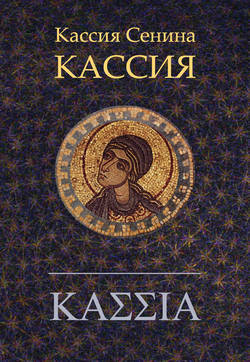Читать книгу Кассия - Татьяна Сенина (монахиня Кассия) - Страница 34
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть II. Борьба за образ
8. Новая мера
ОглавлениеДвоемыслие означает способность одновременно держаться двух противоположных убеждений. Партийный интеллигент… сознаёт, что мошенничает с действительностью; однако при помощи двоемыслия он уверяет себя, что действительность осталось неприкосновенна.
(Дж. Оруэлл, «1984»)
Не все студийские узники вынесли тяготы заключения. Через месяц жизни в полуподвальном тесном и душном помещении Орест и Афрат сломались и, дав подписку иконоборцам, были отпущены «с миром». Но они нигде не смогли найти приюта: идти к рассеянным и гонимым братиям было стыдно да и не хотелось, а в столичных монастырях, чьи игумены вступили в общение с Феодотом, на просьбы принять их отвечали отказом, как только узнавали, что они из студитов. Иконоборцы были так раздражены против Феодоровых монахов, что сближаться и с падшими из их числа считалось опасным. Некоторые даже думали, будто эти студиты отделились от своих притворно, чтобы удобнее вести проповедь среди иконоборцев. Тогда Афрат уехал под Адрианополь к родственникам, а Орест отправился к Феодоту и попросил позволения вернуться в Студий и жить там, обещая попробовать и других заключенных там братий уговорить дать подписку. У патриарха он встретился с еще одним студитом, Нектарием, который был схвачен в окрестностях Константинополя и, испугавшись бичевания, отрекся от иконопочитания, а теперь даже вызвался собирать подписку у других монахов. Когда Нектарий и Орест явились в Студийский монастырь и попытались убедить братий последовать их примеру, заключенные студиты вознегодовали и даже слушать их не захотели – все, кроме Леонтия. Просидев несколько недель в заточении на голодном пайке, он погрузился в жестокое уныние. Когда два отпавших брата, одетые в новые хитоны и мантии, вымытые и ухоженные, пришли к нему и рассказали, как любезно они были приняты новым патриархом, Леонтий сказал:
– Я тоже хочу быть с вами! Зря я проторчал здесь столько времени… Евфимий тут один раз пробрался и передал еды всякой и записку, что отец игумен за нас молится и «призывает к подвигу терпения за Христа»… Но игумену хорошо призывать: он там живет припеваючи, все к нему ходят, все о нем заботятся! И книги ему, и письма, и братия там с ним… Да и Евфимию хорошо, он хоть и скитается, но на свободе и не голодает, а тут скоро подохнешь, как собака! Да и вообще… можно подумать, что-то изменится, если я дам подписку не учить об иконах! Пока я тут сижу, я ведь тоже не могу никого ничему учить, так не всё ли равно…
– Вот именно, брат! – воскликнул Орест. – Нас, как видишь, до сих пор молния не испепелила… Да и какие из нас, простых монахов, проповедники? Кто нас будет слушать? Смешно!
– Да, если уж епископы вступают в общение со святейшим Феодотом, то нам Сам Бог велел! – кивнул Нектарий. – И никакого тут отречения от Христа нет, пустое это всё…
На другой день Леонтий был отведен к Феодоту и изъявил желание примкнуть к иконоборцам. Патриарх на радостях предложил монаху, который был самым старшим из троих, игуменство в Студийской обители, поручив ему надзор за заключенными там братиями и намекнув, что если Леонтию удастся добиться от них подписки, то он может вскоре получить и епископство. Новый игумен принялся за дело рьяно: приказал забить окна в кельях, где содержались братья и урезать им меру выдаваемой пищи, отобрать все книги и письменные принадлежности и усилить надзор. Студит Евфимий, снова по поручению Феодора прибывший проведать заключенных, был схвачен ночью при попытке отодрать одну из досок, которыми забили окно в келью, где был заключен брат Аффоний. Евфимия обыскали, изъяли письмо Студийского игумена и еду, принесенную для братий, до утра держали на улице, привязав к дереву, и сразу после восхода солнца отвели в Преторий, где он был допрошен самим эпархом, ничего не сказал и был посажен в камеру.
Между тем император с патриархом, обсудив положение дел, решили, что дальнейшие попытки переубедить иконопочитателей бессмысленны.
– Я полагаю, святейший, – сказал Лев, – что наш философствующий игумен обратил уже всех, кого можно, а тех, кого он не убедил, лучше всего услать в дальние концы, чтобы они не могли общаться друг с другом даже и письменно… по крайней мере, чтобы это было для них затруднительно. Пока они все собраны в столице, они ухитряются поддерживать друг друга; пора с этим покончить! Как ты смотришь на это? Или ты думаешь, что Иоанн обратит кого-нибудь еще?
– Совершенно с тобой согласен, государь! – ответил Феодот. – Думаю, ждать больше нечего. Насколько я знаю, беседа Иоанна с палестинцами зашла в тупик, потому что они смотрят на дело исходя из одной системы, а Иоанн – исходя из другой. Поэтому, хотя он рассуждает и логично, они не убеждаются. Остальные же и вовсе не расположены к разговорам с ним. А ему что – ему ведь интересны философские беседы сами по себе, не важно, удастся ему переубедить или нет… Сократ, говорят, не пропускал ни одного мало-мальски интересного собеседника без того, чтобы не померяться с ним силой в рассуждениях. Вот и у нашего отца игумена, боюсь, та же самая «болезнь».
– А ты, кажется, верно подметил! – рассмеялся василевс. – Я тоже это заподозрил, потому и решил посоветоваться с тобой о том, что делать дальше с теми еретиками, что упрямятся.
– Сослать под крепкий надзор, августейший, да и дело с концом!
И вот, почти все содержавшиеся в городских темницах исповедники в середине января были высланы в разные крепости в большем или меньшем отдалении от столицы. К новым местам жительства узников переправляли очень поспешно, немилосердно гнали, заставляя идти пешком, несмотря на холод, снег с дождем и слякоть на дорогах.
Когда начальник Претория объявил Иосифу и Константину, что на следующее утро с рассветом они должны быть готовы к отбытию на Афусию, скевофилакс, к удивлению эконома, не произнес ни слова, а только кивнул и, когда дверь камеры закрылась, стал собираться: вынул из холщового мешка и надел чистый хитон, который ему как раз передали с утра родственники, а старый вытряс и аккуратно сложил в мешок, положил туда же молитвенник и «Лествицу», составлявшие его книжное богатство, вытряс кукуль и мантию, надел их и, стащив с койки на пол рогожу, опустился на колени лицом к востоку и принялся молиться про себя, – всё это не сказав Иосифу ни слова. Эконом, напротив, услышав новость, сел на свою койку и сначала молча наблюдал за Константином, а потом, когда тот встал на молитву, закрыл глаза и, откинувшись к стене, сидел, пока тюремщик не принес обед. Трапеза прошла в молчании, но, допив воду, чуть разбавленную кислым вином – на прощание узников, видимо, решили немного «побаловать», – Иосиф не выдержал и сказал:
– Ну что, Константин, на Афусию?
Скевофилакс взглянул на него как-то странно и ответил:
– Почему же нет? «Господня есть земля, вселенная и все живущие в ней».
– Как же ты там без передач будешь? – усмехнулся эконом.
– Да уж как-нибудь, с Божией помощью.
Они опять помолчали.
– А что если, – сказал вдруг Иосиф, – тебе действительно предложили бы просто вступить в общение с Феодотом, а иконы чтить разрешили бы? Согласился бы ты?
Константин пристально посмотрел на соузника, опустил глаза и ответил:
– Нет, отче, лучше Афусия… Там воздух здоровее, – внезапно он встал и поклонился Иосифу в пояс. – Прости меня, что я так надоедал тебе!
– Что ты, отче! – изумленный Иосиф тоже поднялся. – Бог простит тебя! Прости и ты меня за насмешки… Но что это ты, прощаешься будто?!
– Так… – тихо проговорил скевофилакс. – Кто его знает…
Когда тюремщик унес посуду, Константин опять принялся молиться. Иосиф взялся было тоже за свои вещи, но, так ничего и не сложив, бросил всё в угол, подошел к окну и некоторое время всматривался в темноту – был уже вечер. Наконец, эконом внезапно развернулся, подошел к двери и стал барабанить в нее кулаками. Маленькое окошко на уровне глаз открылось, и стражник спросил:
– Чего надо?
– Я хочу говорить с патриархом.
Окошко захлопнулась, а немного спустя отворилась дверь, и страж, связав Иосифу руки, вывел его в тюремный коридор и передал другому стратиоту, который повел узника к начальнику Претория. Константин продолжал молиться, как будто ничего не происходило. Стражник подошел и ткнул его в спину носком сапога. Заключенный обернулся.
– Ну, а ты не хочешь поговорить со святейшим?
Константин только потряс головой и отвернулся.
Иосиф больше не вернулся в камеру. В тот же вечер он был отведен в патриархию, где дал требуемую иконоборцами подписку, был сразу отправлен в баню, затем облачился в новые одеяния, а на следующий день, восстановленный в должности эконома, занял прежние свои помещения при Великой церкви.
– Ну вот, Иоанн, – сказал Мелиссин Грамматику, когда тот спустя два дня зашел в патриархию, – как ты и предсказывал, эконом сдался, как только ему сказали про отправку на Афусию. Позавчера дал подписку.
– Немудрено, – усмехнулся игумен презрительно. – Этот своего никогда не упускал.
И тут келейник доложил о приходе Иосифа. Эконом вошел уверенной походкой; он уже вновь обрел свой всегдашний важный вид и был весел, но, увидев в патриарших покоях Иоанна, заметно стушевался и чуть замешкался у двери, однако тут же оправился и подошел к патриарху под благословение.
– Здравствуй, святейший! – он повернулся к Иоанну и слегка поклонился. – Здравствуй, отче.
Грамматик кивнул в ответ и сказал с еле приметной улыбкой:
– Здравствуй, почтенный отец. Я знал, что в последний момент благоразумие в тебе всё же возобладает и ты окажешься здесь.
– Что скажешь, Иосиф? – спросил Феодот.
– Владыка, я хотел поделиться с тобой некоторыми соображениями о том, как воздействовать на иконопоклонников, – эконом остановился и взглянул на Грамматика.
– Прекрасно, отче! – сказал патриарх и уселся в кресло. – Присаживайся. Очень кстати, что здесь Иоанн, сейчас мы вместе и обсудим твои соображения.
Мелиссин находился в приподнятом настроении после разговора с императором, итогом которого стало решение о ссылке всех непокорных, злорадно думая про себя, что всё-таки для василевса он, патриарх, остается более своим, чем «высокоумный философ». Иосиф сел в указанное ему кресло, почти напротив Грамматика, несколько мгновений молчал, собираясь с мыслями, и заговорил:
– Владыка, я думаю, что со ссылкой иконопоклонников немного поторопились. Конечно, государь пошел на это, видя, что беседы и уговоры ни к чему более не приводят, и решение его величества было справедливым, с этой точки зрения. Но существует одна мера, с помощью которой можно было бы добиться почти полного крушения лагеря наших противников… если, конечно, эта мера будет одобрена государем и твоим святейшеством.
Феодота охватило такое чувство, словно он вместо вина хлебнул уксуса. Иоанн насмешливо наблюдал за патриархом и экономом. Во взгляде Иосифа промелькнуло недоумение: он ожидал заинтересованно-радостных вопросов, но патриарх молчал, а Грамматик сидел с таким видом, словно ему всё давно известно, в том числе и то, почему молчит Мелиссин.
– Что же это за мера? – наконец, произнес патриарх.
– Очень простая! Нам ведь нужно, чтобы непокорные вступили в общение с Церковью. Не так ли?
– Да, конечно, – кивнул Феодот.
– Но до сих пор им внушалось, что при этом следует отказаться от почитания икон, потому что это ересь.
– Разве ты считаешь иначе?
– Ни в коем случае! Отец игумен, – Иосиф взглянул на Иоанна, – неопровержимо доказал мне, что из иконопочитания вытекает не что иное, как несторианская ересь. Но не все разбираются в таких богословских тонкостях, владыка. А кроме того, даже у тех, кто разбирается, умонастроение по сути такое же, как у простого народа: им трудно отказаться от сложившегося обычая держать у себя иконы и поклоняться им. Даже требование просто перевесить иконы повыше и перестать возжигать перед ними свечи кажется этим невежественным людям неприемлемым. Поэтому мне представляется, что для них можно допустить немного бо́льшее снисхождение, нежели предлагалось раньше.
– А именно? – голос патриарха прозвучал заинтересованно.
– Можно предложить им вступить в полное общение с Церковью, но при этом разрешить в частном порядке – у себя дома или в отдельных монастырях – почитать иконы, как прежде. Уверяю тебя, владыка, что, например, из игуменов мало найдется таких, кто откажется от возможности возвратиться в свои обители при сохранении там икон. Они не замедлят вступить в общение с твоим святейшеством и с августейшим государем!
– Хм… Неплохая мысль! – сказал Мелиссин и взглянул на Грамматика. – Что ты думаешь об этом, Иоанн?
– Мысль недурна, – ответил тот. – Я, кстати, и сам об этом думал, но вы с государем лишили меня возможности проверить это предположение на деле, – он слегка улыбнулся.
– Еще не поздно это сделать! – патриарх определенно воодушевился. – Я сегодня же поговорю с августейшим.
И вот, не успели сосланные прожить на новых местах и нескольких дней, как последовал приказ императора вернуть всех в столицу. С той же поспешностью, по тому же холоду и слякоти, узники были возвращены назад и водворены в прежние места заключения. Однако теперь император, по совету Иоанна, значительно ослабил условия их содержания: им были предоставлены лучшие и более светлые помещения, их довольно хорошо кормили и не возбраняли общаться с посетителями, хотя и под наблюдением стражи; разрешалось передавать одежду и еду в любом количестве, также и книги, после просмотра их тюремщиками; только по-прежнему строго следили за перепиской.
– Думаю, государь, – сказал Грамматик, – что можно продержать их так до весны и весь пост. А после Пасхи начнем.
В это же время в Константинополь были доставлены и некоторые новые арестанты – в основном игумены провинциальных монастырей, а также несколько епископов, – и они содержались более строго, нежели возвращенные повторно. Император приказал привезти в столицу и Сигрианского игумена Феофана – об этом попросил Грамматик.
– Ты надеешься обратить его? – спросил Лев.
– Почему бы и нет? – ответил Иоанн. – В любом случае, я бы хотел пообщаться с автором такой прекрасной исторической хроники, – он чуть заметно улыбнулся. – У меня есть к нему кое-какие вопросы.
Эконом Великой церкви с нетерпением ожидал, когда с Афусии привезут скевофилакса, надеясь поговорить с ним и обратить к общению с иконоборцами сразу же, не дожидаясь Пасхи.
– Он должен согласиться! – сказал Иосиф патриарху. – Он сам говорил мне, что если б иконы разрешили почитать, то он бы присоединился к твоему святейшеству.
Но вскоре с Афусии пришла весть от настоятеля тамошней обители, куда под надзор сослали Константина. Игумен писал, что доставить узника обратно в столицу никак невозможно: скевофилакс через несколько дней по прибытии на остров внезапно занемог и слег в сильной горячке, а на третий день скончался. «Мы похоронили этого нераскаянного еретика за монастырской оградой. Да избавит всемилостивый Господь нас всех от такой ужасной смерти!» – так оканчивалось письмо.
…Несколько новых заключенных были доставлены из многочисленных монастырей, располагавшихся в окрестностях Вифинского Олимпа. Среди них был и игумен Пеликитской обители Макарий – невысокий седовласый старец с морщинистым лицом, будто выточенным из желтой кости. Его посадили в одну из темниц Фиалы, и сначала император послал к нему асикрита с предложением вступить в общение с иконоборцами, при согласии обещая всяческие почести и дары, а в противном случае угрожая бичами и заключением. Макарий в ответ усмехнулся и сказал:
– Это для вас, может быть, почести и дары – приобретения, а для нас приобретение – страдать за благочестие. Я предпочту страдать и, если надо, умереть, но от почитания святых икон не откажусь. Передай государю, господин, что он напрасно надеется прельстить меня тленными почестями мира сего. Я отрекся от мира и сластей его еще в молодости, а сейчас я уже, как видишь, старик и скоро сойду в могилу, – и вы пытаетесь соблазнить меня, словно я юноша, падкий до наслаждений? Вы, должно быть шутите, в противном случае я бы усомнился в здравости вашего ума.
Узнав об ответе Пеликитского игумена, Лев махнул рукой и велел «передать его философу». Макарий был переведен в Сергие-Вакхов монастырь, где его почти месяц держали впроголодь в темном подвале, а затем привели в «приемную» келью, где его ждал Грамматик. Войдя и увидев икону Богоматери в углу над столом, Макарий неспешно, с поклоном, перекрестился на нее, не выказав никакого удивления, а затем спокойно взглянул на Иоанна и спросил:
– Господин Иоанн, здешний начальник, насколько я понимаю?
– Он самый, – ответил Грамматик. – Я рад приветствовать тебя здесь. Садись, отче.
Макарий сел, и по тому, как тяжело он опустился на скамью, Иоанн понял, что сил у узника осталось маловато. Лицо старца за дни пребывания в подвале приняло землисто-безжизненный оттенок, но темные глаза остро поблескивали из-под густых бровей. Грамматик, стоя у стола напротив, некоторое время молча оглядывал игумена, но Макария это, казалось, нисколько не смущало; он сидел и спокойно ожидал, что будет дальше.
– Мне, право же, очень прискорбно, почтенный отец, что ты содержишься в таких нехороших условиях, – заговорил, наконец, Иоанн. – И мне известно, что от предложения августейшего государя, следствием которого могло бы стать значительное улучшение этих условий, ты отказался. Так?
– Совершенно верно.
– Ты, насколько я знаю, заявил посланцу августейшего императора, что не желаешь отрекаться от почитания икон, презираешь тленные почести и предпочитаешь «страдать за благочестие»?
– Я и теперь готов повторить это.
Макарий отвечал негромко и неторопливо; в его манере говорить чувствовалась привычка к немногословию.
– Мне, признаюсь, не очень понятен твой ответ. Конечно, было бы странно, если бы столь почтенный отец, состарившийся в монашестве, действительно соблазнился чем-то преходящим и недостойным внимания людей духовных, – улыбка тронула губы Иоанна. – Но зачем устраняться от общения с императором и патриархом? Ты не хочешь вступать в общение с ересью, но разве августейший – еретик? Он благочестив и православен, как всем известно, и в этом легко увериться. Взгляни – даже здесь у нас висит икона, на самом видном и почетном месте, никто ее не осквернил и не сжег. Августейший тоже бывал здесь, но, как видишь, икона осталась на месте. Хотя перед ней тут не возжигают лампад, но если вспомнить, что некоторые святые отцы вообще порицали изготовление икон, то государь, снисходя к человеческой немощи тех, кто смущается почитанием образов, не сделал ничего нечестивого. Итак, по моему мнению, никакого препятствия к общению между нами и вами не существует, и мне непонятна причина твоего упорства, из-за которого – а вовсе не из-за благочестия – ты терпишь такие неудобства.
Макарий несколько мгновений пристально глядел на Грамматика, усмехнулся и сказал:
– Я слышал, что ты софист, Иоанн. Теперь вижу, что слух этот верен. Ведь некто от древних определил софиста как человека, наживающегося «при помощи искусств словопрения, прекословия, спора, сражения, борьбы и приобретения». Но я не любитель такого рода искусств, поэтому отвечу тебе просто. Что государь безумствует против благочестия, явно из тех зол, которые он уже соделал против исповедников веры. Ведь не частным образом и не на краю вселенной, но в государственном порядке и повсюду христиане терпят всякие ужасы за то, что не хотят признать ваш догмат, а потому твоя хитрость меня не убедит. Икона у тебя здесь висит, это правда, и я не удивлюсь, если в здешних помещениях найдутся и другие святые образа. Но что из этого? Вы не чтите их даже тайно! Вы собираете их или чтобы сжечь, или чтобы прельщать своей лисью хитростью простодушных. Ты можешь лгать тут, сколько угодно, но знай, что чем больше будешь ты восставать против моих убеждений, тем крепче они во мне будут. Так что подумай, стоит ли продолжать, и не лучше ли отвести меня снова туда, где я еще с утра находился.
– Замечательно! – воскликнул Грамматик. – Я, право, слушал тебя с наслаждением, почтенный отец. Правда, я не совсем понял, чем именно я «наживаюсь» при помощи искусства словопрения, но оставим, ведь самооправдание не к лицу монаху. Гораздо интереснее для меня вопрос об «ужасах», которые претерпевают, по твоим словам, «благочестивые христиане». Полагаю, ты согласишься, что правильное отношение к иконам – дело благочестия?
– Безусловно.
– Прекрасно. Мы сейчас не будем с тобой выяснять, какое именно отношение к иконам является правильным. Наше мнение вам известно, так же как нам – ваше. Поэтому предлагаю тебе рассмотреть другой вопрос: как должен себя вести император, если он действительно желает быть защитником благочестия и противником злочестия, по отношению к людям, которые представляются ему нечестивыми? Начальник ведь «не напрасно носит меч»?
– Ты хочешь сказать, что для императора мы – злочестивы, а потому он правильно поступает, мучая иконопочитателей?
– Ты понял мою мысль. Но я должен заметить, что у тебя – как, впрочем, и у твоих собратий – налицо явная склонность к преувеличению. «Ужасы», «мучая»…
– Что же, разве не ужасы – все эти тюрьмы, ссылки и бичи, и это только потому, что люди верят иначе, чем вы! – сказал Макарий с некоторой горячностью.
– Как хорошо, что ты сказал это слово, почтенный отец! – Грамматик сел в кресло напротив узника и продолжал, в упор глядя на него. – Тюрьмы, ссылки и бичи, говоришь ты. А вот скажи-ка мне, отче, как по-твоему, прежний император, государь Михаил, был благочестив?
– Конечно.
– Очень благочестив или не очень?
– Думаю, всякому можно пожелать такого благочестия.
– Optime! – воскликнул Иоанн и улыбнулся. – Это я по-латыни. Я хотел сказать: прекрасно, что ты так недвусмысленно выразился. А теперь, почтенный отец, вспомни, как этот благочестивый государь обошелся с теми, кто верили иначе, чем вы и мы, – злочестивыми павликианами и афинганами, – и подумай, можно ли, в сравнении с теми мерами, действительно назвать «ужасами» то, что претерпевают ныне твои единоверцы.
– Это была ошибка государя Михаила, – сказал Макарий, помолчав. – Но он скоро исправил ее.
– Значит, ты все же считаешь, что те меры были приняты неправильно?
– Да, неправильно. Еретиков, как бы ни были они нечестивы, убивать нельзя.
– А изгонять или ссылать их можно?
– Думаю, что можно, если они соблазняют слишком много народа.
– Что ж, в таком случае, ты должен признать, что нынешний государь поступает вполне благочестиво, подвергая иконопоклонников тому, что ты зовешь «ужасами».
– Это было бы правильно, господин софист, – сказал Макарий с усмешкой, – если бы благочестие состояло только в благих намерениях. Но есть еще такая вещь, как истинные догматы. И по отношению к ним не могут быть правы одновременно и принимающие их, и отвергающие. В Писании сказано: «Горе тем, которые разумны сами пред собой». Боюсь, что это сказано именно про тебя. А государь… Государя жаль! Быть может, он выбирал себе советников из добрых побуждений, но этот выбор доведет его до гибели, – старец поднялся. – Прощай, Иоанн. Полагаю, говорить нам больше не о чем.