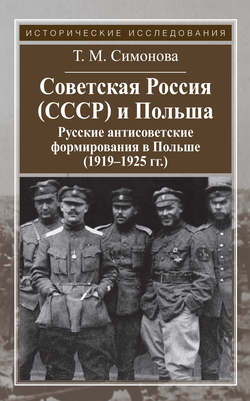Читать книгу Советская Россия (СССР) и Польша. Русские антисоветские формирования в Польше (1919–1925 гг.) - Татьяна Симонова - Страница 5
Глава 1
Создание русских антисоветских формирований в Польше: цель, ход и результаты
§ 1. «Укрепить Польшу, чтобы обуздать Россию…»[29]
ОглавлениеНачиная с марта 1918 г. Советская Россия по условиям Брест-Литовского мирного договора[30] «отказывалась от всяческого вмешательства во внутренние дела» оккупированных Германией территорий (польских, литовских, курляндских, лифляндских и эстляндских). 29 августа 1918 г. В. И. Ленин подписал декрет об аннулировании договоров и актов, заключенных бывшей Российской империей, касающихся разделов Польши. Усиление влияния Германии в этом оккупированном ею регионе было подкреплено Дополнительными соглашениями к Брест-Литовскому мирному договору, подписанными в конце августа 1918 г. в Берлине. Эти соглашения могли стать основой военного союза Германии и Советской России против Антанты и антибольшевистской («белой») оппозиции.
В те же дни германское командование дало разрешение на формирование в районе Пскова добровольческого корпуса из офицеров бывшей русской императорской армии и добровольцев. В августе 1918 г. вербовочные пункты были открыты в Риге, Елгаве, Лиепае, Митаве, Юрьеве и Ревеле[31]. В результате этой работы был сформирован Русский Псковский корпус[32].
На оккупированной Германией и Австро-Венгрией территории с польским населением вплоть до провозглашения 11 ноября 1918 г. независимого государства – Польской республики – легитимным органом управления был Регентский совет во главе с А. Ледницким. Уже в октябре 1918 г. Польский национальный комитет (ПНК) в Париже под руководством Р. Дмовского[33] обратился к странам Антанты с просьбой направить на польскую территорию английские и французские части для «создания будущей базы военных действий союзников в России»[34].
В Верховном военном совете Антанты доминировала точка зрения главнокомандующего союзными вооруженными силами маршала Ф. Фоша о необходимости эвакуировать германские войска с территории Польши в границах до первого ее раздела (1772 г.)[35]. Англия и США заняли осторожную позицию в этом вопросе, поэтому какое-либо политическое решение ими не было принято.
Ноябрьская революция в Германии изменила политическую ситуацию в регионе. 11 ноября в Компьене Германия подписала акт о капитуляции, вслед за этим 13 ноября Советская Россия аннулировала Брест-Литовский мирный договор. Руководство Советской России было уверено в союзнических намерениях Германии и в том, что присутствие Красной армии в Прибалтике предотвратит высадку на балтийском побережье частей Антанты. На польских землях 14 ноября вся полнота государственной власти была передана «временному начальнику государства», военному и политическому лидеру Ю. Пилсудскому.
«Белая» оппозиция в Прибалтике рассчитывала на поддержку англичан в антибольшевистской борьбе, но обращение командира формируемых в Латвии русских антисоветских частей А. П. Родзянко к английскому командованию с просьбой о материальной помощи осталось без ответа[36]. Правительство Великобритании не строило планов по созданию значительной антибольшевистской силы в регионе Прибалтики и Польши. Власть большевиков в измотанной войной России была для него более удобна, чем реализация «белой» идеи восстановления «единой и неделимой России». Русская смута и «большевистская анархия» были сильным фактором, препятствующим восстановлению экономического потенциала и территориальной целостности России в прежних пределах[37]. Поэтому основные вложения английские политики предполагали сделать не в антибольшевистские армии и отряды, а в экономическое и военное укрепление молодых республик, отделившихся от России на основе права наций на самоопределение.
Военное руководство независимой Польской республики стремилось воплотить в жизнь собственные глобальные территориальные планы на Востоке, нацеленные на создание цепи буферных государств вокруг России в форме федерации[38]. Роль координатора в ней польская «военная партия»[39] во главе с начальником государства Пилсудским оставляла за собой. В качестве опоры на Европейском континенте лидер молодой республики Пилсудский видел в первую очередь Францию. Французским политикам, в свою очередь, была жизненно необходима сильная и боеспособная Польша как политический противовес Германии. Французские военные лидеры были готовы поддержать молодую Польскую республику оружием, боеприпасами, снаряжением, военными советниками для создания одной из самых сильных армий в Европе.
Это направление внешней политики Франции усилилось и стало приоритетным в контексте идеи Ж. Клемансо о «санитарном кордоне» из пограничных с Советской Россией государств-лимитрофов, с помощью которого можно было оградить Европу от «большевизма – заразительной болезни»[40]. Ключевым звеном в цепи антисоветских государств стала Польша. Именно в ней Клемансо видел ту силу, которая могла бы стать основой «санитарного кордона» между «дикими азиатами» и «цивилизованными европейцами» либо основой забора из «колючей проволоки» вокруг России[41].
Американский взгляд со стороны на такую перспективу был более трезвым. Американский представитель при миссии Антанты в Польше генерал-майор Д. Карнап сообщал президенту США В. Вильсону в апреле 1919 г.: «Империалистические идеи – вид безумия, завладели психикой французов, они пытаются создать цепь сильных милитаристских государств, зависимых, насколько возможно, от Франции»[42].
Начальник Польского государства Пилсудский, принимая к сведению решения союзников, стремился к реализации собственной внешнеполитической концепции по расширению государства «от моря до моря». Ее реализация могла произойти только в ходе наступления польской армии на Восток – на литовские, украинские, белорусские и русские территории. В практическом воплощении федеративной концепции могли участвовать русские, украинские и белорусские вооруженные отряды, которые предполагалось создавать на средства из польского бюджета на территории Польши[43]. К реализации своего плана Пилсудский приступил в начале 1919 г., когда началось польское наступление на Вильно.
Д. Карнап сообщал в этот период времени из Варшавы в Вашингтон: «В стране, где такая нужда, где все усилия правительства и все источники дохода должны были бы быть направлены на улучшение материального положения населения и государственного управления, всем овладел военный дух». «Этот военный дух, – предостерегал американский представитель при миссии Антанты, – является для будущей Польши большей опасностью, чем большевизм»[44].
К 15 февраля 1919 г. в русских формированиях на территории Польши было всего 1050 человек, в их числе несколько десятков офицеров. С января 1919 г. общее командование антибольшевистскими силами на оккупированной Германией территории[45] стал осуществлять германский генерал граф Р. фон дер Гольц. С начала 1919 г. заметную активность в регионе Прибалтики стали проявлять США. Американская военная миссия во главе с подполковником У. Грином в Ревеле отслеживала ситуацию во всем Прибалтийском регионе. В качестве одного из возможных вариантов развития ситуации в Прибалтике США рассматривали, наряду с формированием местных национальных армий, создание добровольческих русских антибольшевистских отрядов. В условиях фактического отсутствия национальных армий в Прибалтийских республиках и в Польше в качестве реальной военной силы союзники могли рассматривать пока только русские добровольческие формирования в Эстонии.
В мае 1919 г. по распоряжению А.В. Колчака, одобрившего план Н. Н. Юденича по созданию Северо-Западного фронта, командованием Русской добровольческой армии были приняты меры к пополнению белых отрядов эвакуируемыми из германских и австрийских лагерей русскими военнопленными. При содействии американской военной миссии в Берлине велась успешная вербовка в лагерях русских военнопленных Первой мировой войны. Так, к началу июня 1919 г. численность отряда светлейшего князя А.П. Ливена в Латвии с 250 человек возросла до 3500[46].
С 1 апреля 1919 г. в Варшаве приступила к работе французская военная миссия под командованием генерала П. Анри, который возглавлял ее до 30 сентября 1920 г.[47] К этому моменту в Германии и Польше была организована система вербовки и отправки бывших военнослужащих императорской армии в Латвию. В Польше делом отправки русских офицеров и рядового состава в Митаву руководил штаб-ротмистр князь К. А. Ширинский-Шихматов. Светлейший князь А. П. Ливен вспоминал, что «благодаря содействию союзнических миссий в Варшаве и предупредительности германских пограничных властей дело это великолепно наладилось» – в Митаву еженедельно прибывало до 2 эшелонов добровольцев. Только в Польше число записавшихся в Ливенский отряд составило около 15 тысяч человек[48]. Военное ведомство Польши проводило политику наибольшего благоприятствования организации русских добровольческих формирований. Специальное распоряжение (регламент) военного министерства предписывало освобождать пленных красноармейцев, добровольно сдавшихся в польский плен, для того чтобы они вступали в Русский добровольческий легион или отправлялись в «небольшевистскую Россию»[49].
8 июля начальник Генерального штаба Польши полковник Ст. Галлер предложил военному министру создать польские военно-дипломатические миссии при армиях А. В. Колчака и А. И. Деникина, поскольку ожидалось признание правительства Колчака правительствами стран Антанты. Для создания антибольшевистского фронта требовалась координация действий белых армий с военными действиями поляков[50]. Параллельно развивалось сотрудничество польского военного командования и Министерства внутренних дел (МВД) с другими лидерами белогвардейских формирований.
Со второй половины июля 1919 г. добровольцы из Польши стали приезжать в Латвию ежедневно, А. П. Ливен откомандировал в Варшаву на помощь в вербовке нескольких надежных офицеров. Благодаря их усилиям к нему прибыл целый эшелон бывших красноармейцев, сдавшихся полякам на советско-польском фронте, под командованием капитана М. А. Стрекопытова (Тульский отряд). С советского Западного фронта отряд был выведен Стрекопытовым на польскую территорию. На обмундирование отряда из казначейства Латвии было выдано 800 тысяч рублей. Распределять прибывших в Латвию добровольцев, как вспоминал позже А. П. Ливен, приходилось «возможно справедливее между отрядами Бермондта[51], Вырголича[52]» и собственным[53]. С 19 августа 1919 г. офицеры армии Н. Н. Юденича полковник Субботин и поручик Данилевский на основании официального распоряжения польского МВД начали открытую вербовку добровольцев в Краковском военном округе[54].
26–27 августа 1919 г. по инициативе и под руководством главы миссии союзников в Прибалтийских государствах британского генерала Ф. Марша состоялась встреча представителей антибольшевистских военных сил Северо-Запада[55]. На ней было подписано соглашение о разделе антибольшевистского фронта между участниками встречи. Начало общего наступления было назначено на 15 сентября, однако вследствие взаимных противоречий сторон соглашение не было реализовано[56]. К началу сентября польское военное командование в лице полковника В. Сикорского приняло решение о разоружении и расформировании русского Пинского добровольческого батальона ввиду его «небезопасности»[57]. Батальон входил в состав 9-й пехотной дивизии Полесской группы польской армии. В сентябре появилось сообщение в одной из газет Киева о создании «второго русского добровольческого отряда из находившихся в германском плену русских офицеров и солдат». Отряд сражался на Волыни в рядах польской армии, по непроверенным сведениям он насчитывал около 5 тысяч человек[58].
В сентябре 1919 г. представитель правительств Колчака и Деникина в Париже С. Д. Сазонов[59] обратился в посольство Польши с предложением о создании представительства правительства Колчака в Варшаве «с официальным наименованием специальной миссии». 18 сентября вопрос о принятии Г. Н. Кутепова[60] в качестве такового был решен председателем Совета министров Польши положительно[61].
На следующий день МИД Польши направил посланнику в Париже М. Замойскому запрос об условиях возможного соглашения с А. И. Деникиным. Во второй половине сентября к командующему вооруженными силами Юга России прибыл глава польской военной миссии А. Карницкий. Деникин вспоминал, ссылаясь на информацию из французской военной миссии на Юге России, что польский представитель должен был «настаивать перед командованием Юга на границах «Великой Польши», обнимающих Курляндию с Балтийским побережьем, Литву, Белоруссию и Волынь». Деникин подчеркивал также, что Франция, оказывая материальную поддержку вооруженным силам Юга России, Украины, Финляндии и Польши, более серьезное внимание уделяла лишь одной Польше и только для ее спасения «вступила впоследствии в более тесные отношения с командованием Юга в финальный, крымский, период борьбы»[62].
В конце сентября 1919 г. командование Польши вступило в переговоры с командованием Северо-Западной армии по вопросу о координации совместных действий против большевиков. В Варшаву были направлены представители Колчака и Юденича. 2 октября в Варшаву прибыл генерал К. А. Крузенштерн, «с целью проинформировать о положении на русском Северо-Западном фронте»[63] и провести вербовку русских для «усиления армии Юденича и Ливена»[64].
С августа 1919 г. стало разворачиваться сотрудничество Польской республики с Украинской Народной Республикой (УНР) С. Петлюры. 10 августа 1919 г. во втором отделе Главного командования польской армии созрела мысль о необходимости «привлечь на свою сторону правительство Петлюры и путем оказания ему поддержки связать его интересы с Польшей», поскольку «Польша заинтересована получить преобладающее влияние на Украине, образованной на территории б(ывшей) России». Несмотря на присутствие при Петлюре французской и румынской миссий, польское командование было заинтересовано в том, чтобы «польское влияние на Петлюру было доминирующим»[65].
Польское руководство вынуждено было прекратить военные действия ввиду успешного наступления на Украине армии Деникина, который не признавал независимость Украинской Республики. 1 сентября 1919 г. Польская и Украинская республики подписали перемирие. Было достигнуто соглашение о разграничении дислокации армий на территориях по реке Збруч, стороны обменялись дипломатическими миссиями. 24 сентября УНР объявила войну Деникину, а галицийские украинцы, напротив, заключили с ним тайное соглашение. С 6 декабря 1919 г. в Варшаве начались мирные переговоры между УНР и Польской республикой[66].
Уже летом 1919 г. главное командование польской армии и польская разведка проявили особый интерес к армии Юденича в целом, и особенно – к отряду полковника С. Н. Булак-Балаховича в ее составе. Военный атташе Польши в Финляндии сообщал 23 июня главному командованию польской армии о присутствии в Эстонии отряда полковника Булак-Балаховича численностью от 1500 человек и наличии в нем 250 поляков[67].
В июле 1919 г. полковник Булак-Балахович, находясь в Пскове, обратился в польское правительство через военного атташе Польши в Финляндии полковника Пожерского и «высказал готовность действовать в соответствии с указаниями польских властей». Но в тот момент руководство польской армией интересовала лишь судьба поляков из его отряда[68].
Военный атташе Польши в Финляндии попросил Булак-Балаховича пока «оставаться под прежним командованием», поскольку у польской армии «с добровольческой русской армией общий фронт». Польский военный атташе подчеркнул при этом, что «служба г-на полковника в российской армии будет рассматриваться нами и как служба на благо нашей страны»[69]. Полковник Пожерский предложил Булак-Балаховичу откомандировать в распоряжение польского командования Литовско-Белорусского фронта в Вильно постоянного офицера связи (поляка) и предоставить информацию о лицах польской национальности в его отряде. Связь Булак-Балаховича с польским военным атташе осуществлялась через эстонский Генеральный штаб.
Ситуация на Северо-Западном фронте тщательно отслеживалась польским военным ведомством. В июле 1919 г., в период временных успехов армии Юденича и подготовки им похода на Петроград, полковник Пожерский сообщал в Варшаву: «Акция “белых”» вызывает большой интерес и поддержку коалиции, в особенности Англии». В подготовке похода с целью свержения правительства большевиков руководящую роль играл глава военной миссии союзников генерал Первой мировой войны Губерт Гоф. Под его руководством 7 июля состоялась конференция, на которой шла речь о взятии Петрограда и «вовлечения в эту акцию финских войск»[70]. Отряд Булак-Балаховича, по информации Пожерского, в этот момент насчитывал уже 3000 человек[71].
К середине августа численный состав дивизии Булак-Балаховича увеличился, по данным польского военного атташе, до 8 тысяч штыков[72], однако уже в сентябре героический командир был арестован командованием Северо-Западной армии, затем бежал и поступил на службу к эстонцам. 25 августа Красная армия заняла Псков[73].
В октябре 1919 г. Пилсудский издал декрет о создании белорусских отрядов (Белорусской военной комиссии)[74], после чего началась подготовка к их созданию в составе польской армии. Но в тот момент для его воплощения в жизнь не было условий.
17 октября польский военный атташе сообщал в Варшаву: «Юденич дезорганизован»; что Северо-Западное правительство ведет переговоры с Главным военным командованием Эстонии о переформировании Северо-Западной армии под его командованием «по типу отряда Булак-Балаховича»[75]. На следующий день генерал Булак-Балахович уже был «принят генералом Лайдонером в эстонскую армию и носил ее мундир». Генерал Я. Лайдонер разрешил Булак-Балаховичу «создавать добровольческие отряды из русских». Отряд Булак-Балаховича располагался в Верро, подчинялся командованию Эстонии (в составе 2-й эстонской дивизии) и получал от него содержание и вооружение. В этот период в отряде числилось всего 600 штыков и имелось 4 пушки[76].
Если к «белорусу и католику»[77] Булак-Балаховичу польское военное командование проявляло интерес, уделяя ему пристальное внимание, то политические и военные планы русских белых генералов не вписывались в его планы[78]. Отношение Пилсудского к русским добровольческим формированиям видно из его письма председателю Совета министров Польши И. Падеревскому. В конце сентября 1919 г. Пилсудский писал ему по поводу необходимости улучшения отношений с Англией, которая, по его мнению, не имеет четкой политической линии и занимается «созданием эфемерных русских сил» (т. е. белых армий), когда для решения русского вопроса, полагал Пилсудский, есть только две силы – «Польша и Германия»[79].
Однако в Лондоне придерживались другого мнения. Падеревский сообщал в МИД Польши: «Сейчас все изменилось, все считаются с большим успехом (Деникина. – Т. С.)… В случае малейшего столкновения с войсками Деникина наши отношения с Антантой будут порваны»[80]. Начальник польской военной миссии в Париже Т. Розвадовский также сообщал в Варшаву, что английские и, в первую очередь, французские круги «весьма встревожены» назревающим конфликтом поляков с Деникиным[81].
Руководство польских военного и дипломатического ведомств исходило из установки, что если «Деникин хочет идти на Москву, то он должен перед этим договориться с нами»[82]. Польские военные и дипломаты были убеждены, что после захвата власти в Москве лидеры Белого движения потребуют вывода польских войск из Литвы, Белоруссии и других территорий, занятых польскими войсками. И в первую очередь из тех, которые до 1 августа 1914 г. не входили в состав Привислинского края Российской империи. Польские лидеры отдавали себе отчет в том, что все занятые поляками территории рассматриваются русскими военными лидерами как неотъемлемые территории России.
В этот момент Главное командование Антанты потребовало выдвижения польской армии в направлении на Витебск и Смоленск, что могло бы облегчить наступление Деникина на Москву и способствовать восстановлению армии Колчака[83]. В ответ на это военный министр Польши К. Соснковский затребовал от французского правительства «срочную и активную помощь» в форме «обеспечения войск одеждой и снаряжением», а также «создания достаточных резервов боеприпасов», «улучшения транспорта», т. е. полного обеспечения польской армии к марту 1920 г.[84] Таким образом, польская военная элита тесно увязала необходимость существования антисоветского фронта, который «может быть в любой момент прорван по всей линии»[85], с требованием военной помощи со стороны Англии.
Польский МИД был готов идти на сотрудничество с Англией лишь в такой степени, «в какой это отвечало бы» польским интересам[86]. Только поляки и польская армия, были убеждены польские лидеры, являются силой, «готовой предпринять в согласии с Англией цивилизаторскую работу в России»[87]. А в намерении англичан поддержать армии Деникина и Юденича польские лидеры видели в первую очередь желание Великобритании «опередить всех конкурентов в эксплуатации русских богатств». При этом англичане, по их мнению, неверно оценивали стратегическую роль Польши, считая ее «слишком самостоятельной и притом связанной с Францией, а частично симпатизирующей и Америке»[88].
1 октября 1919 г. польский посланник в Лондоне Е. Сапега с удовлетворением сообщал в Варшаву, что Деникин будет получать помощь от союзников «только в течение нескольких недель, а если он до зимы не сумеет занять Москвы, то всякая помощь ему будет прекращена, и вопрос о России будет полностью снят». «В этом случае, – писал Сапега, – Польша, несомненно, оказалась бы в центре всех восточноевропейских дел»[89].
Быть в центре восточноевропейских дел – именно такую цель ставило польское военное руководство в период наступления Деникина на Москву. Поэтому Пилсудский не только не выдвинул армию в направлении на Витебск и Смоленск, как рекомендовало Главное командование Антанты, но и вообще приостановил наступление. Благодаря этому Главное командование Советской республики смогло перебросить против Деникина дополнительно до 43 тысяч штыков и сабель[90], что позволило остановить его наступление.
После этих событий Пилсудский получил от Деникина титул «спасителя большевизма в России», но добился своего: в глазах союзников лишил Деникина звания потенциального политического конкурента. Не случайно начальник государства бросил Советской республике, по образному выражению генерала А. А. фон Лампе, «якорь спасения, на котором удержалась советская власть»[91]. Позже Деникин пришел к выводу о том, что Пилсудский и большевики заключили тайный договор[92]. Архивные документы и исследования отечественных историков свидетельствуют в пользу этого утверждения[93].
Ю. Мархлевский сообщал Г. В. Чичерину 19 октября, что «неофициальный представитель Польши» категорически заявлял, «что поляки наступать не будут», «желают разгрома Деникина». Советский военачальник Н. Е. Какурин был убежден, что «противоположность целей» Пилсудского и Деникина[94] стала причиной бездействия маршала Польши в ответственный момент противостояния Красной и белой армий[95]. После разгрома Деникина Красной армией Пилсудский планировал не только захват Украины, но и готовился превратить Польшу в черноморскую державу[96]. Эти планы противоречили позиции Деникина по вопросу о западной границе России на основе этнографического принципа.
Уже в конце октября 1919 г. Совет министров Великобритании принял решение о прекращении всякой военной помощи военным операциям белых армий на Востоке Европы. Принявший должность министра иностранных дел Великобритании У. Черчилль добился исключения только для Деникина на период до конца его осенней кампании. Е. Сапега доносил в Варшаву, что английские политики ищут наиболее устойчивый вариант равновесия сил в Восточной Европе при традиционном стремлении к сильной России и готовы рассматривать даже создание на этой территории федерации из новообразованных государств во главе с Польшей. «Непременным условием сотрудничества Польши с Англией» Сапега по-прежнему считал «поражение Деникина и Юденича»[97].
В начале ноября 1919 г. союзникам стало ясно, что расчет на успех армии Колчака в Сибири несостоятелен[98]. В начале декабря началась эвакуация польских частей из Сибири. Генерал П.М. Жанен, командующий группировкой союзных сил в Сибири, в телеграмме начальнику 5-й польской дивизии отводил Войску Польскому роль «арьергарда всех союзных войск»[99]. В этих условиях проявилось стремление руководства стран Антанты к усилению Польши, которая действительно оказалась в «центре восточноевропейских дел». Одновременно проявилось стремление польского руководства к полной самостоятельности в военных действиях. 6 ноября Пилсудский в беседе с британским посланником в Варшаве Г. Румбольдом дал ему недвусмысленно понять, что Англия занимает позицию, не выгодную для Польши, оставляя ее без поддержки в войне с большевиками. В таких условиях, заявил Пилсудский, «Польша должна сама себе помогать и сама договариваться с кем найдет нужным»[100].
29 ноября Юденич вынужден был сообщить Деникину о поражении Северо-Западной армии. Боевой и гражданский состав армии был интернирован. Многие из интернированных в Эстонии солдат и офицеров армии бежали из страны. Российский посланник в Швеции К. Н. Гулькевич телеграфировал генералу Д. Г. Щербачеву: «Здоровые солдаты уходят сотнями к большевикам, которые ведут открытую пропаганду. Раздражение против офицеров растет и может привести к массовому избиению… офицеры группами, своими средствами уезжают к Деникину, на Мурман, в Германию, к авантюристу Балаховичу»[101].
В этих условиях руководство Эстонской республики вплотную приступило к подготовке переговоров о мире с Советской Россией.
25 октября 1919 г. министр иностранных дел Эстонии И. И. Поска от имени Прибалтийских государств сообщил о намерении начать переговоры. После очередного обращения Чичерина к эстонскому правительству с предложением заключить перемирие министр иностранных дел Эстонии А. Пийп дал согласие вступить в переговоры 17 ноября.
19 ноября Советская Россия подписала мирный договор с Литовской республикой. Однако правительство Эстонии заняло выжидательную позицию и в очередной раз перенесло переговоры на 2 декабря. К этому моменту советское руководство уже заключило с тремя Балтийскими государствами соглашения о репатриации заложников, беженцев и пленных. Советско-эстонское перемирие было подписано только 31 декабря 1919 г.
Планы союзников в отношении Советской России были существенно скорректированы. Интервенция была безуспешно завершена, армия и правительство Колчака прекратили существование, Деникин терпел неудачи, Латвия и Эстония приступили к переговорам с Советской Россией о перемирии. В истории советско-польских отношений в начале 1920 г. период осторожного прощупывания взаимных возможностей сменился периодом активного наступления Пилсудского на Восток.
Премьер-министр Великобритании Д. Ллойд Джордж не был сторонником войны Польши против России и не упускал возможности подчеркнуть, что польская армия выдвинулась слишком далеко «за этнографические границы», заняв территорию, заселенную преимущественно русскими[102]. 16 января 1920 г. Верховный совет Антанты принял решение о снятии экономической блокады Советской России. По мнению Ллойд Джорджа, восстановление с ней торговых отношений через кооперативные организации могло стать «лучшим путем к установлению мира и ослаблению большевизма в России». Торговля с Россией становилась жизненно необходимой для всей Европы, государства которой стали испытывать недостаток русского продовольствия, нуждались в источниках сырья, расширении рынка и снижении взлетевших во время войны цен.
Польское руководство было убеждено, что Англия не понимает сути происшедших перемен на Востоке Европы, что Польша есть «новый фактор», обладающий по сравнению с Россией «несравненно большими жизненными силами» и способный определять политическую ситуацию на Востоке Европы[103]. Советское внешнеполитическое и военное руководство также недооценивало самостоятельную роль Польши в этом регионе и, как справедливо отметил российский исследователь, видели в ней не субъект международных отношений, а всего лишь объект политики Антанты[104].
В день снятия блокады Советской России Великобританией Верховное командование польской армии и Верховное командование армии Латвии подписали секретное соглашение о совместных действиях против Красной армии. 3 января началось их совместное выступление на «большевистском фронте»[105]. У. Черчилль констатировал, что, «пока большевики были поглощены столкновениями с Колчаком и Деникиным, возникшие на территории бывшей Российской империи государства создали сильные армии»[106].
Польское военное командование весьма умело использовало сложившуюся ситуацию для увеличения финансовых влияний на развитие армии: уже 18 января американский посланник в Варшаве Х. Гибсон сообщал государственному секретарю Р. Лансингу о намерении польского правительства заключить мир с большевиками ввиду отсутствия поддержки со стороны союзников[107]. На следующий день Г. Румбольд телеграфировал Дж. Керзону об угрозе прорыва в Польше «барьера против большевиков», что могло бы поставить в «очень тяжелое положение» Центральную Европу и западные державы. Одновременно английский политический представитель при Деникине в ранге главного комиссара Х. Маккиндер получил указание Форин Оффиса «сделать все возможное для установления дружбы между Деникиным и польским правительством»[108]. Маккиндер во время поездки в Париж и Польшу даже убеждал Деникина пойти на территориальные уступки, но успеха не добился[109].
Вслед за этим премьер-министр Великобритании вынужден был «откровенно объяснить» Пилсудскому, что его правительство не хочет, чтобы Польша своими военными действиями «способствовала созданию экономического барьера между собой и Россией»[110]. 28 января Сапега сообщал из Лондона в МИД Польши о кампании, развернутой в левой прессе Великобритании, под лозунгами: польские войска заняли «исконно русские земли», «большевистские атаки являются проявлением справедливых русских национальных стремлений»[111].
Если английский премьер-министр занимал позицию мира, то французское военное руководство было сторонником продолжения войны. Маршал Ф. Фош[112] готовился к визиту в Польшу, польские военные круги связывали с этим визитом надежду на «щедрую материальную поддержку со стороны Франции», а также на ожидаемое некое «внутреннее национальное движение в России, которое спасет Польшу», – сообщал американский посланник в Варшаве Гибсон в Вашингтон. В этой ситуации США предоставили полякам полную свободу действий в вопросе переговоров с большевиками[113].
28 января СНК РСФСР за подписью В. И. Ленина, Г. В. Чичерина и Л. Д. Троцкого направил народу Польши обращение с изложением мирных основ политики советского правительства в отношении Польши. В обращении подчеркивалось, что «сторонники и агенты Черчилля – Клемансо» стремятся «ввергнуть Польшу в беспричинную, бессмысленную и преступную войну с Советской Россией». Существующая линия фронта была объявлена ненарушимой, было подчеркнуто также, что «не существует ни одного вопроса: территориального, экономического или иного, который не мог бы быть разрешен мирно»[114]. Ради мира советское руководство было готово уступить Польше всю Белоруссию и «порядочный кусок Украины», которые к тому моменту уже были заняты польской армией[115].
В конце января советская дипломатия добилась некоторого успеха: между Латвией и Советской Россией было заключено перемирие[116], согласно которому военные действия между договаривающимися странами приостанавливались. В тексте договора о перемирии содержалось взаимное обязательство «не допускать образования и пребывания на своих территориях каких бы то ни было организаций и групп, именующих себя или претендующих на роль правительства всей территории другой стороны».
В случае обнаружения таковых они подлежали интернированию в течение 48 часов с момента подписания соглашения. Такие группы подлежали разоружению, а все их военное имущество, технические средства и средства вооружения – полной нейтрализации и иммобилизации. Через территорию договаривающихся государств был запрещен провоз чужих вооруженных сил, а также военного, инженерного и прочего имущества[117]. Вербовка в ряды антисоветских вооруженных сил, а также в антисоветские организации и группы на территории Латвии также была запрещена. В недельный срок Латвия обязалась предоставить данные о состоянии всех «неправительственных войск» (их военных складов, военного и технического имущества)[118].
Ситуация в Балтийском регионе существенно изменилась после подписания 2 февраля 1920 г. в Юрьеве (Тарту) мирного договора между РСФСР и Эстонией[119]. Ему предшествовали договор о перемирии и приостановке военных действий между армиями РСФСР и Эстонской Демократической Республики от 31 декабря 1919 г., заключенный по инициативе советской стороны. В нем также содержались взаимные обязательства сторон воспретить «пребывание на своей территории каких-либо войск, кроме правительственных», а также «вербовку и мобилизацию личного состава в ряды армий государств, с которыми заключены военные конвенции». На основе взаимности было решено «запретить организации и группы, ставящие своей целью вооруженную борьбу с другой договаривающейся стороной»[120].
Запрещалось также образование и пребывание организаций и групп, «именующих себя или претендующих на роль правительства всей территории другой договаривающейся стороны или части ее территории». На интернирование таковых отводилось 48 часов. Пребывание любых «неправительственных войск» внутри договаривающихся государств также запрещалось. Запрещалось и пребывание представительств и должностных лиц организаций, имеющих своей целью низвержение правительства другой договаривающейся стороны[121].
В день заключения мирного договора в Тарту ВЦИК направил очередное обращение к польскому народу с призывом установить добрососедские отношения между Польшей и Советской Россией. Суть документа сводилась к заявлению, что разгром «контрреволюционных сил Колчака, Деникина, Юденича» не означает стремления к завоеванию Польши и водворению там коммунизма «штыками Красной армии»[122]. В начале февраля 1920 г. в период Лондонской конференции глав правительств польские дипломаты приступили к выяснению отношения правительств Антанты к мирным предложениям России. Польские политики, с одной стороны, понимали, что отказ от мира означает длительную затяжную войну, к которой польский народ не будет готов. С другой стороны, министр иностранных дел Польши Ст. Патек осознавал, что польскому правительству следует действовать «в прямом соответствии с желаниями» союзных держав[123]. Ранее, на конференции в Гельсингфорсе в январе 1920 г. с участием Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Финляндии, также было принято такое же решение.
Однако союзные державы заявили лишь о своих обязательствах поддерживать государства, граничащие с Россией, в том случае, если та нарушит их «законные границы». Американский посланник в Варшаве доносил в Вашингтон, что союзные державы в этот момент «были склонны предоставить Польше взять на себя всю ответственность» за решение по вопросу о заключении мира с Советской Россией. О сильной антипатии к идее мира с большевиками, а также о бессилии оказать влияние на политику Ллойд Джорджа спустя некоторое время высказался только король Великобритании Георг V[124].
У. Черчилль вспоминал, что в этот период союзники встали перед выбором: финансировать наступление польской армии в направлении на Москву или польскому правительству заключать мир с большевиками. Оба варианта были неприемлемы, поэтому союзники решили не «предпринимать никаких действий, которые требовали бы от союзников больших жертв», но «оказывать материальную и моральную поддержку тем антибольшевистским силам, которые существуют»[125].
Идея использовать военный потенциал значительного контингента русской военной эмиграции созрела у Черчилля. Вопрос о лидере, способном собрать и удержать под своим руководством разочаровавшуюся и дезориентированную массу профессиональных военных, был решен также британским премьером. Р. Б. Локкарт вспоминал, что Черчилль в этот период времени «находился под благоприятным впечатлением» от Б. Савинкова; ему казалось, что тот «обладает наибольшим политическим весом и, самое главное, прекрасными организаторскими способностями, дававшими основание надеяться на успех контрреволюционного переворота»[126]. Агент британской разведки Сидней Рейли, «с благословения Черчилля и заручившись поддержкой шефа британской секретной службы»[127], был направлен к Б. Савинкову для установления с ним постоянной связи.
Существенную идеологическую и информационную поддержку идее сотрудничества белых формирований и русской эмиграции с Польшей оказал сам Б. Савинков[128]. Как член Русской заграничной делегации, он представлял интересы России на Парижской мирной конференции в 1919 г. и регулировал вопросы обеспечения армии Колчака со стороны союзников (поставки оружия, боеприпасов, продовольствия, обмундирования). Как член Политического совещания, в тесном контакте с лидерами русской эмиграции (Н. В. Чайковским, В. А. Маклаковым, С. Д. Сазоновым) Б. Савинков проводил встречи с Клемансо, Ллойд-Джорджем, Черчиллем, представителями эсеров, правыми социал-демократами, группой кадетов во главе с П. Н. Милюковым.
С конца 1919 г. Б. Савинков стал развивать мысль, «что польский плацдарм, моральный и территориальный, по обстоятельствам текущего момента является вполне подходящим для организации русского вооруженного патриотического движения… и установления вечного мира с братской по крови Польшей»[129]. Во французской прессе он активизировал кампанию под лозунгом: «Польско-русское соглашение является вопросом первоклассного значения для политической стратегии Франции», публикуя статьи во французских газетах и журналах[130].
Тремя месяцами ранее Б. Савинков озвучил вполне реалистический вывод[131] о неудачной «политике Балтийского блока» союзных правительств, которая будет иметь «только один результат: подготовку торжества русского большевизма»[132]. Гарантией против «большевизации» Балтийских государств Б. Савинков и русская делегация на Парижской мирной конференции в тот период времени считали помощь со стороны союзников русским военным частям в Эстонии и Латвии, подчиненным генералу Юденичу[133].
Прежде чем согласиться с точкой зрения Черчилля по вопросу о потенциальном лидере антибольшевистских сил, Пилсудский направил в Париж И. Матушевского[134], который должен был проанализировать ситуацию в среде русской эмиграции и оценить политический потенциал Б. Савинкова. В секретном отчете на имя начальника государства Матушевский сообщал, что Б. Савинков «завоевал доверие» в Париже и Лондоне, «умело использует евреев и масонов», имеет влияние в английской и французской печати, находится в тесном контакте с русскими банкирами в эмиграции[135].
Группа влиятельных банкиров из России, по его наблюдениям, стремится «использовать Б. Савинкова в качестве потенциального главы российского правительства». Банкиры относятся к нему «как к человеку умному и реалисту», поэтому Б. Савинков «получает средства» от К. И. Ярошинского[136], А. И. Путилова[137], Б. А. Каминки[138], Г. Д. Лесина[139] и многих других богатых людей русской эмиграции[140].
В то же время Матушевский отметил в отчете, что Б. Савинков не является «абсолютно свободным от империалистической российской традиции». Но, как человек «практичный», он хочет «практичного соглашения с Польшей, которое обещает большую выгоду для демократической России». Б. Савинков, по мнению соратника Пилсудского, понимал опасность для России возможного польско-румынского союза, который «откроет Польше выход к морю». Безусловно, полагал польский офицер, «находясь под влиянием чехов», Б. Савинков «желает общей с чехами границы вдоль Галиции»[141], т. е. способен признать Галицию за Польшей. Таким образом, внешеполитическая позиция претендента на роль руководителя антибольшевистских сил более или менее отвечала требованиям военного руководства Польши.
Идея сотрудничества с левым крылом русской эмиграции стала разрабатываться в окружении Пилсудского и в польских военных кругах с мая 1919 г. Члены польской делегации на мирной конференции в Париже (Л. Василевский, М. Сокольницкий, В. Иодко-Наркевич) исходили из мысли о невозможности реконструкции императорской России и неизбежности создания федерации освободившихся от русского угнетения государств-лимитрофов под эгидой Польши. Завязав контакты с демократом Б. Савинковым, они убедились в том, что тот остается сторонником конституционного российского правительства, которое самостоятельно будет регулировать развитие всех народов империи, кроме поляков[142].
Перед польскими политиками встал вопрос: кто опаснее для Польши – красная или белая Россия? Ответ на этот вопрос был очевиден: Колчак опаснее, поскольку имеет поддержку Антанты и через своих генералов может получить поддержку в Германии[143]. В конце 1919 г. вопрос решался уже в аспекте равной опасности для Польши как «красной», так и «белой» России. Вплоть до конца 1920 г., по мнению польского исследователя, Пилсудский был сторонником идеи федерации, несмотря на начало создания в 1919 г. классического военно-политического союза государств, отделяющих Россию от Германии[144].
Тем не менее Пилсудский пошел на контакт с Б. Савинковым и Чайковским, хотя и не связывал с ними особых надежд[145]. В польской историографии утвердилось мнение, что для Пилсудского в этот момент был важен сам факт сотрудничества с русской эмиграцией, как потенциальной военной силой будущего российского демократического государства[146]. К числу сторонников Пилсудского в этом вопросе принадлежали начальник второго отдела штаба военного министерства Б. Медзинский, М. Сокольницкий, А. Струг, Б. Венява-Длугошевский, Т. Шетцель, сменивший впоследствии Медзинского на его посту.
Почву для приезда Савинкова в Польшу в начале 1920 г. готовил К. М. Вендзягольский[147], который инициировал письменное приглашение от Пилсудского. Делегация Колчака на Парижской мирной конференции направила Савинкова и Чайковского в Варшаву, куда они и супруги А. А. и Л. Е. Дикгоф-Деренталь прибыли 16 января. До конца своего пребывания в Варшаве (20 января) они нанесли ряд визитов, в том числе начальнику государства Пилсудскому.
Важнейшим вопросом, который обсуждался на этой встрече в резиденции маршала в Бельведере, был вопрос о будущем устройстве Восточной Европы. Пилсудский озвучил основную идею своей внешнеполитической концепции, позже получившей наименование «прометеизма»[148]. В «широкий» план Пилсудского входило использование «русских антибольшевистских сил» в рамках союза пограничных государств (образовавшихся на границе с Россией) и Финляндией – «своего рода Лиги Наций для борьбы с большевизмом». Однако Пилсудский из этого разговора с Б. Савинковым и Чайковским понял, что лидеры русской эмиграции «никогда не согласятся на полную независимость пограничных с Россией государств и пойдут только на предоставление им автономии»[149].
На встрече было достигнуто взаимопонимание по вопросу о возможности создания в Польше русских военных отрядов. Было решено на средства польского военного министерства создать политический отдел – координирующий центр по их формированию. Политический отдел должен был находиться в тесном контакте с польским правительством, правительствами союзных Польше государств, с военными и дипломатическими представительствами Англии и Франции. Печатным и пропагандистским органом РПК становилась газета «Свобода»[150].
Информация о решении собрать антисоветские группы и добровольцев на польской территории достигла советской столицы окольным путем – через Германию. «Из Берлина сообщают, – докладывал М. М. Литвинов[151] наркому Чичерину, – что Польша объявила всеобщую мобилизацию и что ожидается Фош. Сазонов[152], Б. Савинков и Чайковский перекочевали в Варшаву, где они организуют русскую армию». Литвинов констатировал также, что белыми агитаторами «продолжаются попытки тайной вербовки среди пленных в Германии»[153].
27 февраля Пилсудский вновь отправил Вендзягольского в Париж с письмом к Савинкову. Вендзягольский должен был сообщить о готовности Пилсудского заключить и с «русской национальной армией» соглашение при условии согласия ее командования (в лице А. И. Деникина. – Т. С.) на созыв Учредительного собрания, избранного путем всеобщего голосования и на тех же территориальных и политических условиях, какие начальник государства выставил советскому правительству.
В Париже Вендзягольский встретился с лидерами русской эмиграции (Г. Е. Львовым, В. А. Маклаковым) и Б. Савинковым и сообщил им о готовящемся тактическом маневре польского правительства: предложить советскому правительству мир на условиях, которые заведомо не будут им приняты[154]. Во время переговоров Пилсудский потребовал бы признать «восточные границы Польши 1772 г.» и независимость новых государств, образовавшихся в пределах бывшей Российской империи (не только Украины, Литвы, Эстонии, но и казачьих областей – Дона, Кубани, Терека)[155].
Ощущение себя освободителем угнетенных русским царизмом народов переполняло Пилсудского. «Мы на штыках несем этим несчастным странам безоговорочную свободу», – заявил начальник государства журналисту одной парижской газеты в эти февральские дни 1920 г.[156]
18 марта 1920 г. польский посланник в Париже М. Замойский сообщал в Варшаву о «коренных изменениях» «французских планов в отношении Советской России». «Печальный опыт» белых армий привел французское руководство к выводу о наличии «явно национального характера большевистской системы», наличия «определенного национального самосознания» в Советской России, а также ее «сплочения и усиления». Если вооруженная борьба с ней, как извне, так и изнутри, в такой ситуации бесцельна, то – полагало французское руководство – война с большевиками утратила признанный за нею «характер защиты Европы от большевизма (теория колючей проволоки) и свелась исключительно к разрешению польско-большевистских споров»[157].
Теперь Франция желала видеть в Польше «прежде всего еще одну гарантию против Германии», подчеркивал Замойский. Нападение большевиков на Польшу руководство Франции в данный период времени считало «маловероятным»[158]. В этот период времени, как и в конце 1919 г., советское руководство вплоть до апреля 1920 г. считало возможным заключить мир с Польшей за счет территориальных потерь. Главное командование Красной армии только начинало вырабатывать планы предстоящей операции на польском фронте, отдавая директивы об «активной обороне» на Западном и Юго-Западном фронтах. Директива Главного командования обоим фронтам о приведении войск в боевую готовность последовала лишь 8 апреля[159] в ответ на наступление Пилсудского на Украину.
Видимое ослабление позиций Красной армии на Западном фронте стало следствием колоссального напряжения сил Советской республики в Гражданской войне. Мы не привлекаем внимание читателя к фактическому материалу, свидетельствующему о финансовых вливаниях из бюджетов стран Антанты в организацию, снабжение и поддержку белых армий на севере, северо-западе, юге России и на ее Дальнем Востоке, а также в Сибири. Однако такого рода финансовая интервенция не принесла желаемых результатов.
Обратив свой взор на Польшу как на «барьер против России» или «ключ к миру» в Европе, союзники стали экономнее расходовать средства. Они разыскали подходящего, как им казалось, кандидата на роль организатора «русского вооруженного патриотического движения в Польше», в детстве и юности связанного с Польшей, – Б. Савинкова. Эта кандидатура почти без труда (не считая «несвободу» Б. Савинкова от того, что он был русским) вписалась в политический фон молодой республики, вступившей на трудный путь самостоятельного развития.
Военный лидер Польского государства Пилсудский с присущей ему осторожностью присматривался к этой неординарной фигуре, которая на первой же встрече смогла уловить смысл мессианских планов начальника государства. Принципиальное согласие на формирование русских отрядов в Польше Б. Савинковым было получено.
30
2 (15) декабря 1917 г. подписано советско-германское перемирие, после чего начались переговоры о мире. Советская Россия после жесткого военно-политического давления со стороны стран Четверного союза подписала мирный договор 3 марта 1918 г.
31
Родзянко А. П. Воспоминания о Северо-Западной армии. Берлин, 1921. С. 6.; Екабсонс Э. Латвия и российский Северо-западный корпус (Северная армия Н. Н. Юденича) в 1918–1920 гг. // Россия и Балтия. Эпоха перемен. (1914–1924). М., 2002. С. 129.
32
Был сформирован в районе Пскова – Изборска – Острова – Режицы – Двинска под общим руководством германского командования в конце октября 1918 г. при активном участии светлейшего князя А. П. Ливена и капитана К. И. Дыдорова. См.: Белая борьба на Северо-Западе России / Составление, научная редакция, предисл. и коммент. С. В. Волкова. М.: Центрполиграф, 2003. С. 56–58.
33
ПНК к декабрю 1917 г. был признан Францией, Англией, Италией и США в качестве официальной польской организации.
34
Hauser P. Niemcy wobec sprawy polskiej. Poznań, 1984. S. 20.
35
Документы и материалы по истории советско-польских отношений. М., 1963. Т. 1. С. 458–460.
36
Английские корабли в тот момент стояли в Балтийском море и представляли собой самую серьезную военную силу в регионе. Британские военные базы располагались в латвийских портах Риги, Либавы и Виндавы.
37
Валь Э. Г. фон. К истории Белого движения. Деятельность генерал-адъютанта Щербачева. Таллинн, 1935. С. 133.
38
Симонова Т. М. Прометеизм во внешней политике Польши. 1919–1924 гг.
39
Такое определение для группы сторонников Ю. Пилсудского – военных и дипломатов – принадлежит Г. В. Чичерину.
40
Лорд Берти. За кулисами Антанты. Дневник британского посла в Париже. 1914–1919. М.; Л., 1927. С. 172.
41
Документы и материалы по истории советско-польских отношений. М., 1964. Т. 2. С. 439–440. Российский исследователь В. А. Зубачевский полагает, что Пилсудский стремился к образованию великодержавной Польши «вопреки мнению Запада». Такое утверждение, на наш взгляд, требует более детального уточнения в связи с пропольской позицией Франции. См.: Зубачевский В. А. Политика России в отношении восточной части Центральной Европы (1917–1923 гг.). С. 54.
42
Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. 2. С. 206.
43
Karpus Z. Wschodni sojusznicy Polski w wojnie 1920 roku: oddziały ukraińskie, rosyjskie, kozackie i białoruskie w latach 1919–1920. Toruń, 1999. S. 7–8.
44
Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. 2. С. 206.
45
Латышские части под командованием полковника Я. Балодиса, германская добровольческая Железная дивизия майора Й. Бишофа, отряд Светлейшего князя А. П. Ливена.
46
Светлейший князь А. Ливен. Основание отряда // Белая борьба на Северо-Западе России. М.: Центрполиграф, 2003. С. 32.
47
Французская военная миссия в Польше (1919–1939 гг). в составе 400 офицеров официально являлась консультативным органом и имела задачу подготовки национальной польской армии. Cм. подробнее: Schramm T. Francuskie misje wojskowe w państwach Europy środkowej 1919–1938. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1987; Guelton F. Le capitaine de Gaulle et la Pologne (1919–1921) // Charles de Gaulle, la jeunesse et la guerre 1890–1920. Plon, 2001; Maliszewski L. Louis Faury (1874–1947): entre gloire et oubli // Revue historique des armées. 2010. № 260.
48
Белая борьба на Северо-Западе России. С. 39, 46, 48.
49
Красноармейцы в польском плену в 1919–1922 гг. С: б. док. и матер. М.; СПб.: Летний сад, 2004. С. 63.
50
Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. 2. С. 278. В этот период проходила организация польской армии и стягивание этнических польских сил, в том числе и с территории, контролируемой Колчаком и Врангелем. Так, в Сибири была сформирована 5-я дивизия под командованием Ю. Галлера численностью 15 тысяч человек. По данным польского Генштаба, общая численность этнических поляков из числа австрийских и германских военнопленных на территории России составляла 40 тысяч человек (Там же. С. 298).
51
П. Р. Бермондт, георгиевский кавалер, с февраля 1919 г. – командир партизанского конно-пулеметного отряда имени графа Келлера в Германии. Британский генерал Ф. Марш считал полковника Бермондта более решительным, чем Юденич. К августу 1919 г. численность отряда составила около 5 тысяч человек. Бермондт разорвал отношения с Юденичем и Деникиным, и 21 августа под наименованием «главнокомандующего Западной добровольческой армией полковника Авалова» принял на себя управление «в защиту Латвийской области». В августе 1919 г. численность Западной армии Бермондта составила до 35 тысяч штыков и сабель.
52
Полковник Отдельного корпуса жандармов Е. П. Вырголич в июне 1919 г. прибыл в отряд Ливена из Германии. В Митаве и Шавлях он также приступил к формированию собственного отряда. Численность отряда составила не более 1500 человек. Все три отряда – Ливена, Бермондта и Вырголича – к июлю 1919 г. оформились в Западный корпус Северо-Западной добровольческой армии.
53
Белая борьба на Северо-Западе России. С. 47.
54
Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. 2. С. 299.
55
Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Н. Н. Юденича и П. Р. Бермондта.
56
Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. 2. С. 137.
57
На 18 июля в его составе насчитывалось 755 русских штыков. См.: Кручинин А. С. Пинско-Волынский батальон: добровольческая часть на фоне русско-польских отношений // 1919 год в судьбах России и мира. С. 93–94.
58
А. С. Кручинин справедливо полагает, что эта информация требует дополнительной проверки. Личный состав батальона был переправлен в месте с солдатами и офицерами армии Бредова в Крым. Там батальон весной 1920 г. был влит в 50-й пехотный Белостокский полк. См.: Там же. С. 95.
59
С. Д. Сазонов – в 1910–1916 гг. министр иностранных дел Российской империи. В 1918–1920 гг. – член Политического совета (Париж).
60
Г. Н. Кутепов – племянник генерала А. П. Кутепова, профессиональный дипломат.
61
Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. 2. С. 314.
62
Деникин А. И. Поход на Москву // Белое движение: начало и конец. М., 1990. С. 267.
63
Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. 2. С. 349.
64
Там же. С. 367.
65
Там же. С. 294.
66
Переговоры были долгими и завершились подписанием мирного договора и тайного военного соглашения только 22–23 апреля 1920 г.
67
Сообщение военного атташе в Финляндии полковника Пожерского в главное командование польской армии от 23 июня 1919 г. // РГВА. Ф. 308к. Оп. 1. Д. 645. Л. 11.
68
Сообщение военного атташе в Финляндии полковника Пожерского в главное командование польской армии от 22 июля 1919 г. // Там же. Л. 12.
69
Письмо военного атташе Польши в Финляндии полковника Пожерского полковнику Булак-Балаховичу в Псков от 22 июля 1919 г. // Там же. Д. 647. Л. 12.
70
По информации полковника Пожерского, генерал К. Г. Маннергейм заявил, что Финляндия не предпримет каких-либо шагов против Петрограда, «пока Коалиция не признает во всей полноте независимость Финляндии и не будет гарантировать целостность ее границ». (РГВА. Ф. 308к. Оп. 1. Д. 647. Л. 10).
71
Военно-информационный рапорт военного атташе Польши в Финляндии полковника Пожерского от 22 июля 1919 г. // Там же. Л. 9.
72
Военно-информационный рапорт военного атташе Польши в Финляндии полковника Пожерского «Белая Россия, Северо-Западный фронт» от 15 августа 1919 г. // Там же. Л. 42.
73
Донесение военного атташе в Финляндии полковника Пожерского в главное командование польской армии от 28 августа 1919 г. // Там же. Л. 54. В исторической литературе имеет место иное название этой военной части – «Особый отряд БНР в Прибалтике». См.: Генерал Станислав Булак-Балахович в 1939 году / Публ. А. Кручинина и П. Мицнера // Новая Польша. 2010. № 7–8. С. 69.
74
Лiтвiн А. Генерал Булак-Балаховiч (мiфы, фальсiфiкацыi, рэальнасць) // Сыны i пасынкi Беларусi. Минск, 1996. С. 300.
75
Донесение военного атташе в Финляндии полковника Пожерского в главное командование польской армии от 17 октября 1919 г. // РГВА. Ф. 308к. Оп. 1. Д. 647. Л. 105.
76
Донесение военного атташе в Финляндии полковника Пожерского в главное командование польской армии от 18 октября 1919 г. // Там же. Л. 107.
77
Так С. Н. Булак-Балахович охарактеризовал себя в разговоре с З. Гиппиус (Симонова Т. М. Я зеленый генерал // Родина. 1997. № 11. С. 36).
78
А. И. Деникин вопрос о Восточной Галиции и Холмщине решал не в пользу поляков. В данной ситуации он рекомендовал продвинуть польские войска к Мозырю и верхнему Днепру.
79
Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. 2. С. 345.
80
Там же. Т. 2. С. 331.
81
Там же. С. 336.
82
Там же. С. 330.
83
Там же. С. 416.
84
Там же. С. 339–340.
85
Там же. Т. 2. С. 357.
86
Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. 2. С. 358.
87
Польское общественное мнение левого крыла (социалисты и левое крыло партии народных демократов – «эндеков») пребывало в убеждении, что Антанта возложила всю тяжесть борьбы с большевиками на Польшу, не оказывая ей достаточной поддержки (Там же. С. 359).
88
Там же. С. 369.
89
Там же. С. 348.
90
Деникин А. И. Поход на Москву («Очерки русской смуты»). М.: Воениздат, 1989. С. 101.
91
Лампе А. А. Причины неудачи вооруженного выступления белых // Пути верных. Париж, 1960. С. 49.
92
Деникин А. И. Кто спас Советскую власть от гибели // Деникин А. И., Лампе А. А. Трагедия белой армии. М., 1991. С. 5; Деникин А. И. Польша и Добровольческая армия. Париж, 1926; Валь Э. Г. фон. Как Пилсудский погубил Деникина. Таллинн, 1938.
93
Михутина И. В. Польско – советская война. 1919–1920 гг. М.: ИСБ РАН, 1994. С. 284. См. также: Dokumenty i materialy do historii stosunkow рolsko-radzieckich. Warszawa, 1961. Т. 2. S. 388; Тajne rokowania polsko – radzieckie w 1919 r. materiały archiwalne i dokumenty. Warszawa, 1986. S. 204–205.
94
Выдержка из телеграммы Ю. Мархлевского народному комиссару иностранных дел РСФСР Г. В. Чичерину от 19 октября 1919 г. о переговорах с капитаном Бернером опубликована Ю. В. Ивановым в: Иванов Ю. В. Очерки истории советско-польских отношений в документах 1917–1945 гг. // Наш современник. 2003. № 10. С. 181.
95
Какурин Н. Е. Как сражалась революция. Т. 2. М.: Политиздат, 1990. С. 288–289.
96
Зубачевский В. А. Политика России в отношении восточной части Центральной Европы (1917–1923 гг.). С. 55.
97
Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. 2. С. 373.
98
Начальник польской военной миссии в Сибири майор Окулич доносил в польское военное министерство, что деморализованной и плохо одетой сибирской армии Колчака «грозит полное поражение», усиливается японское влияние, растут симпатии к Германии, а «отношение к полякам недружественное» (Там же. С. 379).
99
Висьневский Я. Войско Польское в Сибири в революции и Гражданской войне в России // Революционная Россия 1917 года и польский вопрос: Новые источники, новые взгляды: Сб. статей польских и российских исследователей. М.: Институт славяноведения РАН, 2009. С. 247.
100
Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. 2. С. 381.
101
ГАРФ. Ф. 6094. Оп. 1. Д. 123. Л. 42.
102
Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. 2. С. 503; Carley M. J. Anti-Bolshevism in French Foreign Policy: The Crisis in Poland in 1920 // The International History Review. 1980. Vol. 2. No. 3 (Jul.). [Электронный ресурс] URL: http://www. jstor. org/stable/40105083 (дата обращения: 10.10. 2010). S. 415.
103
Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. 2. С. 373.
104
Зубачевский В. А. Политика России в отношении восточной части Центральной Европы (1917–1923 гг.). С. 54.
105
Там же. С. 479–481.
106
Черчилль У. Мировой кризис. 1918–1925. Воспоминания. М.; Л.: Воениздат, 1932. С. 185.
107
Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. 2. С. 488.
108
Там же. С. 491; Documents on British Foreign Policy 1919–1939. First Series, Vol. III. P. 672–676, 787.
109
Деникин А. И. Поход на Москву («Очерки русской смуты»). С. 202–203.
110
Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. 2. С. 504.
111
Там же. С. 507.
112
Ф. Фош – с 1918 г. маршал Франции, главнокомандующий войсками союзников.
113
Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. 2. С530.
114
Там же. С. 508.
115
Ленин В. И. Неизвестные документы 1891–1922 гг. М.: РОССПЭН, 1999. С. 371.
116
Заключено 30 января 1920 г.
117
Правительство Латвии в лице членов Национального совета А. Фриденберга, Н. Фогельмана и Ф. Мендеса, поставивших свои подписи под текстом договора, обязалось не допускать вступления солдат и командного состава «неправительственных войск» и Северо-Западного правительства, а также других организаций и групп в правительственную, т. е. латвийскую армию (Документы внешней политики СССР. М., 1958. Т. II. С. 335).
118
Там же. С. 336.
119
По условиям договора Советская республика должна была выплатить Эстонской республике 15 миллионов рублей золотом и безвозмездно передать ей все корабли российского флота, оказавшиеся в руках эстонцев.
120
В контексте советско-польского военного конфликта ключевое значение имел пункт 4-й VII статьи Тартуского договора. Государствам, организациям и группам, находившимся в фактическом состоянии войны с другой стороной, запрещалось перевозить через порты и территорию договаривающихся сторон военное имущество и все, что могло бы быть использовано во вред договаривающемуся государству (Документы внешней политики СССР. Т. II. С. 343).
121
Там же. С. 345.
122
Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. 2. С. 511–513.
123
Там же. С. 518–519.
124
Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. 2. С. 548.
125
Черчилль У. Мировой кризис. М.; Л.: Госвоениздат, 1932. С. 169.
126
Локкарт Р. Б. Ас шпионажа // Сидней Рейли: шпион – легенда ХХ века. М.: Центрполиграф, 2001. С. 115.
127
Там же. С. 116–117.
128
После подавления мятежей в Рыбинске и Ярославле в июле 1918 г. Б. В. Савинков переправился в Петроград, затем в Казань, где поступил рядовым в отряд В. О. Каппеля. Сибирское правительство предложило ему пост министра, но Савинков отказался. А. В. Колчак, свергнув это правительство, назначил Савинкова руководителем военной миссии в Париже и начальником Бюро русской прессы информационно-телеграфного агентства «Унион». В августе 1919 г. он прибыл в Париж, был ключевой фигурой в структурах А. В. Колчака: отчеты о финансовой и административно-хозяйственной деятельности Бюро русской прессы направлялись только на имя Б. Савинкова. Только в декабре 1919 г. «Унион» получил из разных источников 370 тысяч французских франков (в основном безвозмездно). См.: Личный архив Б. В. Савинкова. ГАРФ. Ф. 5831. Оп. 1. Д. 325.
129
Вендзягольский К. М. Савинков // Новый журнал. 1963. № 71. С. 140.
130
В печатных изданиях «Матэн», «Пари Суар», «Журналь де Деба», «Л̓Ордр» и др. (Симонова Т. М. Б. В. Савинков // Общественная мысль Русского зарубежья: Энциклопедия. М.: РОССПЭН, 2009. С. 500).
131
Составленная Б. Савинковым «Памятная записка Российской делегации о политике союзных держав в областях Балтийского края» была подана 13 сентября 1919 г. на рассмотрение в комитет на Версальской конференции.
132
ГАРФ. Ф. 5831. Оп. 1. Д. 412. Л. 3.
133
Впоследствии в автобиографии («На пути к “третьей” России») об этом периоде в своей биографии (сотрудничестве с Колчаком под лозунгом «единой и неделимой» России) Б. Савинков скромно умолчал.
134
Близкий соратник Пилсудского, офицер российской армии, затем – Первого польского корпуса, Игнаций Матушевский на съезде поляков-военнослужащих в России в Петрограде 7 июня 1917 г. предложил избрать Ю. Пилсудского почетным председателем съезда (Волос М. Польская военная организация в России и на Украине в 1917–1918 годах // Революционная Россия 1917 года и польский вопрос: Новые источники, новые взгляды. С. 195).
135
Отчет майора И. Матушевского начальнику государства Ю. Пилсудскому. Не ранее января 1920 г. (РГВА. Ф. 461к. Оп. 1. Д. 146. Л. 75).
136
До эмиграции в 1918 г. – крупнейший сахарозаводчик и фабрикант, президент пяти столичных банков.
137
Принадлежал к числу наиболее известных русских банкиров и фабрикантов. До 1917 г. – председатель правления Русско-Азиатского банка.
138
До эмиграции в 1918 г. – председатель правления Азовского Донского банка.
139
Был «правой рукой» А. И. Путилова, глава крупного банкирского дома в Петрограде «Г. Лесин».
140
РГВА. Ф. 461к. Оп. 1. Д. 146. Л. 80–81.
141
Там же. Л. 84.
142
Juzwenko А. Polska a «biała» Rosja (od listopada 1918 do kwietnia 1920 r). Wrocław, 1973. S. 85.
143
Okulewicz P. Koncepcja «międzymorza» w myśli i praktyce politycznej obozu Józefa Piłsudskiego w latach 1918–1926. Poznań, 2001. S. 50.
144
Ibid. S. 112–113.
145
Wędziagolski К. Pamiętniki. W., 1989. S. 391–395.
146
Grosfeld L. Piłsudski i Sawinkow // Studia historyczne. Księga jubileuszowa z okazji 70 rocznicy urodzin prof. dra Stanisława Arnolda. W., 1965. С. 117–118.
147
К. М. Вендзягольский не только хорошо знал Б. В. Савинкова, но и занимал должность комиссара одной из российских армий в период правления А. Ф. Керенского. См.: Вендзягольский К. М. Савинков // Новый журнал. 1963. № 71; Wędziagolski K. Pamiętniki. W., 1989.
148
Был «правой рукой» А. И. Путилова, глава крупного банкирского дома в Петрограде «Г. Лесин».
149
Донесение английского посланника в Польше Г. Румбольда Дж. Керзону от 23 января 1920 г. (Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. 2. С. 479–480).
150
После высылки Б. Савинкова и савинковцев из Польши по требованию советского полномочного представительства в ноябре 1921 г. газету переименовали – «За Свободу».
151
М. М. Литвинов – заместитель наркома по иностранным делам Г. В. Чичерина.
152
Документальных подтверждений посещения С. Д. Сазоновым Варшавы в этот период времени пока не обнаружено.
153
Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. 2. С. 502.
154
Кроме главных требований: признание восточных границ Польши 1772 г. и независимости Украины, Литвы, Эстонии, а также казачьих республик на Дону, Кубани, Тереке Пилсудский требовал прекращения агитации в соседних государствах; ратификации мирного договора, заключенного на этих условиях Учредительным собранием, избранным путем всеобщего голосования (Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. 2. С. 498).
155
Документы внешней политики СССР. Т. II. С. 427–428; Przegłąd Współczesny. 1936. № 173. S. 49–50.
156
Piłsudski J. Pisma zbiorowe. W., 1937. T. 5. S. 147–149.
157
Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. 2. С. 603.
158
Там же. С. 604.
159
Директивы Главного командования Красной Армии (1917–1920): Сб. документов. М., 1969. С. 629, 674.