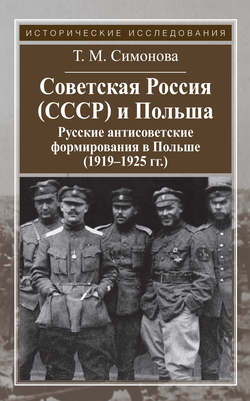Читать книгу Советская Россия (СССР) и Польша. Русские антисоветские формирования в Польше (1919–1925 гг.) - Татьяна Симонова - Страница 8
Глава 2
Русские беженцы (интернированные антисоветских формирований) в польских концентрационных лагерях
Ноябрь 1920 – ноябрь 1921 г
§ 1. Интернирование русских отрядов в польских лагерях
Оглавление30 ноября Б. Савинков в письме Булак-Балаховичу сообщил о решении польского правительства и военного командования применить к бывшим добровольческим формированиям из русских беженцев «особый режим», т. е. считать «свободными людьми» 10 тысяч русских и украинцев, а остальных интернировать в польских концентрационных лагерях. Б. Савинков подчеркнул, что именно он настоял на том, чтобы режим интернирования был применен ко всему контингенту антисоветских формирований без исключения, так как, по его мнению, «русские войска не согласятся на применение к ним различных режимов». Пожелание Б. Савинкова было учтено военным командованием Польши, и решение об интернировании всего контингента добровольцев антисоветских формирований и украинских отрядов в польских лагерях было им принято[382]. Все интернированные лица в Польше получили статус беженцев.
В польском военном ведомстве с лета 1919 г. интернированными лицами считали «гражданских лиц, иностранных или польских граждан, которые по какой-либо причине были арестованы на территории военных действий военными властями». 20 декабря 1919 г. Главное военное командование Польши предписало их «полностью изолировать» от военнопленных, не допускать контактов с гражданским населением, не использовать на работах вне лагерей[383].
В тексте Договора о перемирии и прелиминарных условиях мира между РСФСР и УССР и Польшей, подписанном 12 октября 1920 г., отсутствовало определение каждой из категорий жертв войны, которые находились в этот момент на территории Польской республики. Стороны обязались включить в текст мирного договора положение о взаимной амнистии граждан обеих сторон. Под действие договора подпадали интернированные антисоветских формирований (т. е. беженцы). Специальные смешанные комиссии должны были провести работу по возвращению заложников, обмену гражданских пленных, лиц интернированных, а также военнопленных, беженцев и эмигрантов[384].
В сентябре 1920 г. в лагерях военнопленных на территории Польши приступила к работе представитель Российского общества Красного Креста (РОКК) в Польше С. Семполовская. Представительства РОКК и Польского общества Красного Креста (ПОКК) в России были созданы на основании соглашений между РОКК и ПОКК, заключенных 6 и 17 сентября 1920 г. в Берлине. Кандидатура Семполовской была одобрена на заседании межведомственной комиссии под председательством Ф. Э. Дзержинского 27 сентября[385]. 2 ноября 1920 г., на основании решения второго отдела штаба военного министерства Польши, Семполовская была наделена полномочиями для осуществления опеки и оказания помощи всем категориям российских граждан – «военнопленным, интернированным и гражданским пленным»[386]. В крупных концентрационных лагерях из числа военнопленных были выбраны представители РОКК, которые находились в подчинении у Семполовской.
До ее вступления в должность за положением всего контингента в польских лагерях (в первую очередь – военнопленных красноармейцев) вели надзор международные организации: Международный комитет Красного Креста (МККК) и американское благотворительное общество Христианский союз американской молодежи (YMCA)[387]. С начала 1921 г. опеку над интернированными частями пыталось осуществлять Русское (эмигрантское) общество Красного Креста под руководством Л. И. Любимовой.
В начале декабря интернированных антисоветских формирований стали размещать в концентрационных лагерях. В крупнейших лагерях уже сложилась система контроля над условиями размещения и содержания основного контингента (военнопленных красноармейцев и в незначительной степени – лиц других категорий). В лагере Стржалково, например, находился представитель РОКК и YMCA, там находились склады этих организаций, склад польского военного командования, библиотека для военнопленных (создавали РОКК и YMCA совместными усилиями). Обе организации имели одного представителя из числа военнопленных – Троянова[388].
По данным Семполовской, в конце 1920 г. в Польше находилось «около 180 тысяч военнопленных», из числа которых около 50 тысяч человек перешли в антисоветские формирования[389]. Глава советской делегации на мирных переговорах в Риге А. А. Иоффе сообщал в декабре из Риги в НКИД, в Польское бюро при ЦК РКП (б) и в Центрэвак, что провести грань «в определении разных категорий» российских граждан в польских лагерях очень трудно: «Положение пленных, интернированных, политических заключенных и беженцев крайне тяжело»[390].
Поисками дотаций на содержание интернированных добровольцев занялся председатель РПК Б. Савинков. 2 декабря 1920 г. он направил телеграмму главнокомандующему Русской армией Врангелю, в которой сообщал о разоружении личного состава русских частей в Польше (НДА, 3РА, казачьих отрядов). Согласно его интерпретации событий, армия «показала полную боеспособность и доблесть» и «в упорных боях потеряла до 25 %» личного состава. Под предлогом необходимости «сохранить жизненную силу армии» Б. Савинков запросил на содержание интернированных офицеров и солдат 5 миллионов французских франков, в связи с тем что «недостаток средств не позволял полякам взять на себя содержание на солдатском пайке и уплату жалования всем офицерам и добровольцам»[391].
4 декабря Б. Савинков обратился к начальнику французской военной миссии в Польше генералу А. Нисселю[392] с просьбой ходатайствовать перед «соответствующими властями в Париже» «об оказании материальной помощи» чинам интернированных армий. Он подчеркнул при этом, что 3РА «была подчинена генералу Врангелю» и являлась «составной частью вооруженных сил Юга России, временно действующих на Западном фронте»[393].
В тот же день председатель РПК отправил письмо Н. В. Чайковскому с просьбой поддержать ходатайство Нисселя о помощи интернированным чинам 3РА и НДА «перед соответствующими властями Франции»[394]. Затребованная им сумма дотаций возросла до 10 миллионов французских франков. По словам Б. Савинкова, в случае выделения французами средств поляки смогли бы взять на свое содержание 5 тысяч человек[395].
Формально обязательства по содержанию недавних союзников руководство Польши сложило с себя сразу. 7 декабря министр иностранных дел Польши Е. Сапега направил следующую инструкцию в польское посольство в Париже: «Польша, как только возможно точно, выполняет условия прелиминарного мира от 12 октября, т. е. с момента обмена ратификационными документами прекратила всякую помощь частям, воевавшим против большевиков»[396].
Судьба почти 30 тысяч человек (включая интернированных армии УНР) могла оказаться плачевной – интернированные в польских лагерях офицеры и солдаты антисоветских формирований, имея статус беженцев, могли быть обречены на полное вымирание, поскольку государственная система опеки беженцев в Польше отсутствовала. Международные благотворительные организации (МККК и YMCA) не имели достаточных средств; русские генералы, как правило, средства выделяли исключительно на цели поддержания своих военных отрядов. В этой ситуации «правая рука» Б. Савинкова, Д. В. Философов, срочно отправился в Париж, где предпринял все возможные усилия по добыванию средств на содержание интернированных антисоветских формирований «от французов или из наследства Врангеля». Однако средств на содержание этого отработанного человеческого материала ни командование Русской добровольческой армии, ни французское военное руководство не выделили[397].
Председатель союзного Военного комитета в Версале маршал Ф. Фош отправил в МИД Франции ходатайство генерала Нисселя о предоставлении русским отрядам на польском фронте «пропорциональной части фондов, выделенных для беженцев армии Врангеля». В ответ на это 15 декабря департамент политических и торговых дел МИД Франции разъяснил маршалу, что французское правительство не имеет таких фондов, оно лишь выделило разовый аванс для поддержки беженцев из Крыма, «который должен быть погашен»[398].
Формально 15 декабря 1920 г. савинковский РПК был распущен, но в тот же день был создан Российский эвакуационный комитет (РЭК) во главе с тем же Б. Савинковым. Его заместителем был назначен Философов, в состав комитета вошли: бывший министр при Украинской центральной раде Д. М. Одинец, члены бывшего РПК В. В. Уляницкий, А. А. Дикгоф-Деренталь, В. Португалов, Н. К. Буланов, секретарем стал А. Смолдовский[399]. Попытки какой-либо самостоятельной деятельности эвакуационного комитета по устройству в Польше оказавшихся не у дел почти 15 тысяч русских офицеров и солдат были сразу пресечены руководством военного министерства. 22 декабря Б. Савинков получил следующее распоряжение из второго отдела штаба военного министерства:
В ответ на Ваши обращения № 1117 от 01 декабря и № 1168 от 07 декабря с. г. ставлю Вас в известность, что все российские военные из армий генералов Балаховича и Пермикина должны находиться при своих частях в местах их расположения, т. е. в концентрационных лагерях. Они не могут использовать помещения на пункте эмиграционного этапа «Юр»[400] в Варшаве на Повонзках.
Поскольку военные из частей генералов Балаховича и Пермикина находятся в Варшаве, то они должны обратиться в командование г. Варшавы или на центральный сборный пункт. Оттуда, после установления причины их нелегального пребывания в Варшаве, они будут направлены в места дислокации интернированных российских частей.
На основании приказа военного министра, и. о. начальника отдела – Ульрих (майор)[401].
В тот же день майор Ульрих направил во второй отдел командования военного округа и в командование г. Варшавы следующий приказ со ссылкой на приказ военного министра Польши:
В последние недели, особенно после завершения военной акции украинской армии и добровольческих российских частей, стал заметен наплыв российских и украинских военных в Варшаву. Многие из них любыми нелегальными путями добывают проездные документы для приезда в столицу.
Другие, вследствие недостаточного надзора, покидая концентрационные лагеря, также приезжают в Варшаву. Все это, с одной стороны, ослабляет авторитет польских властей, осложняет ситуацию в столице с точки зрения их снабжения и размещения. С другой стороны, создает нездоровую политическую обстановку в самой столице, которая стала центром российской, украинской и белорусской эмигрантской политики, а также центром всякого рода интриг военно-политического характера.
Замечено, что некоторые офицеры из частей генералов Балаховича и Пермикина незаконно носят мундиры офицеров польской армии, как, например, некий «поручик» Казимир Брат-Михайловский, 1898 г. р., происходит из Минска; Марианн Ковнацкий, 1892 г. р., «поручик», уволенный из польской армии, и т. п.
Существуют также нелегальные бюро и военные комитеты, например, на ул. Хлодней, к которым власти относятся чрезмерно лояльно. Наблюдение за этими миссиями, бюро, белорусскими и украинскими военными комитетами в Варшаве установило, что некоторые из находящихся в столице российских и украинских военных занимаются шпионской работой в пользу большевиков и немцев.
В связи с вышеизложенным, рекомендую усилить контроль над находящимися в Варшаве российскими и украинскими военными. Особенно рекомендую потребовать надлежащей регистрации всех военных, как польских, так и прочих, с целью предупредить незаконное использование польского военного офицерского и солдатского мундира теми, кто не принадлежит к польской армии.
Российским военным из частей Балаховича и Пермикина и украинским частям необходимо запретить пребывание в Варшаве и направить их в концентрационные лагеря, при этом: военные части армии генерала Пермикина – в лагеря в Торуни и Лукове, украинские части – в Ланьцут или Калиш. Личный состав дивизии есаула Яковлева – в лагерь в Сосновце, военные части генерала Балаховича – в лагерь в Щепёрно[402].
Интернированных антисоветских формирований разместили в перечисленных майором Ульрихом лагерях. Несмотря на то, что они имели статус беженцев, всем военным частям разрешили сохранить строевое и военное деление. В лагерях были образованы «районы», назначены их начальники, которые в местах размещения получили права начальников дивизий. В каждом «районе» назначался комендант, дежурный офицер и интендант. Интендант принимал продукты непосредственно от польских властей, распределял их, сдавал оружие, регистрировал женское население лагерей, выполнял прочие обязанности.
26 декабря 1920 г. был утвержден состав Особой комиссии, в которую вошли чины бывших армий (3РА, НДА) и представители РЭК. Комиссия подчинялась Демобилизационной комиссии РЭК и ведала учетом имущества бывших армий, а также вопросами содержания больных и раненых в госпитале, устройства семейных, увольнения из армии и проверкой отчетности. Особая комиссия установила нормы денежного содержания интернированным лицам: солдатам полагалось 350 польских марок в месяц, младшим офицерам – 1600, ротным командирам – 2500, командирам батальонов – 3000, командирам полка и помощникам начальников дивизии – 4000, начальникам дивизии – 5000[403].
Для общего руководства всем контингентом интернированных антисоветских формирований при РЭК были созданы Военный совет (совещание) по делам интернированных и Управление по делам интернированных (Упин), которое первоначально возглавил Б. Савинков. Своим заместителем он назначил Д. М. Одинца[404], который занимался практической работой и выполнял функции начальника Упин. 7 января 1921 г. был сформирован штаб Упин с отделами: строевым, административным, снабжения, санитарным, трудовой помощи во главе с М. Росселевичем.
Во всех лагерях размещения интернированных лиц командиры групп приступили к организации курсов и школ для занятий с офицерами и солдатами. Повсеместно были избраны суды чести, в войсковых частях – обер-офицерские, в гарнизонах – штаб-офицерские. Специальная комиссия занялась проверкой дел лиц, подлежащих удалению из состава армии (мошенники, спекулянты, грабители, погромщики, а также высшие офицеры германофильской ориентации). При запасных частях армии образовали резерв чинов, куда могли быть зачислены все желающие поступить на службу в 3РА.
При РЭК было создано секретное Информационное бюро (Информбюро), во главе которого встал Виктор Савинков, младший брат председателя РЭК. В документах РЭК задача Информбюро была охарактеризована двумя словами: «разведка и контрразведка». Агенты Информбюро вербовались из числа интернированных в лагерях и подчинялись В. Савинкову, который, в свою очередь, отчитывался перед вторым отделом штаба военного министерства Польши и получал оттуда субсидии. Именно второй отдел штаба выдавал разрешения на переход агентами границ Польши с Советской Россией, Литвой, Латвией, Эстонией и Румынией. Уже в январе из числа интернированных солдат и офицеров сформировалась агентурная сеть Информбюро, которая к маю 1921 г. расширилась втрое. Если в январе второй отдел выдал разрешения на переход границы Польши для 23 человек, то в мае – для 62 человек[405].
Где и как агенты добывали информацию в этот период работы и насколько она была достоверной, из материалов архива второго отдела штаба военного министерства установить невозможно. Однако В. Савинков регулярно поставлял в польскую разведку информацию о партизанских отрядах в Белоруссии, о повстанческом движении в России, сводки о политическом и экономическом положении в Москве, Петрограде, Минске, в Финляндии. В подборках документов Информбюро имеют место копии карт дислокации разных частей Красной армии, копии документов разного рода учреждений Советской России[406].
В январе 1921 г. при участии полковника польского Генштаба С. Довойно-Соллогуба состоялся первый съезд представителей антисоветских формирований из России (Белоруссии и Украины) и сопредельных стран (Финляндии, Латвии, Эстонии). «Вопросов существенных не разбиралось и планов пока никаких не намечалось», – показал позже на Лубянке присутствовавший на съезде полковник Орлов. Но на лето 1921 г. были намечены «большие военные действия для свержения советской власти». Польский полковник сообщил присутствующим на съезде, что правительство Польши обязалось оказать дополнительную материальную поддержку РЭК, кроме уже выплаченных Б. Савинкову 15 миллионов польских марок[407].
12 января 1921 г. Военный совет РЭК упразднил 3РА и НДА до момента окончания их реорганизации и «сведения в одну Русскую армию». Армии были переименованы в отряд № 1 (НДА) и отряд № 2 (3РА). Командиром первого отряда был назначен генерал-майор «Булак-Балахович 2-й»[408], командиром второго отряда – генерал-майор Б. С. Пермикин[409]. Штабы бывших армий на период реорганизации сохранялись, но переименовывались в «отрядные» штабы. Представительства бывших армий в столице Польской республики подлежали упразднению, но командующие армиями сохраняли при себе адъютантов. При Упина были созданы «судный отдел», под руководством генерал-майора Ивановского, и «временная военная комиссия по приему, хранению и продаже имущества бывших русских армий» и РПК. Переписка командиров отрядов должна была проходить через штаб Упина[410].
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу
382
Письмо Б. Савинкова С. Булак-Балаховичу от 30 ноября 1920 г. // РГВА. Ф. 461к. Оп. 1. Д. 154. Л. 4.
383
Инструкция от 11 июля 1919 г. о порядке транспортировки, регистрации и отправки в концентрационные лагеря военнопленных, интернированных лиц, беженцев и реэмигрантов (Красноармейцы в польском плену в 1919–1921 гг. С. 140).. Интернированные лица оказались в условиях более сложных, чем военнопленные, что вступало в противоречие с положениями, выработанными в Гаагской конвенции 1907 г., о правах и обязанностях нейтральных держав в случае войны.
384
Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. 3. С. 431.
385
Подробнее см.: Симонова Т. М. Советская Россия (СССР) и Польша. Военнопленные Красной армии в польских лагерях (1919–1924 гг.). С. 30–31.
386
РГВА. Ф. 308к. Оп. 10. Д. 277. Л. 235.
387
Согласно отчетам главного секретаря по делам военнопленных YMCA Вильсона, в 1920 г. союз распространял свою деятельность на лагеря Стржалково, Тухола, Вадовице, Перемышль, Модлин, Рембертове, Лодзь. В частности, в осмотре этих лагерей принимали участие представители YMCA: Mr. mr. D. Lowrie, Mc. Bride, Riley, Clyde, F. Gould, R. E. Brady, Asche.
388
Доклад Б. Д. Рыбакова председателю Литературно-агитационной комиссии РЭК от 29 января 1921 г. // РГВА. Ф. 461к. Оп. 1. Д. 176. Л. 13.
389
На современном уровне изучения проблемы ни подтвердить, ни опровергнуть эту цифру мы не можем, поскольку статистика учета количества красноармейцев, перешедших в антисоветские формирования, в настоящее время недоступна, если она вообще существовала (РГАСПИ. Ф. 63. Оп. 1. Д. 199. Л. 17). См. также: Польско-советская война. 1919–1920: Ранее не опубликованные документы и материалы: Сб. док. под ред. И. И. Костюшко: В 2 ч. М.: Институт славяноведения РАН, 1994. С. 95.
390
Симонова Т. М. Советская Россия (СССР) и Польша. Военнопленные Красной армии в польских лагерях (1919–1924 гг.). С. 32.
391
Б. Савинков не имел в этот момент точных данных о количестве интернированных 3РА. В телеграмме Врангелю он указал 10 тысяч человек // Русская военная эмиграция 20–40-х годов: Документы и материалы. Т. 1. Так начиналось изгнанье. 1920–1922 гг. Кн. 2. На чужбине. С. 337.
392
Генерал А. Ниссель в 1917–1918 гг. возглавлял французскую военную миссию в России, хорошо владел русским языком. В 1919–1920 гг. возглавлял французскую военную миссию в Прибалтике. В 1920 г. был назначен на должность начальника французской военной миссии в Польше.
393
Русская военная эмиграция 20–40-х годов: Документы и материалы. Т. 1. Так начиналось изгнанье. 1920–1922 гг. Кн. 2. На чужбине. С. 338.
394
Не имея в этот момент точных данных о личном составе, Б. Савинков сообщил в письме Чайковскому о 20 тысячах человек интернированных.
395
Русская военная эмиграция 20–40-х годов: Документы и материалы. Т. 1. Так начиналось изгнанье. 1920–1922 гг. Кн. 2. На чужбине. С. 340.
396
Письмо министра иностранных дел Е. Сапеги в польское посольство в Париже от 7 декабря 1920 г. // РГВА. Ф. 308к. Оп. 9. Д. 715. Л. 1.
397
Kukułka J. Francja a Polska po traktacie wersalskim (1919–1922). W., 1970. S. 418.
398
Русская военная эмиграция 20–40-х годов: Документы и материалы. Т. 1. Так начиналось изгнанье. 1920–1922 гг. Кн. 2. На чужбине. С. 341.
399
Справка о РПК (РЭК) во второй отдел штаба польского военного министерства от 7 марта 1921 г. // РГВА. Ф. 461к. Оп. 1. Д. 128. Л. 62–64.
400
Сокращение польского названия Управления по делам возвращения пленных, беженцев и рабочих, созданного по инициативе польского Министерства труда и социальной опеки 1 апреля 1920 г. (Urząd dо spraw powrotu Jeńców, Uchodźców i Robotników). См. подробнее: Kicinger A. Polityka emigracyjna II Rzeczypospolitej // Środkowoeuropejskie Forum Badań Migracyjnych w Warszawie – Central European Forum for Migration Research in Warsaw (CEFMR). Working Paper. 2005. № 4. S. 20.
401
Письмо и. о. начальника второго отдела штаба военного министерства майора Ульриха Б. Савинкову от 22 декабря 1920 г. // РГВА. Ф. 308к. Оп. 10. Д. 278. Л. 178. Перевод с польского языка Т. М. Симоновой.
402
Письмо и. о. начальника второго отдела штаба военного министерства Польши майора Ю. Ульриха от 22 декабря 1920 г. Документ был разослан по следующим адресам: 2-й отдел командования Генерального округа, командование г. Варшавы, Центральный сборный пункт в Варшаве, командование 1-го батальона жандармерии в Варшаве (РГВА. Ф. 308к. Оп. 10. Д. 278. Л. 179. Перевод с польского языка Т. М. Симоновой).
403
Приказ по гарнизону лагеря Щепёрно № 10 от 26 декабря 1920 г. // ГАРФ. Ф. 5802. Оп. 1. Д. 1496. Л. 19 об. Анализ документов свидетельствует, что эти суммы никогда не выплачивались.
404
Приказ № 3 интернированным на территории Польши войскам от 12 января 1921 г. // РГВА. Ф. 460к. Оп. 1. Д. 3. Л. 115–115 об.
405
РГВА. Ф. 461к. Оп. 1. Д. 138. Л. 11.
406
Там же. Л. 1–34.
407
Из показаний полковника Орлова // Борис Савинков на Лубянке. Документы. С. 239–240.
408
Младший брат С. Н. Булак-Балаховича, Юзеф.
409
РГВА. Ф. 460к. Оп. 1. Д. 3. Л. 115–115 об.
410
Там же. Л. 116–116 об.