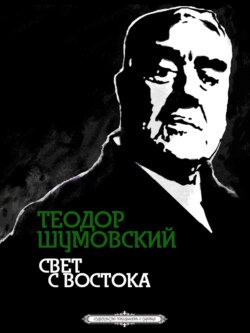Читать книгу Свет с Востока - Теодор Шумовский - Страница 8
Книга первая
У моря арабистики
Школа Крачковского
ОглавлениеВ беседах со мной Юшманов не раз упоминал имя Крачковского. Академик-арабист, филолог, автор множества работ, неутомимый исследователь и тонкий знаток средневекового Востока, Игнатий Юлианович был, по словам моего учителя, тем человеком, школу которого должен пройти каждый дерзающий стать арабистом. «Это высший авторитет в нашей области, – добавлял Николай Владимирович, – а ведь еще не стар и, к счастью, живет в Ленинграде».
Слово «академик» наполняло меня смущением и трепетом. Воображению представлялся всезнающий и почти бесплотный жрец, полубог, который вряд ли снизошел бы до разговора с простым студентом-провинциалом, едва осилившим арабские буквы. Однако дерзостное желание учиться у первого арабиста страны, перенять хотя бы частицу его знаний и опыта, вспыхнувшее и росшее е каждым днем, родило во мне мечту познакомиться с ним. Но как это сделать и с чего начать разговор, чтобы привлечь внимание этого, вероятно, уже пресыщенного всеобщим преклонением человека? Что есть у меня за душой, чтобы, говоря с ним о предмете, известном ему вдоль и поперек, я мог тронуть его сердце, отметиться в нем хотя бы неясной тенью? Шутка сказать, мировой ученый – и студент, гигант – и карлик… Но ведь нужно же, нужно, школы Юшманова уже начинает не хватать: он – языковед, грамматист, а меня все больше интересуют поэзия, география, история, то есть в конечном счете именно история, ведь все другое вызвано ею, развито ею, отмечено ее печатью…
Случай для знакомства вскоре представился. Подрабатывая в должности библиотекаря на факультете, я однажды увидел, что заведующий книгохранилищем, желая избавиться от «всякого хлама, накопившегося на полках», бросил в мусорную корзину несколько ветхих книжек. Мне показалось, что среди них мелькнул какой-то арабский текст. Когда заведующий вышел, я обнаружил в корзине тетрадку с двадцатью двумя пронумерованными страницами; на каждой в двух столбцах было напечатано по-арабски и по-латыни. Титульный лист гласил: «Арабский Коран», и далее сообщалось имя издателя, место и год издания: Николай Панеций, Рим, 1592.
Я ахнул и побежал к висевшему у входа в институт старинному телефону, покрутил ручку, назвал номер абонента…
– Слушаю, – прозвучал в трубке свежий молодой голос. – «Наверное, сын», – подумал я и, волнуясь, произнес:
– Можно попросить к телефону академика Крачковского?
– Это я, – ответил голос. – Что вам угодно?
Я растерялся и сбивчиво рассказал о своей находке.
– Ну, что же, это интересно, – сказал Крачковский. – Если можете, приходите ко мне, посмотрим с вами сей уник…
Спокойный теплый тон и приглашение ободрили меня. Минут через десять стремительного хода по набережной я уже был в старом академическом доме на Седьмой линии Васильевского острова, у двери с медной именной дощечкой.
– Пожалуйте, – негромко проговорил Крачковский. Передо мной стоял человек среднего роста с окладистой седеющей бородой, окаймленной пышными усами, с живым внимательным взглядом и мягкой, чуть застенчивой улыбкой. Его свежее лицо, едва тронутое первыми морщинами, светилось таким радушием, что робость моя стала отступать, и я уже довольно непринужденно представился.
– Ах, так вы студент Николая Владимировича! – Глаза Крачковского потеплели. – Что же, очень хорошо, у него есть чему поучиться… Так что вы принесли?
Я подал ему тетрадку, и мы прошли в кабинет. Игнатий Юлианович стал рыться в каких-то справочниках, а я, усаженный на диван, стал несмело осматриваться. Вот это библиотека! Все четыре стены сверху донизу в книжных полках. Мерцают серо-желтые пятна бумажных обложек, тускло светится позолота букв на корешках томов… Книги, книги… Толстые, тонкие, высокорослые, маленькие, тесно жмущиеся одна к другой книги… Здесь вся арабистика, опыт и мысль поколений. Не ее ли символы – бронзовый всадник в углу, стремящийся в неизвестное, и вечнозеленые листья фикуса поодаль? А посреди комнаты, освещенной двумя окнами, стол – просторный и строгий стол ученого, за которым столько написано и столько еще будет создано, стол…
– Ну вот, все правильно, – сказал Крачковский, отходя от полки, у которой он перелистывал какой-то старый том. – Да, этот Николай Панеций… Вот тут написано, что он задумал издать весь Коран в подлиннике с латинским переводом. Но, может быть не без влияния католической церкви, субсидии не получил, а своих денег не хватило… Ему и пришлось напечатать всего двадцать две страницы, эта цифра здесь указана, а потом прекратить издание. Так что дальнейшего текста и не было, но хорошо, что сохранилось то, что вы принесли, любопытная находка через три с половиной века…
Потом он подробно расспрашивал меня о моих занятиях, а на прощание подарил экземпляр своей книжки «Шейх Тантави, профессор С.-Петербургского университета».
Это было 29 марта 1934 года. Спустя много лет я прочитал:
«Моя книжка о Тантави вышла в начале 1930 года. Не всем она почему-то понравилась, но меня утешило то, что арабисты и арабы, а особенно земляки шейха, ее оценили и нашли для нее теплое слово. Я много пережил, пока работал над нею. До сих пор, когда меня спрашивают, какие из своих работ я считаю достойными памяти в науке, я всегда называю только четыре книги: о дамасском веселом поэте, что был зазывалой на фруктовом рынке, об изящной сатире мудрого слепца, поэта-философа из Сирии, о теории поэтического слова, которую создал эмир, поэт и тонкий филолог, что на свое несчастье пробыл один день багдадским халифом, и последнюю – о египетском шейхе, профессоре в Петербурге. Но иногда мне кажется, что больше всех я почему-то люблю именно последнюю, и часто я открываю ее, чтобы посмотреть на портрет того, о ком идет в ней речь».
Любимое детище Крачковского и сейчас стоит на моей книжной полке, и я по временам тихо перелистываю ее страницы, вспоминая невозвратный и незабываемый мартовский день.
Лекции Крачковского были для меня отличны от остальных. Дело не в предмете – литература не интереснее других областей знания, и курс ее не может оставить неизгладимое впечатление, если цитируемые стихи переводятся прозой и на всем лежит налет экзотичности. Дело было в манере чтения. Крачковский читал ровным, спокойным голосом, неторопливо и уверенно, лишь изредка взглядывая в разложенные перед ним бумажки. Казалось, сама история, перекипевшая и стихшая с веками, остудившая свои страсти раздумьем зрелых лет, с улыбкой оглядевшая и оценившая их с позднего порога жизни, вложила эти хладнокровие и трезвую рассудительность в уста ученого…
«Вот идеал! – думал я. – Да, исследователь должен быть невозмутим, лишь тогда каждое слово его снизойдет откровением». Лишь много лет спустя я понял, что заблуждался. Ученый – нет, он не бесстрастный летописец, он трибун. История не умирает, она переливается из формы в форму; ученый – не свидетель, а живой участник ее, творящий умы ее творцов. Как же можно творить не страдая, вновь и вновь не переживая того, о чем говоришь, не чувствуя каждым нервом пульс истории прошлой и современной?! Не бесстрастность, а пламень, не покой, а опустошенность, ибо все передал другим…
В 1935 году, окончив третий курс исторического факультета, я перешел на «арабский цикл» при семито-хамитской кафедре и таким образом оказался на третьем курсе филологического факультета. Кое-что из-за разницы в программах мне пришлось основательно подгонять, но к концу курса я выправился. Не сказать, чтобы это было легко, но постоянное доброжелательное внимание преподавателей, всегда готовых прийти на помощь и уже ждавших от тебя помощи другим, настораживавшихся при трудностях, каких немало у студента, и радовавшихся каждому его успеху, вдохновляло и стремило вперед.
Новый курс лекций Игнатия Юлиановича – «Арабская историческая и географическая литература» – потребовал большой самостоятельной работы; но именно в этом первом, трудном году на другом факультете я, по просьбе заведующего нашей кафедрой ассириолога Александра Павловича Рифтина, продолжил «в расширенном варианте», то есть при большем количестве участников, свои прошлогодние дополнительные занятия со студентами, отстававшими по арабскому языку. В этот же период начались мои посещения заседаний ленинградской Ассоциации арабистов. Впервые порог Института востоковедения Академии наук, где она собиралась, я переступил 23 марта 1935 года, когда слушался доклад Д. В. Семенова «Взгляды французских ученых на современное положение арабского языка и его будущее».
Ассоциация арабистов, просуществовавшая всего четыре года, с 1934 по 1938, была полезной научной организацией, где исследователи общались и, учась друг у друга, совершенствовали свое мастерство. Доклады по разным отраслям арабистики, вызывавшие оживленные споры, расширяли кругозор и создавали активную творческую атмосферу. Стараясь не пропустить ни одного заседания, – они происходили 11-го и 23-го числа каждого месяца, – притихший, я сидел за длинным черным столом рядом с именитыми учеными, жадно вслушиваясь в слова докладов, стараясь определить свою позицию в диспутах. Вот что было трудно! Слушаешь одного – он говорит так веско, так убедительно, что уже готов с ним согласиться. Слушаешь его противника, выкладывающего свои знания и логику, – и думаешь: «Так ведь он прав, я бы сказал то же». Конечно, с университетским ли неполным багажом формировать научное суждение? Нужно было много, очень много читать сверх программы, и я стал читать все, что мог найти в библиотеке, где работал.
В 1936 году я впервые выступил в заседании Ассоциации. Трудно следить за своими мыслями, когда к тебе обращены лица мастеров науки, когда десяток зрелых умов взыскательно сверяет твои слова с истиной. Но и здесь, как и на кафедре, помогло строгое, но теплое доброжелательство старших. Смущение отступало, когда я видел, с каким вниманием слушает меня сам Крачковский, как ободряюще улыбается мне лингвист Семенов, как, напряженно глядя в мое лицо, задумывается историк Ковалевский… Конечно, много было в моих словах незрелого, претенциозного, они это видели и делали на это скидку, но ведь главное, что уже начали складываться самостоятельные суждения, значит, есть что совершенствовать…
Крачковский был душой, spiritus movens[2] Ассоциации арабистов. Ее председатель, он был в то же время самым деятельным и авторитетным из ее членов. Его доклады, насыщенные громадной эрудицией, открывавшие новые горизонты в, казалось бы, давно и хорошо изученных областях, его блистательные переводы ново-арабской прозы аудитория, состоявшая не только из его зрелых и молодых учеников, но и из представителей других востоковедных специальностей, слушала, боясь проронить слово. Ему принадлежали регулярные ежемесячные библиографические обзоры – ведь он, связанный со многими учеными и писателями Запада и Востока личным знакомством, получал такие издания, которые не всегда имелись в библиотеках, и, кроме того, пристально следил за всей арабистической литературой, и я удивлялся, как он успевает прочитать такую уйму разноязычных книг, готовить одно за другим обстоятельные сообщения и быть в состоянии ответить на любой вопрос по чужой работе.
Да, это был подлинный академик, первый среди равных, занявший место руководителя научного коллектива благодаря наибольшим знаниям, наибольшему опыту, наибольшей научной активности и наибольшему такту. К этому нужно добавить, что Игнатий Юлианович был необыкновенно точен: скрупулезно выполнял свои обещания и берег время. Помню, я как-то получил извещение о заседании Ассоциации, назначенном на семь часов вечера, но смог прийти в Институт востоковедения лишь в десять минут восьмого; меня утешала мысль, что наши факультетские собрания всегда начинаются с получасовым опозданием. Против ожидания, коридор, где обычно толпились «ассоцианты» перед началом заседания, был пуст, а у плотно прикрытой двери в зал сидел со строгим, непроницаемым лицом старый служитель Брядов.
– Что вам будет угодно? – спросил он, оглядев меня с головы до ног. Я смешался.
– Тут… заседание должно было быть… Ассоциация арабистов…
– Так ведь заседание уже идет, – сказал Брядов и посмотрел на стенные часы. – Вон уже осьмой час, а Игнатий Юлианович всегда приходят без пяти семь, а в семь все уж на местах и все начинается…
Красный от смущения, я неслышно приоткрыл дверь в зал, на цыпочках прошел к месту за столом и потом уж никогда не опаздывал.
⁂
Моей первой самостоятельной работой было выполненное на третьем курсе небольшое исследование с громким названием «Арабская картография в ее происхождении и развитии». Непосредственным поводом для раздумий в этой области явилось то, что я случайно наткнулся на литографированное издание лейденской рукописи сочинения по всемирной географии, написанного в Х веке путешественником Истахри. Цветные карты, представлявшие набор геометрических линий и фигур, сразу стали манить мысль. Почему столь странно изображали географы эпохи расцвета мусульманской державы тогдашний мир, как отразились на картах их знания, полученные в странствиях, воспринятые от заезжих купцов и ученых? Своими первыми предположениями я поделился с преподавателем классического арабского языка В. И. Беляевым, который, как я слышал, сам интересовался географической литературой. Виктор Иванович неопределенно хмыкнул, потом сказал, что тема это большая и не моими силами ее поднять.
– Попытаться, конечно, можно – добавил он, снисходительно усмехнувшись, – пробуйте.
Крачковский, когда я поведал ему о своем опусе, пристально взглянул на меня и произнес:
– Ну что ж, это труд полезный. Только сходите в Публичную библиотеку, там есть «Monumenta cartographica Africae et Aegyptae»[3] Юсуфа Кемаля… Вы еще не видели этого издания? Оно каирское, обязательно посмотрите его для своей работы… Потом приходите к нам, в Институт востоковедения: там нужно познакомиться со всеми выпусками «Маррае Arabicae»[4]. Это Конрад Миллер, Штутгарт, 1926 год… Дело вам предстоит трудоемкое, но тема этого стоит…Вера в мои силы, сквозившая в этих спокойных и строгих словах, окрылила меня. Сколько дней после этого, урывая каждый свободный час, я просидел над атласами арабских карт, сколько новых мыслей они родили! Так появился доклад, прочитанный в студенческом кружке при кафедре, потом я переработал его в статью. С рекомендацией Крачковского она была принята к печати Географическим обществом.
Читая работы Игнатия Юлиановича, написанные безукоризненным, чуть романтическим стилем, любуясь тонкой обработкой в них филологических деталей, я чувствовал, что мне все больше претит неряшливость, которая нередко бросалась в глаза при знакомстве с иными публикациями: давнее, с детства росшее ощущение, подсознательное до времени, становилось четким. Так возникли два следующих моих этюда: «О карте арабских торговых путей в БСЭ», где были даны поправки к транскрипции географических названий, и «К вопросу об идентификации двух мусульманских карт в русском переводе «Сафар-намэ» Насира-и Хусрау» – в этом случае речь шла о более серьезных ошибках, допущенных известным ученым; занятия арабской картографией помогли мне увидеть то, мимо чего прошел этот крупный специалист в другой области, и я счел своим долгом публично восстановить истину. Обе статьи, опять с отзывами Крачковского, заняли свое место в редакционном портфеле Института востоковедения. Счастливый, я уже думал о будущих темах, еще не видя большой, единственной, той, которая может наполнить своим светом всю жизнь человека в науке.
Осенью 1936 года Крачковский спросил меня:
– Вы бы не хотели в свободное время писать библиотечные карточки на арабские книги нашего института? И библиотеке, и вам была бы от этого польза… – Помолчал, потом добавил: – Вы-то готовите себя в исследователи, и вам, поди, будет по молодости лет скучновата техническая работа. Но для исследовательской деятельности нужно, не в последнюю очередь, уметь разобраться и в книге, и в рукописи, я и сам когда-то отдал этому немало времени. А в последние годы столько дел набежало, что не всегда доходят руки до карточек, а писать их надо, и я занимался бы этим с удовольствием…
Так я впервые пришел в Арабский кабинет Института востоковедения Академии наук – высший центр страны в области моей специальности. Кабинет помещался в небольшой комнате на последнем этаже академической библиотеки; за широким окном виднелась пустынная площадь, упиравшаяся в задний фасад университета, и бежала к Неве серая лента Менделеевской линии – булыжник, окаймленный старинными тротуарчиками из квадратных потрескавшихся каменных плит. Вдоль стен кабинетского помещения стояли потемневшие от времени шкафы, хранившие арабистическую литературу: тома «Энциклопедии ислама», европейские издания арабских средневековых текстов по истории, географии, точным наукам и даже музыке; были тут и стихотворные сборники, и труды о Коране, и словари, словари, словари: арабские толковые – массивные с мелкой печатью, европейско-арабские, специальные, дополнительные, компактные, многотомные…
«Возможно ли все это узнать одному человеку?» – думал я, с благоговейным трепетом вглядываясь в корешки книг, испещренные разноязычными названиями. Тем большее преклонение вызывали во мне сотрудники кабинета, ежедневно общавшиеся с окружавшими их книжными сокровищами: худощавый, серьезный Андрей Петрович Ковалевский, изучавший рукопись, где автор Х века Ибн Фадлан рассказывал о своем путешествии из Багдада на Волгу; Даниил Владимирович Семенов с полным добродушным лицом под гладкой седой прической, писавший работу об арабском синтаксисе; Яков Соломонович Виленчик, узколицый, с пытливыми неулыбающимися глазами за стеклами сильных очков, трудившийся над своим громадным словарем народного языка Сирии и Палестины. Три кандидата наук, уже работавшие над докторскими темами, они были немногословны, внутренне сосредоточены, целеустремленны; нередко засиживались за работой до позднего вечера – мягкий свет зеленых абажуров и сейчас стоит в моей памяти…
Вечерние часы, тихие и вдохновенные… После суетливого институтского дня они были часами, когда, оставаясь наедине с книгами, рукописями и мыслями, человек более всего чувствовал себя ученым и многое сложное становилось ясным и простым. Ко мне все три арабиста сразу отнеслись сердечно и без высокомерия, и я сердцем почувствовал, что нашел в них старших друзей. Семенов, руководивший работой по описанию арабского книжного фонда, терпеливо знакомил меня с мельчайшими, малозаметными деталями, важными для истории книги, и никогда не выговаривал мне за ошибки, а, добродушно улыбаясь, исправлял их вместе со мной. С Ковалевским мы ходили обедать в ближайшую столовую, и от него я узнал многое из области и научного, и житейского. Виленчик доверительно рассказывал мне о своем не оконченном еще словаре, развивал передо мной гипотезы, делился новыми и новыми замыслами.
Мне было хорошо в этом обществе людей, любивших науку без признаний в любви, но больше своей жизни; собственно, жизнь и наука у них были неразделимы, а раз так, то первая, естественно, принадлежала второй. Впервые тогда мне ясно представилось, какая завидная участь может меня ждать… «Нет, путь не долог, – думал я безмятежно в часы радостей, – остался еще один университетский курс, потом аспирантура, защищу диссертацию и…» Ах, юность! Путь оказался долгим и тяжким, и далеко ли я ушел по нему, даже дойдя до высшей ученой степени?..
Бок о бок с большим черным столом, по сторонам которого работали Ковалевский, Семенов и я, стоял стол Крачковского. Игнатий Юлианович приходил по вторникам и пятницам и занимался рядом с нами весь день. К нему можно было в любой час обратиться с любым вопросом; он поднимал от книг усталые, просветленные глаза и отвечал неторопливо и обстоятельно. Его работа ученого проходила на глазах у его учеников, и понемногу, одним раньше, другим потом, передавались от него те черты, которые должен растить в себе исследователь: проницательность и осторожность, разносторонность и собранность, порыв и тщательность, строгость и отзывчивость, дисциплина труда и самоотверженность.
Крачковский был живым идеалом, которому каждый арабист стремился подражать, в котором каждый мечтал увидеть будущего себя. На этом покоилось всеобщее уважение к нему, настолько искреннее, что даже за глаза никто никогда не отозвался о нем плохо. И все-таки иные не любили его, а лишь заискивали перед ним. И все-таки сам предмет поклонения не был свободен от недостатков. Но и через много лет, когда зрелый ум увидел несовершенства этой натуры, сердце не смогло изменить светлому чувству, рожденному годами радостного общения с чистым и мудрым человеком.
10 октября 1936 года на стол ученого секретаря Муратова легло письмо:
«В Институт востоковедения Академии наук. Кафедра семито-хамитских языков и литератур просит разрешить студенту IV курса Арабского цикла т. Шумовскому проходить производственную практику под руководством академика И. Ю. Крачковского в Вашей библиотеке».
Так через два года после начала индивидуальных занятий у Юшманова я стал учеником главы советской арабистики.
Основным предметом моей производственной практики было ознакомление с техникой исследования арабских рукописей. Игнатий Юлианович предложил эту тему, исходя из того простого факта, что каждый арабист, о чем бы он ни писал, должен уметь прежде всего видеть рукопись – тот главный и почти единственный документ, который оставила после себя давно отошедшая историческая эпоха, служащая предметом исследования по общей либо какой-нибудь из частных линий. Рукопись для ученого – всегда живой памятник истории. Глаз исследователя, прежде чем вникнуть в содержание рукописи, отмечает малозаметные детали. Вот крохотная приписка на полях – это знак поздних раздумий автора над своим текстом, а может быть, – это выяснится позже – претенциозное замечание малоискушенного переписчика, либо цитата из другого сочинения, приведенная в подтверждение или опровержение определенного места книги каким-то из ее сменявшихся владельцев, либо… Все разгадки еще впереди. Вот аккуратная каллиграфическая приписка, начинающаяся словами:
«Как сказал, да славится он и превознесется…», – это соответствующий данной мысли автора стих из Корана, то, с чем никто не смеет спорить. А вот заметка под титлом р. д. х. – эти буквы расшифровываются как фраза «Радыя ллаху анху!» – «Да будет доволен им Аллах!», которая ставится после имени первого имама (предстоятеля) одной из крупнейших мусульманских сект – шиитов – Али ибн Абу Талиба; появление в рукописи высказывания этого человека наводит на предположение, что она создана в шиитских кругах, то есть, весьма вероятно, в иранской среде, и это сразу бросает особый свет и на характер сочинения, и на историю рукописи.
Арабист-медиевист вчитывается в полустертые, иногда тщательно зачеркнутые надписи, в затейливую вязь именных печатей владельцев книги, разглядывает бумагу, на которой написан текст сочинения, присматривается к манере письма, очертаниям отдельных букв. Ничто не ускользает от его взгляда, и постепенно, превратившись в своеобразного Шерлока Холмса, он может определить и дату возникновения памятника, отделенную от него рядом столетий, и место переписки, и другие обстоятельства, связанные с историей документа. Так он входит в мир изучаемого произведения, а это позволяет ему проникнуть в содержание памятника, вскрыть его предысторию, распознать его внутренний механизм и благодаря всему этому обогатить ум человечества знанием неизвестных прежде черт истории арабского общества. А лишь совершенное знание прошлого позволяет объективно оценить настоящее и безошибочно строить нужное будущее.
Крачковский учил меня видеть за рукописью мир породивших ее страстей.
Несколько позже, в тяжкие годы войны, оторванный от любимых рукописей и книг, этот большой мастер, склоняясь над книгой воспоминаний о своем сорокалетнем пути в науке, скажет об искусстве арабиста проникновенные, глубоко поэтичные слова: «Работа над рукописями несет свои радости и свои горести, как все в жизни. Рукописи ревнивы: они хотят владеть вниманием человека целиком и только тогда показывают свои тайны, открывают душу – и свою, и тех людей, что были с ними связаны. Для случайного зрителя они останутся немы: как лепестки мимозы от неосторожного прикосновения, закроются их страницы, и ничего не скажут они скучающему взору…»
Коран, сборники стихотворений крупнейших поэтов первых столетий ислама, сочинения по всемирной географии, математические трактаты – сколько произведений арабской мысли прошло передо мною в разноликих рукописных томах, которые приносил на занятия мой учитель!
Но судьба моя была заключена в скромном неприметном томике, который Игнатий Юлианович положил передо мной на последнем уроке, в мае 1937 года.
– Это, как вы видите, сборная рукопись, – сказал он, когда я начал впервые самостоятельно просматривать пожелтевшие страницы. – Разные сочинения разных авторов, даже на разных языках. Вам, конечно, не надо определять каждое произведение. Выберите одно, попробуйте в нем разобраться, потом расскажете о своих наблюдениях. Пусть это будет вам испытанием, посмотрим, насколько вы преуспели…
Так мне довелось наткнуться на три руководства для плавания в разных частях Индийского океана, составленные в стихах неким Ахмадом ибн Маджидом и сохранившиеся в единственном на весь мир экземпляре, который более ста лет назад вошел в состав ленинградского академического фонда арабских рукописей.
Ахмад ибн Маджид… Кто он такой? С чего начинать исследование?
Внешние данные ясны: лощеные листы бумаги со специфическим запахом долгого неприметного тления говорят о том, что рукопись была создана давно и длительное время лежала неподвижно, не обращая на себя ничьего внимания. Случайная дата, запрятанная в недрах текста, или сопоставление нескольких дат, – конечно, если они есть – позволяют хотя бы приблизительно уточнить время написания документа; но для этого надо проработать содержание. Почерк не каллиграфичен; это значит, что переписчик думал не столько о форме, сколько о смысле текста; не следует ли отсюда, что он был близок к морским кругам, в которых родились руководства Ахмада ибн Маджида? Это предположение подтверждается и неравным количеством строк на страницах – от 22 до 481.
А полустишия отделяются друг от друга то простым пробелом, то черными завитками, а то и красными… Нет, не внешняя красота и не холодная симметрия прельщали переписчика. А эти приписки, лепящиеся по краю некоторых страниц то наискось, то боком, то вверх ногами? Они выполнены тем же почерком, что и основной текст, следовательно, принадлежат переписчику. Но так как по смыслу они идут за последней строкой страницы, то это не замечания к написанному, а его составная часть. Значит, переписчик экономил бумагу? Почему? Он был беден, а снимал копию для себя? Стало быть, его интересовали не деньги, которые он мог бы заработать, переписывая чужое сочинение… его интересовало само произведение… Это сразу характеризует и переписчика, и автора, и… и, быть может, в этом обстоятельстве надо искать нить для определения места переписки? Вероятно, там бумага была дорога, значит, ее привозили… привозили издалека…
Мысли сменяются мыслями. И уже отступили все другие заботы, обострившийся взор вглядывается в каждое пятнышко, и ум делает самые смелые предположения. Не все они выдержат испытание временем, но с них начинается ученый. Опаляемый растущим интересом к предмету исследования, он спешит проверить их в процессе разбора содержания рукописи, которое начинает манить его с того мгновения, когда он впервые склонился над старыми листами или даже когда только что услышал о них.
Содержание… Это три – мне уже удалось их разделить – три руководства для лоцманов Индийского океана. Одно, самое большое, описывает морские пути у восточного побережья Африки; второе, поменьше, посвящено «подветренным странам», расположенным к востоку от индийского мыса Коморин; здесь речь идет о плавании в Бенгальском заливе и у берегов Индонезии; третья лоция, самая короткая, говорит о маршруте от Джидды до Адена.
И тут я вспоминаю… Да, да, это было всего два месяца назад, 15 марта, в конференц-зале на Демидовом… Игнатий Юлианович выступал в годичном собрании Географического общества с лекцией «Арабские географы и путешественники» и уже под конец, вскользь, упомянул эти три лоции, эту уникальную рукопись… Даже проецировался снимок первой страницы… Но обо всем этом было сказано так бегло, что я ничего не запомнил, только звучат в ушах слова: «Первая лоция описывает…», «Вторая лоция описывает…», «Третья лоция…» И… да, назывался парижский ученый, обнаруживший в нашем веке забытое произведение Ахмада ибн Маджида, но ничего не знавший о ленинградской рукописи, ученый, раскрывший загадку личности автора, ученый… Как его фамилия? Промелькнула мимо памяти, как многое в жизни, а нужно бы узнать, не спрашивая Игнатия Юлиановича, теперь уже интересно выяснить самому, пусть он удивится, когда я с непроницаемым лицом, как давно знакомое, назову это имя, а потом и труды…
Я полез в «Энциклопедию ислама», боясь ничего не увидеть там для себя, и, к своей радости, нашел большую статью об Ахмаде ибн Маджиде. Подпись под ней сразу напомнила мне имя французского исследователя: Габриэль Ферран. Дипломат, проживший много лет в странах Индийского океана, ученик знаменитого африканиста Рене Бассе, он был незаурядным ориенталистом широкого профиля, посвятившим свою жизнь изучению географической культуры народов и Ближнего, и Среднего, и Дальнего Востока. В 1912 году он, как часто бывает в науке, случайно наткнулся в парижской Национальной библиотеке на две арабские рукописи с мореходными сочинениями Ахмада ибн Маджида и другого лоцмана, Сулаймана из южноарабской области Махра. Увлеченный личностью первого, оставившего двадцать два произведения, тогда как на долю второго приходилось только пять, Ферран, сопоставляя арабские, турецкие и португальские источники, неожиданно установил, что Ахмад ибн Маджид и был тем загадочным Malemo Саna[5] лиссабонских хроник, который в 1498 году провел флотилию Васко да Гамы от Малинди в Восточной Африке до Каликута на Малабарском побережье Индии. Яркий образ восточного мореплавателя вдохновил музу Камоэнша:
В кормчем, суда стремящем, нет ни лжеца, ни труса.
Верным путем ведет он в море потомков Луса.
Стало дышаться легче, место нашлось надежде.
Стал безопасным путь наш, полный тревоги прежде.
Счастливая находка поставила фигуру старого арабского морехода в центре последующих изысканий Феррана. Он издал фотографии обеих найденных им рукописей, предполагая в будущем осуществить их перевод и комментирование. Он опубликовал ряд этюдов, в которых попытался восстановить линии связи между забытой миром океанской навигацией арабов и другими явлениями культуры восточных народов. Он увлеченно – святая сверхувлеченность первооткрывателя! – говорил: «С тех пор как нам открылись арабские источники, турецкий морской свод адмирала XVI века Челеби, который так превозносила наука прошлого столетия, потерял всякое значение». Но он не знал нашей рукописи… Лишь незадолго до смерти, получив ее снимок, угасавший ученый по достоинству оценил место ленинградских лоций в наследии Ахмада ибн Маджида и намеревался их издать. Но не успел, как не пришлось ему полностью осуществить и давно задуманное шеститомное издание памятников средневековой арабской навигации…
– Изрядно вы проштудировали сей предмет, – сказал Крачковский, когда я поделился с ним всем, что прочел и передумал. – Видите, как интересны могут быть скучные с виду рукописи! Но помните, даже после того, что сделал Ферран, здесь еще непочатый край работы, ведь все эти морские вопросы представляют в арабистике неисследованное море, и тут может не хватить целой жизни, чтобы сказать новое слово…
Скромный томик в красном кожаном переплете с застежками и тиснением, хранивший три лоции Ахмада ибн Маджида, за немногие дни успел так прочно войти в мою жизнь, что я уже не мог оторваться от его все еще темных для меня страниц. Работы Феррана помогли отождествить ряд неизвестных географических названий, труды по арабской астрономии постепенно позволяли увидеть за причудливыми названиями звезд известные нам светила, собственные раздумья родили первые выводы о структуре содержания. Осенью 1937 года, вернувшись с каникул, я показал Игнатию Юлиановичу составленное мною предварительное описание рукописи лоций.
2
Движущий дух (лат.).
3
«Картографические памятники Африки и Египта» (лат).
4
«Арабские карты» (лат.)
5
Malemo произошло от арабского муаллим – «наставник» в значения «капитан дальнего плавания», Сапа или Canaqua – тамильская форма санскритского ганика – «звездочет». Malemo Сапа должно пониматься как нарицательное обозначение «мастер судовождения по звездам».