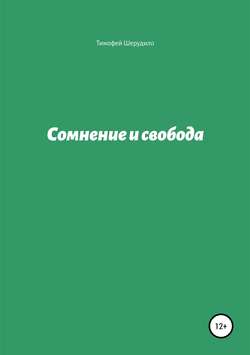Читать книгу Сомнение и свобода - Тимофей Артурович Шерудило - Страница 6
Сомнение и свобода
V
Оглавление***
Человечество ныне искушается властью и страхом. «Чудо, тайна и авторитет» сократились до «власти и страха»; власть – вместо чуда, страх вместо авторитета, тайна же выпала вовсе. И «власть» здесь имеет двоякий смысл: власть над природой и власть над массами, причем чем шире одна, тем сильнее другая. За небывалую власть над природой массы платят небывалым подчинением и понижением уровня. Мы видим оскотинивание, расчеловечивание, развенчание человека на пути к всё большей власти – над природой, над неживыми вещами, над всем, кроме собственной души. Человек, можно даже указать правило, тем более властвует над внешними вещами, чем менее владеет собой. Предел самообладания есть предел мирской нищеты, выход из общества и истории. Государство аскетов едва ли может рассчитывать на продолжительное существование, но и обратная крайность, общество исключительно внешних стремлений, не может быть долговечно. Его единственная скрепа – непрерывное расширение, непрерывное движение во всех направлениях, побольше шума и суматохи, которые внушат гражданам видимость смысла в их жизни. Общество неверующих в смысл жизни может быть только обществом самоубийц…
В последнее столетие мы были свидетелями десятилетий безответственной раскачки человеческой души. Внушали человеку нравственные заповеди, и тут же показывали, что всё дозволено. В сущности, это были судороги гуманизма и «просвещения». От вполне растленного человека требовали и требуют, чтобы он остался христианином в отношении к ближним и гражданином по отношению к государству. Сытые и благополучные проповедники безнравственности полагали, что их сытая и благополучная жизнь останется такой вечно; что они растлят народы, а государство, под сенью которого они живут, останется всё таким же просвещенным и благоустроенным и, главное, безопасным… «Врете, мерзавцы!» Не останется! Государство держится на совести и только одной совестью, во всяком случае, то государство, которое желает быть долговечным. Впрочем, мы опоздали, безнадежно опоздали. Старое начало падать, и будет падать, пока не развалится окончательно. Конец теперешнего культурного мира приблизился, хотя это и не тот конец, о котором говорит Апокалипсис. Кстати, к сведению боязливых надо заметить, что смысл Апокалипсиса не в том, что «будут ужасы», а в том, что будет конец Истории. Без понятия о конце и суде Апокалипсис бессмыслен. Простодушное желание видеть во всяких ужасах признак апокалиптических времен – признак житейского, я даже сказал бы: грубо материалистического понимания Библии, но оно свойственно нашему времени.
***
Общая черта новейшей эпохи – испуг, желание пугать и пугаться. Ясность и прозрачность душевной жизни не поощряется сим временем – не в последнюю очередь, думаю, потому, что человеком с ясной и безбоязненной душой труднее управлять. Легче всего подчинять волю испуганных и смятенных. Побуждения управителей, каким бы родом «народовластия» они ни прикрывались, всегда одинаковы: до предела уменьшить разнообразие личного поведения среди управляемых; согнать как можно больше народу в одно большое стадо или, если это не удастся, в несколько стад поменьше. Власть бережет усилия, дабы не иметь дело с личностью, ведь личность своевольна и упряма. Многими управлять легче, чем одним. Современная власть это знает и никогда и нигде не оставляет человека одного. Что же делать тому, кто не хочет быть испуганным и подчиненным? Сохранять прозрачность и чистоту души несмотря на все усилия власти и тех, кто ей служит. Пусть ищут и находят себе испуганных рабов: мы постараемся остаться свободными.
***
Был над Европой свет и погас… Времена были не менее жестокие, чем нынешние, но европейские народы верили в свое предназначение. Вот чего нет больше: веры в предназначение и смысл, которая никогда не ложна. Только тот, кто верит в себя, чего-то достигает. Не соображения выгоды, не разумные цели, но только безумная вера в свое предназначение ведет народы и личностей к успеху. «Я заблуждался, – говорит Герцен, – думая, что не могу утонуть на переправе. Мог бы; и лучше бы я утонул тогда, со всеми надеждами и всей верой». И что же, старый Герцен был прав, а молодой Герцен ошибался? Но почему? Потому только, что он старше и беднее надеждой? Здесь только одно мнение против другого; и в пользу первого, на мой взгляд, говорит то, что на этой переправе Герцен всё-таки не утонул.
Пока был свет, он придавал миру глубину, вещам необычные очертания, бросал манящие отблески, а главное – сообщал всему перспективу. Свет погас, блики исчезли, и мы тычемся вслепую в те же предметы, что видели раньше в самом соблазнительном свете, в закатных или утренних лучах, с золотой пылью и дивным ощущением новизны… Свет погас, и произошло это как раз тогда, когда «воссиял разум», в Европе XVIII века. Мы только погрузились еще глубже в темные воды; если прежде до нас еще доходил багровый, закатный солнечный свет, то теперь через черную толщу над нами не проходит ни лучика. Мы под темной водой; между нами и смыслом жизни, между нами и полнотой бытия – черная тяжелая вода, плотная ночь, невозможность. Свет погас.
***
Теперь вы никого не убедите в том, что высшие ценности суть действительно высшие, и потому могут требовать себе подчинения от ценностей второстепенных. Преимущество более сложного над простейшим больше не очевидно. Эпоха тяготеет к простейшим мыслям и простейшим формам их выражения, при повседневном увеличении сложности обслуживающих общество машин. Я говорю, конечно, о культуре – именно в ней простое господствует. Всё то, привычка к чему вырабатывается только длительным воспитанием и самовоспитанием, изгоняется из жизни… На место ясных и выработанных понятий, на место лестницы ценностей становится такая шаткая мера, как «успех». Что есть добро? То, что имеет успех. Что есть зло? То, что не имеет успеха… А нужна ли еще кому-нибудь четкость понятий? Или она, как и даруемая четкостью понятий ясность мышления, необходима слишком малому меньшинству, – просто интеллектуальная роскошь? «Четкость понятий и ясность мысли мешают получать удовольствие; удовольствие изгоняет мысль; – так не лучше ли отказаться от мысли?» Так может рассуждать современное большинство. Нельзя сказать, право оно или нет – хотя бы потому, что в решениях относительно себя самой личность всегда права. Но принять мир, отказавшийся от мышления и выражения мыслей, я никогда не смогу.
***
Мир человеческий отличается тем, что созидание в нем всегда ненадолго, а разрушение – навсегда. В этом и состоит сила революций. Защитники некоторого порядка продляют его бытие на заранее неизвестный, но всегда ограниченный срок; противники же – в случае успеха – прекращают его существование навеки. Вторые несомненно сильнее, т. к. обладают бо́льшими возможностями. Чья сила больше – рождающего или убивающего? Конечно, убивающего, потому что рождающий рождает на время, а убивающий – навсегда. Современность знает это и поклоняется убивающим и их силе. – Однако и современность, как всякая другая эпоха, не застрахована от появления вольнодумцев. Вольнодумец сегодня есть человек религиозный, чья оценка вещей не замутнена соображениями силы и выгоды, потому что его положение безвыгодно. Мысль бесприбыльна. Кто хочет быть нравственным, пусть хорошо мыслит – соображение очевидное, но совершенно недоступное известному складу ума, а именно – умоначертанию нашей эпохи, для которого понятие «нравственности», т. е. безвыгодной добротности в духовном смысле, безвыгодной годности, окончательно заменено на выгодную негодность, прибыльную неполноценность духа. Умственное развитие безнадежно уклонилось в сторону. Есть одно правило, или вернее, опытная закономерность: истины, получаемые мыслью, находятся в тесной связи с ее предпосылками и намерениями. Последние выводы мышления определяются системой ценностей мыслящего, и ничем больше. Таким образом, выводы определенного образа мышления – его истины – зависят прежде всего от изначального направления мысли. Определенное направление мысли делает те или иные истины возможными – или невозможными навсегда, как только мысль меняет ход своего движения. Было время смысла и человечности, настало время целей и силы, и нам, вольнодумцам новейшей эпохи, только и остается, что ожидать и готовить новый поворот умов.
***
«Старый порядок», доживший в Европе до 1918 года, с его достоинствами и часто упоминаемыми недостатками – разрушен. Новое расположение сил называется «демократией»; в нем принято видеть одно хорошее, а дурного не замечать. Но надо признаться: государство под властью общества или общество под властью государства – и то, и другое плохо. Удовлетворителен только случай достаточно сильного общества, связанного взаимной необходимостью с достаточно сильным государством; состояние примерного равенства сил и взаимной потребности, как это некогда было. Бесспорно, это шаткое равновесие, и каждая из сторон пытается нарушить его в свою пользу, но все удачные государственные построения являются как раз случаями неустойчивого равновесия. Любое отклонение от середины, в пользу общества или государства, ведет к тирании, только в одном случае это тирания управляемых, а в другом – управляющих. Если нашей (говоря «нашей», я имею в виду христианский мир, как бы мало от него ни оставалось) государственной машине суждено возродиться, то именно на пути к новому неустойчивому положению – ибо процветание и развитие всегда связаны с неустойчивостью и некоторой угрозой. Тирания управляемых не только не лучше всякой другой, но и хуже, по указанной одним писателем причине: «заискивая перед Государем, художник поднимается вверх, заискивая перед толпой, опускается в грязь»… Понижение культурного уровня с оглядкой на «средних» – такое же неизбежное явление при демократии, как равнение на культурный уровень высших при другом строе. Демократия оправдывается только тем, что избавляет своих граждан от угрызающих мыслей о личной неполноценности, о недостатке личной ценности перед другими. Этот вопрос она снимает за счет «уравнения гор», не «наполнения долин». Демократия не устраняет неравенства, но делает его незаметным, что гораздо хуже, т. к. уничтожает благородное желание самосовершенствования и соревнования. Состязание теперь идет только ради накопления и сверхнакопления имуществ; неравенство в этой области не только не затушевывается, но поощряется и выставляется напоказ… Однако духовное содержание государственности, основанной исключительно на имущественных устремлениях, ничтожно.
***
Современность поклоняется слепым богам. Мир и человек представляются ей ведомыми незрячими силами, которые почему-то неизменно ведут к усложнению и прогрессу. В сущности, как уже говорилось не раз, это худшая из всех метафизик: мир в руках слепых богов, которые, однако, из всякого куска глины делают кувшин, из всякого камня статую, из всякой былинки дерево, то есть неизменно ведут мироздание к большему порядку и сложности. И сам Бог отвергается нашей эпохой именно как разумное и сознательное начало. Рационализм этого времени очень странен и сочетается с разнузданным мистицизмом в области бездуховного, какой-то механической чувственностью, которую ничто не судит и ничто не ограничивает. Или это уже и не рационализм, а просто господство техники над культурой как итогом сознательной жизни души? Тогда понятно презрение сего времени к человеку и высшим его надеждам. Одно из следствий такого взгляда, одно из самых печальных, – невозможность, упразднение идеи сознательного строительства культуры. Это неизбежно вытекает из общего взгляда на человека как орудие слепых бессознательных сил. Вся волевая, духовная, сознательная сторона культуры этим опрокидывается, оставляя место бессознательной, инстинктивной, бесконечной и бессмысленной деятельности, уже не ради тех или иных ценностей, но только для того, чтобы избыть не находящие выхода силы. Последним оправданием деятельности в этом новом Вавилоне становится «увеличение человеческого могущества». Однако таким образом понимаемый (а иначе его никогда и не понимали) прогресс – тупик. Снаружи человека ничего нет, и бесконечное расширение возможностей – путь в никуда. Правда и красота внутри нас, и на пути прогресса недостижимы. Дело не в том, что прогресс избрал ложные цели, а в том, что цели прогресса не нужны человеку, и чтобы остаться людьми, нужно противостоять и прогрессу.
***
Одна из черт материализма – подмена внутренних причин внешними, всюду поиск влияний, вообще склонность видеть всюду предметы деятельности без самих деятелей. Мир как набор страдательно терпящих воздействия частиц, вот краткое выражение этого взгляда. Весь верхний слой действительности, содержащий обобщения и смыслы, отбрасывается; разум всё более упражняет свою разнимающую силу, приобретая всё новые частные сведения и всё более теряя представление, даже сознательно отказываясь думать об общем смысле бытия. Подается это как проявление мужества мысли, хотя, по моему убеждению, имеет совсем другую причину. Взгляд на мироздание как набор случайных частиц, терпящих случайные воздействия, крайне неблагоприятен для всего человеческого, означает рассыпание общества и распад души, потому что общество и душа-то совсем не случайны, напротив, упорядоченны сверху вниз. Именно эта упорядоченность души, общества и культуры и падает под тяжестью новой догмы. Исчезают понятия верха и низа, главного и второстепенного, всё объявляется равно достойным, и очень удобной верой оказывается вера в демократию, которая якобы настолько «ценит человеческую личность», что устраняет из обихода все сравнительные оценки, могущие эту личность уязвить. Плохое и хорошее, высшее и низкое, сложное и простое перестают различаться не по детской невинности судящих, но по нежеланию судить. А смысл культуры – именно сито, отбор, возвышение одного и принижение другого. Никакого равенства! 12 И вся культура – «несправедливое» подавление низшего ради высшего, простого ради сложного, «несправедливое» для того, кто ни в оценку, ни в право оценивать не верит. Культура есть великая противоположность демократии. Вся она основана на лестнице ценностей, на порядке и подчинении, на воспитании и послушании еще не воспитанных. Принуждение кончается только за дверью школы; творец свободен, но не свободен ученик.
***
Фантастическая литература любит изображать существ выше человека, и эти существа непременно изображаются как лишенные человеческих черт, начиная еще с Уэллса. Утопическое мышление в человеке видит только непригодное для высшей жизни, чем и отличается от религиозного, как гораздо более трезвого и близкого к действительности. Почему нет мысли о высшем существе, которое было бы в еще большей степени человеком? Но нет, если высший тип, то обязательно лишенный всего человеческого. В этом какое-то удивительное самоуничижение. Человек осуждается не как промежуточное звено между природой и Духом, а именно как живой дух. «Огонь жжется, так не будут ли высшей ступенью развития потухающие уголья?», примерно так рассуждают. Высшее – еще более человеческое, человеческое во всей полноте, уже без изъяна, то есть то, что искони полагалось божественным. Но божественное слишком далеко, а от себя самого западный человек устал и не очень-то себе доверяет, и так идеалом становится не бог, не сверхчеловек, но без-человек; пустое место, безликий разум. Тысячелетие гордого уединения привело европейцев к великой усталости, и не удивительно. Индивидуализм, со всей своей горделивостью и высоко поднятыми знаменами, есть признание космического одиночества каждой данной личности. Вся сила общества индивидуалистов – сила отчаяния. «Мне никто не поможет, спасения нет, но всё же укреплюсь и еще буду попирать пятой врагов моих», говорит человек-одиночка. Скажу даже, что мы, русские, если и меньшего добивались, то действовали от полноты сил, а не из мрачной решимости… Вообще, Европа выработала много облагораживающих начал, смягчающих поправок к грубости жизни, но велика она не ими, а своим духом самонадеянности и твердости. Всё великое в Европе создано этим духом, а поправки только скругляют углы построенного здания. Современный Запад, вернее, Запад Запада, каким является молодое американское государство, увидел в этих поправках главное, суть жизни, хотя они только подпорки, пристройки, прослойки… Россию упрекают в отсутствии именно этих приятных мелочей цивилизованной жизни, но на самом деле ей не хватает противоположного – духа твердости и силы, но не обязательно гордости. Между силой и гордостью нет раз и навсегда определенной связи, во всяком случае, эта связь может меняться в зависимости от условий общества и времени и самоопределения личности. Сила может быть связана – когда она оценивается религиозно – и с определенным смирением, и такая сила, сознающая свои границы, гораздо терпимее, гораздо теплее в человеческом смысле, рядом с ней не тесно и не холодно, как бывает рядом с силой горделивого одиночки, думающего, что всем своим он обязан только себе.
***
Новейшее время выработало поправки, если не сказать опровержения, к оптимистическому взгляду времен «просвещения»: большинство может заблуждаться, и еще: прогресс может направляться к худшему. Если принять эти две мысли, от просвещенства не остается камня на камне. В его основе излюбленное метафизическое предположение современности: будто естественный ход вещей неизменно ведет к добру. Вера в творческую благодать хаоса и его способность саморазвиваться к доброму и высшему обессмысливает, лишает корней культуру: из нее изымают всю волевую и принуждающую часть, видят в ней не победу человека над хаосом, но цветок хаоса, прошлое которого бессмысленно, а будущее сомнительно; плод «естественного хода развития»… По меньшей мере, видят там, где идеи «просвещения» до сих пор в силе. Однако не устану повторять, что ничего естественного в культуре нет, и вся она плод усилий и духовных побед.
***
Есть несомненная разность между путями души и теми утешениями, которые предлагает ей время. Если так, то мой бунт, всякий бунт ради высших ценностей против этого времени оправдан; время можно поймать за руку. Ведь что оно обещает душе? «Прежде тебя соблазняли призраками и тенями, я же введу тебя в твое истинное царство, дам тебе подлинные ценности, и ты будешь владеть ими вечно», вот что говорит время, а душа вырывается и бежит от удовлетворения инстинктов, прочь от низменных высот, ей предложенных, обратно к высшему с его тайнами и надеждами… Если бы время не говорило, что его ценности суть последние и истинные, с ним было бы труднее бороться. Но поскольку оно под видом истинных и прирожденных предлагает душе весьма сомнительные, по меньшей мере недолговечные цели и смыслы – с ним можно выходить на борьбу.
Не нужно быть большим диалектиком, чтобы понять смехотворность притязаний эпохи на конечную истину. Никакое время всей полнотой истины не обладает, но только стороной или частью. Вера в научный прогресс как путь к обладанию последней правдой, как не раз указывалось, совершенно незаконна, вненаучна; это религиозное упование с выхолощенным религиозным смыслом. Наука верит – именно верит! – в царство безнравственной правды. Вера эта ложна, но сильна, и ныне направляет известную часть человечества. Никакими философскими построениями эта вера быть разбита не может. Ей можно противопоставить только иной символ веры, иное исповедание, придающее жизни смысл. Во всех вопросах борьбы со злом и ложью победа означает не устранение зла – это невозможно, – но указание пути к новым ценностям, которые вернули бы содержание обессмысленной жизни и тем самым устранили почву для зла. Только так, потому что зло неустранимо из мира; единственный способ борьбы с ним состоит в защите возможных жертв.
***
«Технический рай» – тупик, но шагать в этот тупик можно долго, и к тому времени, когда передние отряды человечества достигнут пределов этого тупика, последние ряды еще только будут входить в его ворота; одни разочаруются в том, о чем другие еще только начнут мечтать… Не всё хорошее является благом в нравственном смысле, и нравственная разборчивость состоит именно в умении различать угрозы под достоинствами. К разряду заманчивых и внутренно опасных, двусмысленных предметов относится и всеподчиняющая техника, искусство создания мертвых вещей. Отвергнуть ее вполне нельзя, но можно пользоваться техникой в полном сознании опасности орудия, со всей сдержанностью. Человеку обязательно нужно чему-то поклоняться, связывать свою душу с чем-то – словом, нужна религиозная жизнь, но никогда нельзя душевные привязанности направлять к мертвым вещам и умению их изготовить. Страшное для нашей эпохи признание: религиозная жизнь есть такая же потребность человека, как жизнь пола; и тут, и там либо удовлетворение, либо страдание и направление чувств на недолжные предметы. Закройте храмы, упраздните святыни, уничтожьте ценности – человек создаст себе мертвых кумиров и поклонится вещам и «делу рук своих».
12
То же самое отношение между писателем и литературным языком. Писатель скорее преграда на пути своего языка; он передает потомкам только малую часть пришедшего потока, и ту многократно очищенную. «Народная речь» не такое сокровище, как мы привыкли думать; вернее, она становится сокровищем только при условии, что есть ее судья и оценщик – писатель. Без оценки и разбора нет совершенствования.