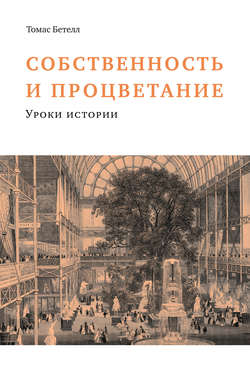Читать книгу Собственность и процветание - Том Бетелл - Страница 24
Часть III. Римское и обычное право: от статуса к контракту
Глава 6. Англия впереди
Общее право
ОглавлениеОтличительной чертой английского права в период его формирования в XII и XIII веках было то, что его создавали судьи, а не законодатели, философы или короли. Английское общее право [common law] – выражение указывает на общенациональный закон, единый для всей страны, – создавалось, в отличие от статутного права, снизу. Оно было итогом массы судебных решений, определявших права людей, которые представили свои частные дела вниманию судов. Если не считать уголовного права, то важнейшей областью, как и в Риме, было разрешение имущественных споров. У судей была возможность опознать новые особенности каждого случая, благодаря чему закон приноравливался к всевозможным обстоятельствам, но обычно предполагалось, что решения судей подчинены прецеденту – они следовали той же норме, которая применялась в аналогичных случаях в прошлом.
Медленность пополнения совокупности норм закона позволяет накапливать мудрость и знание. Издержки и просчеты, допущенные прошлыми поколениями, со временем забываются. Это главный аргумент в пользу сохранения того, что существует издавна: оглядываясь в прошлое, не понять, чего ради затеяны перемены. Признание того, что прецеденты сложились на достойных основаниях, даже если эти основания уже не понятны нам досконально, наполняет закон духом праведного смирения (порой толкуемого как слепое преклонение). Закон постепенно открывали, а не изобретали во внезапном порыве.
Задачей судьи было выяснить, что является законом, и сделать это независимо от воли короля. При этом, к нашему изумлению, не существовало «независимого правосудия». Предполагалось, что судьи вне политики, но в XIII веке, да и позже они занимали свои места с соизволения короля. Похоже, что существовала некая конкуренция между судебными органами. Возбуждая дело, истец мог обратиться в королевский Суд общих тяжб. Поскольку судьи жили за счет судебных пошлин, они были заинтересованы в том, чтобы истцы шли к ним, а не в традиционные манориальные суды. Вероятно, это побуждало их судить более справедливо[200].
Иногда говорят, что субстанция правосудия возникла из «надлежащих» правовых процедур. Под влиянием христианства место судебного поединка занял суд присяжных. Истцы получили возможность отстаивать свое право на фригольды, не подвергая себя опасностям вооруженного поединка. Поскольку в глазах Бога все были равны, постепенно распространилось признание того, что все должны быть равны и перед законом. Должным образом оценить эту простую истину помогли суды, к которым обращались истцы и перед которыми они лично излагали свою тяжбу.
Права были защищены на практике, а не провозглашены на бумаге. Теории прав были подчинены реальным средствам защиты прав. Судьи в судах общего права «сосредоточивались большей частью на средствах… предотвращения определенных форм несправедливости, а не на каких-либо декларациях прав человека», – заметил А. В. Дайси[201]. Было установлено, что длительное пользование землей по праву давности дает право собственности на нее. (Тот же принцип признавало и римское право.) К XV веку судьи судов общего права защищали права вилланов, если их право на землю оказывалось зафиксированным в протоколах манориального суда, содержавших список (copy) арендаторов земли, принадлежащей данному поместью. Эта «протокольная запись» служила эквивалентом документа на право собственности, а потому всех внесенных в эти протоколы называли «копигольдерами». К началу XVII века примерно треть всей земли в Англии принадлежала копигольдерам. Постепенно это владение стало наследственным, и копигольд превратился во фригольд[202].
Возникающие судебные нормы позднее могли быть закреплены в писаном праве или остаться неписаными. Считалось, что общее [general] законодательство просто формально фиксирует уже открытый и действующий на практике закон. Еще в XVII веке в Англии ставилось под сомнение право парламента принимать законы, несовместимые с общим правом.
«Из наших книг следует, что во многих случаях общее право должно контролировать решения парламента и порой объявлять их совершенно недействительными, – написал в XVII веке сэр Эдвард Кок. – Потому что когда решение парламента противоречит общему праву и здравому смыслу, когда оно отвратительно или не может быть реализовано, общее право должно осуществлять контроль и объявлять такое решение недействительным»[203].
Для современной рыночной системы особенно важен принцип равенства перед законом. Он подразумевался в высказывании Брактона об отношении между королем и законом: король обязан подчиняться закону. В идеале мы все должны быть подчинены требованиям закона, подобно тому как мы все одинаково ограничены действием законов природы. Это требование придает праву ограниченный характер, потому что если законодатели должны подчиняться тому, что они налагают на других, закону нелегко придать тиранический характер. Когда равенство перед законом становится реальностью, то уже недалеко и до защищенной собственности. Она возникнет в складках этого «золотого правила». Потому что если то, что один человек может причинить другому, ограничено тем, что может этот другой причинить ему самому, безопасность и частная жизнь каждого будут уважаться, а все сделки будут строго добровольными. Но если некто сможет подчинять другого в силу своего более высокого общественного или должностного положения, то вероятен отказ от поисков компромисса и согласия в пользу применения силы.
Исторически самым значительным препятствием для установления принципа верховенства права была сословная организация общества. Но в Англии с самых давних времен принцип сословности был выражен меньше, чем в любом другом месте. К XIII веку свободный человек уже стал нормой, а привилегии и ущемление в правах – исключением. Наследственное подневольное состояние действительно ограничивало свободу. Уголовное право защищало право крепостных на жизнь и личную неприкосновенность, но не обеспечивало защиту их владений. Подневольное состояние, однако, не тождественно рабству. Оно проявляется только в отношениях между крепостным и его господином, а в отношениях со всеми другими серв пользовался теми же правами свободы [rights of liberty]. «В сравнении с современным ему законом Франции или, уж во всяком случае, Германии, – писали Мейтленд и Поллок в «Истории английского права», – наше сословное право выглядит бледно; иными словами, мало что говорит о сословиях или рангах»[204]. Все свободные люди, включая высшую знать, в основном были равны перед законом. Поллок и Мейтленд пишут об этом следующее: «Вряд ли в завоеванной стране можно надеяться на равенство, которое, в сравнении с другими землями, следует признать исключительным. Но именно таков был результат завоевания, хотя обнаружился этот результат далеко не сразу. Составитель Leges Henrici (ранняя книга по английскому праву) охотно дал бы нам полный закон о рангах или сословиях; но материал, которыми он располагал, был уж слишком разнороден: графы, бароны, эрлы, таны, норманнские латники, английские йомены, видамы, ваввасоры, соукмены, вилланы… никакому автору не совладать с этим хаотичным многообразием.
Но сильный король может все, что пожелает; мерой знатности он может сделать свою благосклонность: знатен тот, с кем он обходится соответственно. И он не хочет, чтобы знатных было много. Постепенно формируется небольшое сословие знати, сословие светских лордов, графов и баронов. Их связывает между собой не благородство происхождения, а, скорее, землевладение и воля короля. У его членов есть политические привилегии, которым соответствуют политические обязательства; король советуется с ними, и они обязаны являться на суд и служить его советниками. Вряд ли у них были другие привилегии. Пока барон был жив, у его детей не было никаких привилегий; когда он умирал, лишь один из детей становился дворянином»[205].
Отмечая ту же особенность, Хэллам называет ее «заметным характерным отличием устройства Англии от устройства любой другой европейской страны». Какую страну ни возьми – Испанию, Францию, Германию – дворянство везде образует наследственное сословие, отличающееся от остальных свободных людей наличием юридических привилегий. Французы делили свой народ на три сословия: дворяне, свободные и крепостные; у британцев не было «сословия как такового, были свободные и крепостные». Любой свободный мог взять во владение землю на условиях военной службы. Между всеми нетитулованными англичанами существовало фактическое равенство прав. Хэллам добавляет следующий примечательный комментарий: «Самое восхитительное в нашей конституции – равенство гражданских прав; эта изономия, которую философы Древней Греции надеялись обрести при демократическом правлении. Наш закон с самого начала не признает личных привилегий. Он не защищает джентльмена с древней родословной ни от обычного суда присяжных, ни от постыдного наказания. Он не наделяет, и никогда не наделял, несправедливыми привилегиями и освобождением от общественных повинностей, которые нагло присваивали себе высшие сословия на континенте. …Я твердо убежден, что именно в этом необычно демократичном характере английской монархии причина ее долговременной устойчивости, силы и способности к совершенствованию. Было нечто исключительное и провиденциальное в том, что в эпоху, когда неуклонное шествие цивилизации и торговли было заметно столь мало, наши предки, отойдя от обыкновения, господствовавшего в соседних странах, как бы обдуманно защитились от этой необузданной силы, которая, сметая все недальновидно устроенные препятствия, ввергла Европу в смуту»[206].
Мейтленд и Хэллам выделили здесь тот самый элемент права, который обеспечил торговое первенство Англии и ее экономическое превосходство, при том что никто и не мыслил в понятиях экономики, когда этот принцип набирал силу. Равенство перед законом оказалось необходимым условием развития торговли. Итог многовековой эволюции права состоял в великой перемене после падения Римской империи, заключавшейся не в изменении имущественного права, а в огромном изменении права лиц.
Триумф общего права, а с ним и государственного устройства, при котором признавались и уважались права каждого англичанина, некоторые комментаторы считают заслугой централизации. Именно так понимал дело Мейтленд. Король «объединил страну», «стал источником справедливости» в отличие от непрерывной вражды правителей Франции и Германии, где децентрализация привела к хаосу[207]. В Англии король имел достаточно власти, чтобы его судьи определяли закон, и никто не смел навязывать им свою волю.
Теория, может, и хороша, но вызывает определенные сомнения. Она строится на парадоксе: для децентрализации власти нужно сначала обеспечить ее централизацию. Но дело в том, что квинтэссенция децентрализации заключается в позволении людям самостоятельно принимать решения о собственности и добровольно вести обмен. Концентрация власти в одном месте обычно не бывает прелюдией к столь просвещенной политике.
Следует помнить, что Мейтленд (1850–1906) и последующие поколения ученых, опиравшихся на его труды, трудились в те времена, когда все были в восторге от централизма. Дж. Е. А. Джоллифф, автор опубликованной в 1928 году истории английского государственного устройства, полагал, что норманнские короли попали в крайне неблагоприятную ситуацию: «Первобытная концепция общества, подчиненного нормам наследственного права, не давала королю возможности быть законодателем». Ему ничего не оставалось, как «признать обычаи и участвовать в согласовании прав и порядка ведения дел в ходе судебных разбирательств»[208]. Великое достоинство английского права он истолковал как его слабость. Мейтленд понимал эту опасность: судьи, зависящие от милости короля, легко могли стать «орудием тирании»[209]. Но общее право спасла его крайняя сложность, нашелся он. «Самый сильный король, самый способный министр, самый грубый лорд-протектор мало что могли сделать с этим “богопротивным беспорядком”»[210].
По-видимому, централизация власти не была столь велика, как принято думать. Норманны были захватчиками и чужаками, которые одно время даже не говорили на местном языке и разумно решили, что для спокойствия страны лучше не трогать ее обычаи. Нам известно, что в царствование Иоанна Безземельного (1199–1216), то есть в период, очень важный для развития английского права, теряющий власть король под давлением баронов подписал Великую хартию вольностей, которая ввела ограничения королевской власти. Хартия была ориентирована на прошлое и требовала восстановления былых свобод. Генриху III пришлось несколько раз подтверждать хартию[211].
Хэллам объясняет «склонность англичан к гражданскому равенству» следующим обстоятельством. На континенте, пишет он, «отношения между вассалом и господином были подчинены целям частных вооруженных конфликтов, а не задачам национальных войн». Поскольку французские бароны могли воевать друг с другом, у них установились военные отношения со своими арендаторами, из которых они могли мгновенно собрать свою частную армию для ведения оборонительной или наступательной войны. «Но редко можно прочесть о частных войнах в Англии»[212].
Когда случалось нечто, подобное войне между графами Глостером и Херефордом в правление короля Эдуарда I, виновных наказывали. Вскоре после этого в Англии перешли от армии, в которой служили в обмен за землю, к армии, в которой служили за деньги. В результате британские армии стали комплектоваться наемниками. Они служили за жалованье, и поэтому армия быстро утратила «феодальный характер». Словом, освобождение от военной службы можно было купить, и в итоге королю пришлось платить тем, кто соглашался ему служить.
Возможным объяснением отличительных особенностей Англии может быть ее островное положение, которое защищало страну от сотрясавших Европу разрушительных войн и научило англичан видеть друг в друге союзников, стоящих против общей внешней опасности. По той же причине они считали друг друга равноправными людьми. Централизацию власти можно было ослабить без риска того, что страна расколется на враждующие княжества.
200
Maitland, Constitutional History, 134–135.
201
A. V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution (1885; reprint; London: Macmillan, 1960), 199.
202
Безусловное право собственности на недвижимость. – Прим. перев.
203
Coke, 8 Rep. 118a (1610).
204
Frederick Pollock and Frederic W. Maitland, The History of English Law Before the Time of Edward I, 2nd ed., 2 vols. (1895; reprint; Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1968), I: 407.
205
Ibid., 408–409.
206
Hallam, Middle Ages, 2: 328.
207
Maitland, Constitutional History, 125.
208
John E. A. Jolliffe, Constitutional History of Medieval England, 2nd ed. (London: A&C. Black, 1947), 334.
209
Frederic W. Maitland, Selected Historical Essays (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1957), 127.
210
Ibid., 137.
211
Генрих III (1207–1272) – сын Иоанна Безземельного, король Англии в 1216–1272 гг. – Прим. науч. ред.
212
Hallam, Middle Ages, 2: 329.