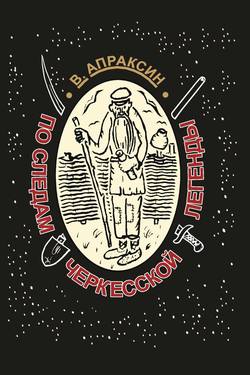Читать книгу По следам черкесской легенды - В. А. Апраксин - Страница 4
Глава вторая
События в огороде
ОглавлениеА на дворе буйствует погожее июньское утро. Девятый десяток своей жизни разменял дед Чекмень, а все не перестает удивляться многоликости природы, сочности ее красок, разнообразию звуков и той волшебно-притягательной силы, которая приятно взбадривает душу, незримой молодецкой удалью наливает тело, заставляет как бы слиться с извечно-неторопливым ходом времени, острее почувствовать свою неразрывную связь со второй матерью – кормилицей-землей.
Словно в каком-то блаженном упоении, дед глядел, как гаснут последние звездочки, как над слащевской стороной, сияя желтизной, низко на ущербе-исходе завис рогатый месяц; как из-за бугра, не спеша, выкатывается малиновый солнечный шар; как брызнули первые солнечные лучи и облили позолотой начинающий пробуждаться хутор, распростертые в своей девственной наготе, обрызганные росой травы, сады, левады, лог, прорезанные многорукими балками увалы бугров, уходящую в западную даль Едовлю и раскинувшуюся вокруг загадочную волнистую степь. Влажная от росы земля дышала пресным паром, в прозрачном – до не-подобия – прохладно-влажном воздухе ощущался аромат цветущего разнотравья, сладковатый, дурманящий голову дух вишневого сада, будоражащий волглый настой огородного укропа, перемежающийся пряной тополиной горчинкой и похожим на пчелиный клей прополисом.
А звуков, звуков! Радуясь погожему утру, отовсюду, словно наперегонки, неслись людские голоса, скрип ворот, колодезных журавцов, оглушительная перекличка петухов, брех собак, рев скотины и телят, блеянье овец и ржанье лошадей. Эту причастную к человеческой деятельности хуторскую разноголосицу перекрывал разнокалиберный концерт вечной собственности природы: гулюшков-воркунов, верещанье воробьев, резкие – что твое «Яблочко» – коленца скворцов, виртуозные перепевы соловьев и теньканье синиц. Среди них слух улавливает по-своему трогательную песню жаворонка, словно заведенное пупуканье хохлатого удода (у хуторян просто «пустошка»), воркованье дикой горлинки (у нас ее зовут ласково «горлышка»), звонкоголосое мяуканье иволги, щебет ласточек-касаток, без устали отсчитывает кому-то года вертихвостка-кукушка, где-то дятел долбит перестояло-сухую лесину, изредка каркают вездесущие вороны – десятки видимых и невидимых птах радовались жизни и, сами того не замечая, своей посильной лептой поддерживали оглушительно-дюжий хор.
Всем этим буйством зеленого царства, разнообразием запахов и разноголосьем природа словно стремилась показать непостижимость жизни, многообразие созданного ею растительного и животного мира, его неповторимость и самобытную красоту, дошедшую да нас из тьмы веков.
Распираемый от избытка чувств дед Чекмень стоял среди двора, вглядывался в просторы и вслушивался в окружающий мир. Многоликость начинающегося дня настолько завораживала, что он – даже забыв про ночной сон – перестал чесаться и, сам того не замечая, качал головой и рассуждал сам с собой:
«Эк, не объемлет ум человеческий – какая благодать на базу! (До сего времени в Захоперском крае старые люди, выходя из дома, так и говорят: «пойду на баз». – В. А.). Что значит родные палестины! Родился тут, вырос, восемьдесят шестой год топчу эту землю, а все равно не надоело жить и глядеть на белый свет. Прямо душа радуется, до чего он хорош, жить бы – и помирать не надо! Даже не верится, что такая красота и белый свет были, есть и будут всегда: и до нас, и после нас. Это же счастье, что я родился, вижу небо, землю, мир, люд. По-моему, тот, кто не радуется жизни, тот, что живет, у кого нет заповедника души, – просто глупец. Приглядитесь: бугры, балочки, реки, облака – все знакомое и в то же время все разное. И каждый день, год неповторим. А разве надоест глядеть, как интересно устроена жизнь – жизнь, которая имеет продолжение и не имеет конца. Вон сколько на свете всякой животины, пичужков, жучков, и каждая – даже самая маленькая тварь тоже жить хочет. И не чудно ли – у каждой живности свой нрав, свой адат. У каждого растения свое строение, свой вкус, цвет, запах. И не чудо ли – вроде на первый взгляд кажется, сородичи между собой одинаковые, а ведь если приглядеться – всюду неповторимое своеобразие, и как ни старайся, ни за что не найдешь двух похожих животин, птички, козявки, дерева, травинки, листочки – все хоть чем-то, хоть крупицей, а ро́знится между собой. И человека нет на одно лицо, говорят, что и узоры на пальцах разные. И таких, как я, больше нет на свете, я один, и Матрёна моя одна. И, несмотря на различие, все живое и неживое стремится к одному: повторить себя в потомстве, оставить себе подобные семена, детишек. И уму непостижимо: рождение и умирание жизни, ее создание и распад идут беспрерывно, вечно; выходит, жизнь – это вечное движение, борьба, а вместе с нею вечное добро, любовь и жалость. Нет, что ни говори, а жизнь во всех ее проявлениях удивительна и прекрасна».
Философски рассуждая, Чекмень поежился от бодрящей свежести, оперся на костыль (дед звал его «чекмарь») и, застя рукой глаза, глядел на пылившие по дороге хуторские стада скотины и овец и вздохнул. Корову и овец они с бабкой уже какой год перевели: определенные дети разлетелись по городам и весям, а самим уж не по силам содержать такое хлопотное хозяйство. Года – тудыть их растуды – подперли. Разве думали они, что доживут до такой поры, что хучь ничего не держи, хучь ничего не делай. Да разве ж утерпит русский мужик, селянин, сидеть сложа руки без дела, когда в его натуре с самого рождения заложена привычка к извечному крестьянскому труду! Пренебречь таким правилом – это все равно что лечь и ждать смерти. Нет, нет, нет! Хоть и пенсию (правда, небольшую) платит государство, хоть дети навещают, гостинцами – внуками радуют, хотя из годы в ряды колхоз помогает (спасибо и за это) – это все не то: душа просит движения, руки – дела. А значит, пока у них со старухой руки-ноги двигают, они по старинке, по силе возможности трудятся: держат с десяток курчонков, кобелишку да больше копаются в огороде. Дурно-хорошо, а всё не в обузу детям: пока сами себя кормят, ни на чьей шее не сидят.
Чекмень последний раз глянул на хутор, на растекающиеся из хат и летних кухонь дымки, потоптался на месте и перевел взгляд на свое подворье. Покосившаяся, вросшая в землю и крытая камышом турлучная (т. е. плетневая, обмазанная глиной) хатенка; такой же плетневый, с пужалкой на соломенной крыше катух, приспособленный под курятник; похильнувшийся царай под камышом; передний двор, обнесенный утопающим в бурьянах и увитым повителью ветхим плетенёшком с разбитыми горшками на торчащих кольях; глянул на одичавший сад, на заросшие мягкой лебедкой, копеечками и подорожником дворовые стежки-дорожки и опять вздохнул: всюду нужны руки, а к рукам силы.
– А где все это, куда делось? – дед поглядел на свои сухие, оплетенные веревками жил руки. – Как время летит: молодые были развязные – птицу на лету ловили, а теперь на земле не поймаем. И тело не греет – словно в тебе не кровь, а холодная синяя водичка налита. И какие-то копоткие стали, болячки одолевают, немощь. Да и то сказать – все мы герои, пока не коснулась беда, есть силы и здоровье. В извечной колготе и не видали, когда года пролетели и жизнь промелькнула. Прожили век, как говорится, за куриный кек. И не зря играют:
Эх, время-времечко
Куда катится!
Кто не пьет, не…,
После схватится!
Словно стыдясь подвернувшегося крепкого словца, он оглянулся и, не обнаружив никого возле себя, махнул рукой и по давно заведенному распорядку первым делом заспешил в глубь двора, где возле поливника, как журавль на одной ноге, торчала колодезная соха с гнутой перекладиной наверху. Хоть и сетовал Чекмень на старость, но на здоровье ему было грех жаловаться. Может, этому способствовало относительное спокойствие ко всем передрягам жизни. Может, оттого, что всю жизнь любил всякую горечь – лук, чеснок, хрен, редьку, горчицу. А может, Бог давал здоровье за пожизненный физический труд, а может – по его словам – он «задубел» от «домашней зарядки» – ежедневное закаливание, к которому пристрастился в далекие годы солдатской службы. Бывало, зимой, пугая бабку и удивляя соседей, он по утрам босиком ходил по снегу, им же обтирался; летом, проснувшись, взял в привычку всегда обливаться ведром-другим колодезной воды, – правда, вот уже несколько лет он ограничивался обтиранием мокрой тряпкой, но все равно и этот метод давал такой положительный заряд бодрости, душевной и физической легкости на весь день, что без этого свою жизнь дед и представить не мог. Вот и теперь скрипучим журавцом достал ведро холодной воды, фыркая, умылся, обтер руки, грудь, поплескал на лысину, шею, спину. Бросалось в глаза, что в его все еще крупной, ладной, выше среднего роста фигуре не было ни сухости, ни грузности, свойственных старикам его возраста. После этого ручником тщательно обтерся, надел навыпуск рубаху, подпоясал ее обрывком бельевой веревки, полуобломанным гребешком расчесал бороду и остатки волос за ушами, надвинул защитный, сильно поношенный картуз и опять взял в руки костыль. Высокий, прямой, представительный, с белой, окладистой бородой, белыми, прокуренными усами, как два птичьих крыла, бровями, крестиком на шейном гайтане, он резким – в профиль и анфас – ликом являл собой благообразную патриархальность, и не зря: схожесть с библейскими пророками, умение высказать умную мысль, при случае ввернуть шутку вызывали в людях потаенное уважение, граничащее с оттенком затаенной робости.
Повесив ручник сушиться на сливину, Чекмень по тому же неписаному, давно сложившемуся распорядку занялся своими домашними обязанностями – они были не ахти какими, но дед считал их «мужскими» и давно уж не доверял никому. Первым делом еле докликался отпускаемого с цепи на ночь кобелишку, которого бабка звала Явриком, а он величал его больше Пустозвоном. И последняя кличка соответствовала как нельзя более кстати. Это был маленький, кудлатый, неопределенной масти, вечно в репьях шарчонок, который – даже на удивление сельчан – отличался чудными странностями: он всегда забывал охранять подворье и целыми ночами как угорелый мог носиться по хутору; ему все люди были «свои», и если кто кидал косточку или хлебную корочку – за это готов был весь день ходить заследом или лежать на спине и вилять хвостом, пока не надоест; часами, пока не охрипнет, мог скулить пронзительным альтом или перебрехиваться с другими собаками, тявкать на солнышко, звезды, птиц и даже на свою тень. В таких случаях, не стесняясь резких эпитетов, дед шумел: «Смени пластинку, балабон и пустозвон! У-у, шмакодявка, рога присадить – был бы чертик настоящий! Ликвидирую, как врага народа!»
И сколько раз собирался куда-нибудь деть его, но рука не налегала: хоть и никудышный, хоть и делов из него, как из бараньих м…, а все же поспокойней, когда во дворе какая-никакая, а живая душа.
Управившись с кобелишкой, дед со дна сапетки наскреб полкружки азадков и открыл курятник, откуда выпустил пеструю стайку кур во главе с нарядным – что твой атаманец – кочетом. Видимо вспомнив что-то, кочет скосил на деда клюв и недовольно закококал, на что Чекмень фыркнул и аж сморщился. Взаимная неприязнь друг к другу у них началась весной, после одного случая.
Повадился Петя ходить к соседским курам – поест с утра и, забыв про своих хохлаток, скроется на весь день, чтоб к вечеру, к очередной кормежке, опять поспеть домой. Дед и гонял за ним, и дыры в плетне затыкал – ничего не помогает. Тогда он, потаясь бабки, надумал спутать ему ноги. Кочет от возмущения все с переплясом танцевал, сердито кудахтал, бил крыльями об траву, кувыркался через голову, но оставался на месте. Утомленный Чекмень успокоился, отлучился в хату попить и забыл про все. А кочет тем временем потанцевал на месте и, видимо освоившись со своим положением, как заправский кавалер, по привычке – где боком, где кувырком – с путом на ногах потянул к соседскому курятнику и обязательно добрался бы до него, если б не этот чертов плетень на дороге и торчащие колья на нем. Когда соседи обнаружили «кавалера», тот, зацепившись спутанными ногами за кол, висел вниз головой, еле помахивая крыльями, и уже закатил под лоб глаза. В таком виде и – главное – с путом соседка и принесла кочета хозяевам. Бабкин выговор был бурный и далекий от голубиного воркованья. Опростоволосившийся Чекмень предпочел перемолчать, но при случае не забывал бросить кочету: «У-у, рогоносец, у-у-у, б…! Простить твои проделки можно, но забыть никогда!» – на что последний, треся кустистым гребнем, долго кудахтал (по мнению Чекменя – по-своему ругался). Вот и теперь, поприветствовав белый свет голосистым кукареканьем, кочет на всякий случай обколесил деда и, наблюдая за ним, вместе с курами принялся клевать зерно. И зря Матрёна ругалась. С того случая как бабка отшептала – со двора ни шагу, а к плетню и близко не подходил.
На всякий случай дед погрозил кочету пальцем и, радуясь про себя его горластому зыку, засеменил к дровяной кучке, кряхтя, насек на дровосеке беремю хворостовых поджижек и отнес их к летней грубочке, сложенной недалеко от хаты под раскидистой душистой грушей. Вообще-то бабка стряпалась больше по старинке – на таганке, и тогда дров требовалось мало, но когда надо было испечь свои пироги или нагреть воды в чугунках, чтоб постирать бельишко, пользовалась печью в хате или летней грубочкой во дворе – соответственно надо было и побольше дров. К дровам принес из колодца воды – это тоже входило в круг его последних «мужских» дел – и облегченно вздохнул. Вроде и не ахти сколько делов, а пока подуправился, и подустал немного.
Под камышовым цараем-навесом, где хранился разный хозяйственный инвентарь, где всегда что-то тюкал топориком, что-то мастерил, налаживал и крошил табак, – присел на свое излюбленное место: на объемистый, с расползающимися ржаво-желтыми пятнами мха чурбак, потянулся за кисетом. Хоть природа и наградила его отменным здоровьем, а курить надо бы бросить: и покашливать начал, и бабка ругается, а вот поди ж ты – втянулся в это чертово зелье и не придумает, как расцобекаться-развязаться. Покурит – и вроде бы отдохнет душой, и голова работает лучше.
За раздумьями свернул цигарку-самокрутку, только прикурил, глядь – торопливо ковыляет eго бабка Матрёна, вид которой тронул Чекменя до сентиментальности. Еще бы: от былой бабкиной красоты и следа нет. Была она когда-то высокой, статной, но за прошедших два бабьих века безжалостное время согнуло и высушило ее, и теперь казалось, она уже не старилась больше, словно перешагнула незримую грань, за которой глубокая старость равняет всех без исключения. Чуть не бежит бабка Матрёна с огорода, платок сбился, сама согнулась, подол длинной юбки мокрый от росы, в руках – подвянувшие картофельные кусты. Еще издали кричит:
– Дед, а дед, у нас беда!
– Какая еще беда? – Чекмень вскинул бороду, кустистые брови и выдохнул облачко дыма.
– Беда! – качала головой бабка, поправляя свободной рукой и ртом скособочившийся ситцевый платочек. – Вчера ничего не было, а нынче слепец (так в Захоперье зовут крота. – В. А.) в город вобрался – картошку сподряд кладет. Вот гляди чего, анчутка, делает! – И она сунула под нос деду подсеченную ботву. – Ить это прямо наказанье божье: то козявка (так в Захоперье зовут медведку. – В. А.), то слепец. Там кучек наставил, там понарыл – идешь и кулигами проваливаешься. Оставит нас, анчихрист, без картошки. Бросай свою соску, че-то делать надо.
– Че ж делать – ловить надо, – глубокомысленно и спокойно изрек дед. – Ладно, иди занимайся своими делами, а я займусь слепцом. Не горюй и не переживай – не впервой, поймаем.
Расстроенная бабка вытерла нагрудником (так у нас называют передник, сшитый в виде фартука. – А. В.) руки и ушла. Чекмень докурил и стал думать, как лучше подступиться к слепцу. Конечно, можно поставить на огороде две-три вертушки, крутясь от ветра, они – через палку-стояк – дают трясение земле, и слепцы, боясь этого, уходят. Но такой способ сейчас не годится: вертушек нет, их надо делать, а на это нужно время, и во-вторых: сделаешь – а погода будет тихая, а слепец за это время че на огороде накостробошит. Можно бы подсидеть слепца с ружьем у разрытой норы, но опять можно просидеть на огороде пугалом весь день, так и не дождаться его, а если дождешься, то еще неизвестно, выстрелит ли старое ружьишко, которому еще во времена сторожовки на бахчах было в субботу сто лет. Нет, надо пробовать капканом.
Кряхтя и опираясь на костыль, Чекмень взял лопату, фанерный лист, снял с крючка суслиный капкан и потопал в огород. Когда увидел, что подземный зверек понаработал за ночь в картошке, не удержался:
– Нечистый дух! Нет чтобы рыть по степи, так ему сладко по горóду лазить, наш труд ни за чего не считает. Ну, погоди!
Чтобы поставить капкан, нужно в слепчиных бугорках отыскать ход. Дед опустился на колени, привычно раскопал первый виднеющийся бугорок, второй, третий – безрезультатно: хода-лазы оказались забитыми самим зверьком. Попробовал искать лаз между кучками, но паханая, свежеподбитая земля осыпалась, и сколько дед в ней ни ковырялся лопатой и даже руками – тоже пусто, лишь подрезал нечаянно несколько картофельных кустов. От безуспешной работы дед вспотел и уже отчаялся:
и жаль было пышно цветущей картошки, но ничего не оставалось делать, как от бугорка к бугорку рыть землю сподряд – авось и нападешь на злополучный ход.
Дед уже вознамерился копать, как вдруг провалился выше щиколотки, да так, что чуть не упал. Опустившись опять на колени, он то лопатой, то рукой принялся осторожно разгребать землю. Земля сперва осыпалась, но по мере расчистки становилась тверже и, самое главное, зачернели контуры, а потом и показалась сама слепчиная нора. Дед удовлетворенно крякнул, и, несмотря на то, что нора оказалась глубоковатой и было неудобно, он приловчился и принялся помаленьку углублять ямку под капкан. Тюкал, тюкал слежавшийся грунт и неожиданно почувствовал, как конец лопаты скоблянул какой-то твердый предмет и даже звякнул по нему. «Хм… камень, что ли… – подумал дед и решил: – Выкину его, подчищу, и можно ставить капкан».
Опять взялся за лопату, поковырял грунт и с трудом обскреб торчащий предмет и удивился. Из глуби земли торчал предмет, вовсе не похожий на камень, а скорее смахивающий на железку. Усадьбу свою дед за свою жизнь изучил хорошо, спросонья мог сказать, что где лежит. Но железка… «Вот напасть, – бурчал дед. – Всю жизнь копаемся тут – ничего не было. И откуда че взялось?» Задрав задницу, кряхтя и подметая землю бородой, он кое-как острием лопаты расшатал железку, достал, повертел в руках и, не найдя в ней ничего особенного, выкинул за край огорода. Тут же привычно расчистил ямку, в ней – перед слепчиной норой – установил взведенный капкан, привязал его проволокой за колышек, накрыл всю ямку фанерным листом, присыпал его землей и, облегченно вздохнув, поднялся на ноги: «Все, ловушка готова, теперь надо ждать – слепец обязательно пойдет по своему ходу, и вот тут-то его и встретит капкан. Пойду, бабку успокою».
Чекмень снял картуз, им же вытер вспотевшие лысину и лицо, обобрал с бороды сор, подобрал в карман найденную железку и с костылем в одной руке и лопатой в другой заскреб чеботами к своему цараю.