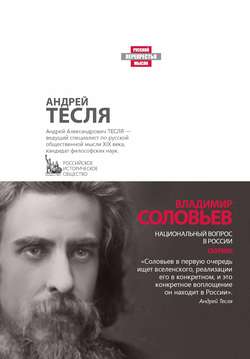Читать книгу Национальный вопрос в России - В. С. Соловьев - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
В. С. Соловьев. Национальный вопрос в России
Выпуск первый
III. Любовь к народу и русский народный идеал[98]
(Открытое письмо к И. С. Аксакову)
ОглавлениеМ<илостивый> г<осударь> Иван Сергеевич!
В последние два-три года я напечатал (преимущественно у вас в «Руси») несколько статей по церковному вопросу. Главные мотивы мои были следующие. Россия (так же как и другие страны) тяжело страдает от умственного и нравственного нестроения. Истинная основа христианской общественности – церковь – не пользуется полной свободой жизни и действия, не занимает подобающего ей места, не полагается во главу угла. Ближайшая этому причина у нас – раскол, который еще с XVII века парализует действие церковного начала в русской народной жизни. Думая о путях к исцелению этого нашего домашнего недуга, я должен был убедиться, что начало болезней лежит дальше – в общем ослаблении земного организма видимой церкви вследствие разделения ее на две части, разобщенные и враждующие между собою. Историей образована пропасть между нашею и западною церковью. Но как ни глубока эта пропасть, все-таки она вырыта не Божьими, а человеческими руками. Разделение церквей – это Божье попущение, а не Божья воля. Божья воля неизменна: да будет едино стадо и един пастырь. Итак, можно и должно нам прилагать свои старания к тому, чтобы был засыпан этот пагубный ров, разделивший стадо Христово. Даже внешние политические меры, ведущие к ослаблению церковной вражды, когда эти меры внушены справедливостью и религиозным чувством, несомненно приносят пользу и заслуживают одобрения[99]. Но главное дело, конечно, не в этом, главное дело – внутреннее примирение по существу, примирение в духе и истине. Такое примирение было бы невозможно лишь в том случае, если бы католическая церковь была вполне чужда духа истины, если бы она была ложью по существу. Но как решиться это утверждать? Во всяком случае, следует прежде беспристрастно и в христианском духе рассмотреть все спорные вопросы между церквами, к несчастию, я вижу у нас почти исключительно полемическое отношение к западной церкви. Но односторонняя и исключительная полемика не только к соединению, а и к познанию вести не может. Она только углубляет и упрочивает существующую уже пропасть, преувеличивая недостатки и погрешности противной стороны, превращая случайное в существенное, смешивая историческое явление с вековечной сущностью, теряя всякие границы между божеским и человеческим.
Мы в храмах, за богослужением, молимся о мире всего мира, о благосостоянии святых Божиих церквей и о соединении всех. Но искренняя ли это будет молитва, если мы на деле препятствуем ее исполнению? То соединение, о котором мы молимся, не может совершиться помимо соединяющихся, для того чтобы исполнение нашей молитвы стало возможным, требуется нечто и от нас. Требуется прежде всего справедливость, беспристрастное и всестороннее обсуждение дела[100]. А затем требуется и нечто большее: требуется мирное настроение, дружелюбное расположение воли и мысли, требуется заменить обличительное, исключительно полемическое отношение к противной стороне отношением ириническим (примирительным). Опыт такого примирительного отношения к Западной церкви я и хотел представить в статьях «Великий спор и христианская политика», помещенных в «Руси». Этот опыт, хотя и напечатанный в вашем журнале, привел вас в недоумение и негодование. Вы нашли, что он противен русским национальным чувствам и интересам. Я же, с своей стороны, глубоко и твердо убежден, что церковное примирение Востока и Запада есть именно национальная историческая задача России. Это убеждение было уже мною прямо и решительно высказано более года тому назад в первой (вступительной) статье «Великого спора». Это же убеждение я снова повторил и в статье «О народности и народных делах России», напечатанной в «Известиях Славянского общества». Хотя в этой последней небольшой статье я только воспроизвел в новых (а отчасти даже и не в новых) выражениях свои прежние мысли, она почему-то обратила на себя особое внимание в нашей печати и вызвала с вашей стороны двукратный разбор, в котором вы весьма горячо на меня нападаете во имя любви к народу и русских народных идеалов. К сожалению, останавливаясь слишком много на отдельных «речениях» из моей статьи, вы недостаточно объяснили, в чем, собственно, выражается и чего от нас требует истинная любовь к народу, и совсем не объяснили, в чем состоит народный идеал и та народная правда, о которой вы говорите, на которую вы ссылаетесь. Вокруг этих, далеко не ясных вопросов вращается вся ваша полемика, да и не для вас одних служат они причиной многих важных недоразумений. Поэтому, отвечая вам, я хочу остановиться именно на этих вопросах.
Вы пишете («Русь» М 6, стр. 11): «В высшей степени замечательно, что г. Соловьев, определяя отношение к народу словами „верить” и „служить”, опустил одно слово… безделицу: любить!») И далее (стр. 14) вы повторяете: «Как мы уже сказали, во всем диалектическом мудровании г. Соловьева об отношениях индивидуума к своему народу слово „любовь” вовсе и не встречается. Это не случайность: отсутствует не только слово, но и самое понятие». С этими вашими словами сопоставьте теперь следующие места моей статьи: «…патриотизм требует, чтобы мы любили свой народ, а истинная любовь сочувствует действительным потребностям, сострадает действительным бедствиям тех, кого мы любим. Эту истинную любовь имели наши предки» и т. д. (стр. 12). Затем по поводу Петра Великого я говорю следующее: «И тут опять должен был проявиться у нас истинный патриотизм – бесстрашная вера и деятельная, практическая любовь к родине. Такая вера в Россию, такая любовь к ней были у Петра Великого и его сподвижников» (ibid.). И далее: «Петр Великий действительно любил Россию, т. е. сострадал ее действительным нуждам и бедствиям… Истинная любовь деятельна… Они (Петр Великий и его сподвижники) верили в Россию настоящей бесстрашной верой и любили ее настоящей деятельной любовью и, одушевленные этой верой и любовью, они совершили истинно русское дело» (стр. 13). И, наконец, в заключение я говорю так: «Настоящая вера не знает страха, и настоящая любовь не терпит бездействия и косности: она требует действительного и определенного выражения. Так, в начале нашей истории любовь к отечеству выразилась в любви к государственному порядку, который был прежде всего нужен для отечества, во времена Петра Великого и Ломоносова любовь к отечеству выражалась в любви к просвещению, которое тогда было более всего нужно для отечества. Ныне степень народного возраста и народные нужды выдвигают на первый план такое дело, которое еще выше и важнее, чем государственный порядок и мирская культура, – дело церковного порядка и духовной культуры. И во имя самой России, из любви к ней, т. е. к ее высшему благу, мы должны быть преданы не русским (в тесном эгоистическом смысле) интересам, а вселенскому церковному интересу – он же и глубочайший окончательный интерес России».
Здесь, как вы видите, не только слово «любовь» в применении к народу, к России употребляется много раз, но вместе с тем дается и некоторое определенное понятие о том, в чем эта любовь должна состоять и выражаться – именно в сочувствии истинным народным потребностям, в деятельном стремлении пособить в настоящем не только материальным, но преимущественно духовным нуждам народа. Но вы, очевидно, недовольны этим понятием, вы требуете еще чего-то другого. По-видимому, вы полагаете любовь к народу главным образом в привязанности к своему родному. Ко всему ли, однако, своему? Вот, например, русский раскол, возникший в XVII веке, когда еще «народный дух и разум» не были в плену, когда еще не была разрушена «духовная цельность нашего национального бытия». И по происхождению, и по характеру своему этот церковный раскол есть нам свое родное, самобытно-национальное. Вы не можете отрицать, что он вырос прямо на русской народной почве. Однако же вы ему не сочувствуете, вы не требуете ни от кого любви и привязанности к расколу, напротив, из любви к России и к самим раскольникам вы должны желать, чтобы они не привязывались, а поскорее отвязались, освободились от своего родного и родового, отеческого раскола. Почему же так? Да просто потому, что это родное есть вместе с тем худое, недолжное. Значит, и по-вашему любить нужно не все свое, а только хорошее. Значит, во всяком деле не о том нужно спрашивать, свое или не свое, а о том, хорошо или худо. Работая как следует над общеполезным вселенским делом, мы на деле покажем свою любовь и ко всем своим, и к близким и к дальним, и к семье и к народу, и к человечеству.
Главная ваша ошибка в том, что вы ставите народность и народную самобытность как какой-то предмет любви и действия, тогда как по-настоящему народная самобытность находится не в предмете любви и действия, а в том, кто любит и действует. Принадлежа к известному народу, мы волей-неволей причастны народной самобытности, народному характеру и типу, мы неизбежно налагаем свой национальный отпечаток на все, что мы делаем: хорошее и дурное. Нам нечего искать вне себя той народности, которая сидит в нас самих. А вот о чем нам нужно стараться: чтобы наши личные и народные силы прилагались к настоящему хорошему делу, чтобы мы проявляли свою народность с лучшей ее стороны.
Возьмите хотя бы какого-нибудь специального деятеля – положим, ученого. Принадлежа к известному народу, этот ученый непременно проявит в своих научных трудах не только свои личные, но и национальные особенности. Но для этого нужно, чтобы этот ученый думал прежде всего о своем предмете, делал свое дело, а иначе и самой национальной особенности не на чем будет проявиться. Отличный пример национальности в науке приводит Н. Я. Данилевский в своей книге «Россия и Европа», а именно политико-экономическую систему Адама Смита и теорию Дарвина. И у того и у другого английский национальный характер проявился в высочайшей степени. И тот и другой менее всего об этом заботились. Они вовсе не хотели создать английскую политическую экономию или английскую биологию. Английский народный характер проявился у Адама Смита незаметно для него самого в его общем взгляде на сущность экономического общества, в его экономических понятиях, точно так же у Дарвина английский национальный характер проявился не в стремлении создать английскую национальную биологию (на что нельзя найти ни одного намека в его сочинениях), а опять-таки в его общем взгляде на природу и в самых его понятиях об органической жизни. Если бы Адам Смит и Дарвин заметили, какое сильное влияние их национальность оказывает на их научные труды, они, наверно, как настоящие добросовестные ученые, поспешили бы, ради беспристрастия, ради научной истины, как-нибудь оградить себя от этого влияния. И это было бы хорошо. Национальная особенность от них не ушла бы, а от национальной ограниченности и односторонности они бы избавились. В силу своей национальности видя лучше других известную сторону предмета и разрабатывая ее, как никто, они не закрывали бы глаза на все остальное. Тогда Адам Смит увидал бы в экономической жизни другой интерес, кроме произведения богатства, а Дарвин открыл бы в жизни природы другой смысл, кроме борьбы за существование. Так и во всем: силою разума и доброй воли поднимаясь над своей национальной ограниченностью, мы можем лучше пользоваться своею народною особенностью. Национально хорошее у нас остается, а от национально худого мы освобождаемся.
Вы спрашиваете: когда же какой народ в истории забывал о себе и жертвовал собою? Да именно тогда, когда он, народ, целыми массами или же в лице избранных своих сынов совершал великие всемирные дела, когда он не отделял себя от человечества, когда он искал своего блага в общем вселенском благе. Так иудейский народ в лице апостолов забывал иудаизм для вселенского христианства, когда иудею апостолу Петру, на которого вы ссылаетесь, его любовь к братьям по крови не помешала отвергнуть заветные предания и стремления еврейского народа, принести их в жертву такой религии, в которой, по его же словам, нет ни эллина, ни иудея, ибо он знал, что эта религия, будучи спасением для всего мира, тем самым была спасением и для еврейского народа. Забывали о своей национальности арабы, когда создали и распространили на полмира безнародный ислам и, наконец, сами подчинились и халифат передали иноплеменному турку. Забывали о своей национальности и наши европейские народы, когда подчинились сверхнародной власти католической церкви и этим подчинением создали европейскую культуру. На забвении национального эгоизма основано все хорошее и у нас в России: и русское государство, зачатое варягами и оплодотворенное татарами, и русское благочестие, воспринятое от греков, и то заимствованное с Запада просвещение, без которого не было бы русской литературы, не было бы и вашего славянофильства.
Да и помимо этих собирательных проявлений сверхнародности, то же самое видим мы и в единичных случаях, каждый раз когда гениальный человек дарит миру какое-нибудь вековечное творение. Вы указываете на пример Англии с ее Бэконом, Ньютоном и Шекспиром. Но неужели вы полагаете, что Бэкон, когда писал по-латыни свою «Instauratio scientiarum» или свой «Novum Organum», думал не об успехах науки, а об английской национальности или хотя бы об английской науке? Думал ли об этом и Ньютон, когда писал также по-латыни свою «Натуральную философию»? Несомненно, у них обоих англичанин исчезал в ученом, национальность забывалась для науки. Да и относительно Шекспира, который писал по-английски и был горячим патриотом, неужели можно искать в «Гамлете» или «Буре» каких-нибудь проявлений национализма? Не вполне ли ясно, что здесь национальное чувство именно забыто для чего-то высшего? А вот у того же Шекспира в драматической хронике «Генрих VI) национализм действительно выступает весьма резко: выводя на сцену Иоанну д’Арк, Шекспир забывает поэзию, помнит только, что он англичанин, и из этого возбужденного национализма порождает нечто безобразное и позорное: кощунство над мученицей, оправдание убийц и палачей[101]. Драмы Шекспира, свободные от национализма, прославили и его, и английскую народность, а внушенные национализмом сцены «Генриха VI» остаются позорным клеймом и для него, и для английского народа.
Я воспользовался вашими примерами. Приведу и другие, еще более убедительные. Вспомните про Гёте – вот бесспорно величайший представитель германской национальности, провозвестник настоящих откровений германского духа, и однако же это не мешало ему быть в высшей степени равнодушным ко всем национальным патриотическим интересам. Возьмите Шопенгауэра – не столь великого, но все-таки крупного и крайне типичного немца, – который не только был чужд всякого национализма, но не иначе как с глубочайшим презрением отзывался о германской нации, находя в ней действительно хорошим немецкий язык (как и наш Тургенев относительно России). Между тем вы согласитесь, что не только Гёте, но и Шопенгауэр лучше представлял собою германскую народность, лучше послужил своему народу и более его прославил, нежели, например, Менцель и другие германофилы. Я указываю на антинационализм Гёте и Шопенгауэра вовсе не как на образец для подражания, но оба они наглядно доказывают, что народность, или народный характер, как положительная сила, присущая всему народу и особенно проявляющаяся в его лучших людях, это есть одно, а национализм, т. е. ревнивая и напряженная заботливость о своей национальной особенности, усиленное возбуждение национального эгоизма, – это есть совсем другое и даже противоположное. Народный дух, национальный тип, самобытный характер – все это существует и действует собственной силой, не требуя и не допуская никакого искусственного возбуждения. В истинно народном нет ничего нарочного, иначе вместо народности окажется только народничанье. Между тем и другим такая же точно разница, как между оригинальностью и оригинальничаньем: первое есть нечто невольное и хорошее, второе есть нечто намеренное и дурное.
Люди и народы бывают самобытны, но сделаться самобытным никто не может. Народная самобытность, как настоящий клад, дается только тем, кто его не ищет, а кто ищет, тот вместо сокровища приносит домой одни негодные уголья.
Чтобы проявить народную самобытность, вовсе не нужно «устремлять все силы к распознанию нашего народного типа», как вы говорите, а нужно прилагать эти силы к делу. Высшее же дело, высшее призвание народа христианского, как вы сами допускаете, есть водворение на земле правды Божией. В этом деле народный дух должен проявить свою высшую нравственную силу, в этом деле народ должен быть готов жертвовать собою, должен быть готов к подвигу национального самоотречения. Вас пугает это слово. Смешивая национализм, т. е. национальный эгоизм, с народностью, вы вследствие этого и под национальным самоотречением разумеете уничтожение самой народности. Но самоотречение не есть самоубийство. Требование национального самоотречения есть только прямое приложение к народу заповеди Христовой, обращенной ко всем: «Глаголаше же ко всем: аще кто хощет по Мне идти, да отвержется себе, и возьмет крест свой, и последует Ми. Иже бо аще хощет душу свою спасти, погубит ю, а иже погубит душу свою Мене ради, сей спасет ю» (Лк. IX, 23–25). Здесь прямо требуется самоотречение, но требуется ли здесь самоубийство? И если личное самоотречение не есть самоубийство, то почему же национальное самоотречение будет непременно национальным самоубийством? На самом же деле самоотречение, как нравственный подвиг, всегда есть высшее проявление духовной силы и для отдельного лица, и для целого народа. Если личное самоотречение не есть отречение от личности, а есть отречение лица от своего эгоизма, то точно так же и национальное самоотречение не есть отречение от национальности, или народности, а есть отречение народа, или нации, от своего национального эгоизма, или национализма.
Насколько мне известно, никто никогда не обращался к лицу или к народу с бессмысленным требованием отречься от своего хорошего. Поскольку народность (так же как и личность) есть положительная сила, способная по-своему воспринимать и исполнять добро и правду, постольку заповедь самоотречения к ней неприменима. Эта заповедь относится не к народности, а к национальному эгоизму, которому дорого не хорошее, а свое, хотя бы и худое. В силу эгоизма мы склонны стоять за свое худое, за свои недостатки и грехи как за свои, т. е. как за неотъемлемую часть нас самих, а потому для отвержения этого худого требуется действительное самоотречение, или, по еще более сильному выражению Евангелия, требуется погубить душу свою. Но это есть гибель худой, злой души, гибель эгоизма, а не личности, гибель национализма, а не народности. В моей статье нет ни одного места, где бы даже упоминалось отречение от народности. Говоря же о национальном самоотвержении и самоотречении (а в одном месте, на стр. 14, прямо об «отречении от национальной исключительности и замкнутости», от которой мы уже отрешились в области мирской, но не хотим отрешиться в области духовной), я считал излишним объяснить, что не имею в виду ни самоубийства, ни отвержения народом и своего хорошего. Тем более я считал это излишним, что приведенные мною из русской истории примеры национального самоотречения представляют именно отвержение народом своего дурного, возвышение народа над своим данным худым состоянием – над народными усобицами, в одном случае, над народной замкнутостью и невежеством – в другом. Это и вы должны признать, как бы вы ни смотрели на те исторические факты. Впрочем, в большей части того, что вы говорите о призвании варягов, я нашел прекрасное подтверждение и распространение моей мысли. В этом случае вы ее выразили гораздо сильнее, чем я, как это видно из следующих отрывков вашей статьи («Русь», № 7, стр. 6 и 7).
«Действительно, история не представляет другого примера такого сознательного, свободного и произвольного водворения государственного начала, оно принадлежит исключительно России. Эта сознательность в отношениях народа к власти и проходит потом сквозь всю нашу историю до самых последних дней, не на суеверном, слепом, не на рабском чувстве покоится и ныне преданность и покорность русского народа царю, а на сознанном и душою усвоенном принципе… Но возвратимся к подвигу наших предков. Племя восставало на племя, род на род, были, вероятно, попытки племенных союзов и федераций, но они оказывались безуспешными, свободная мирная жизнь становилась невозможною, мудрые предки поняли, что для прекращения и решения их раздоров и споров нужен – третья, т. е. посредник, взятый извне не причастный ни к одной стороне, нужна власть, не та, которая бы вознесла одно племя над другим, но которая бы сама над всеми возносилась, всем одинаково чуждая, а потому и всем своя, свободная от всяких племенных и родовых пристрастий.
Во всяком случае, не от национальности отрекались наши предки, а от похоти властвования и командования друг над другом, отрекались от вражды и раздора, обуздывая себя всеобщим послушанием единой, общей для всех, призванной со стороны власти.
«То же самое отречение от властолюбивой похоти, от принципа „народного верховенства” (la souverainete du peuple) проявлялось и после варягов несколько раз в русской истории, а в 1613 г., когда государство разбилось вдребезги, народ восстановил его снова, ходил по самодержавного царя за Волгу, несколько лет упрочивал его власть авторитетом и надзором своих земских соборов, а потом с полным доверием, не заручившись никакими гарантиями, „пошел в отставку”, по выражению Хомякова, возвратился к своей земской жизни».
Вы прекрасно изложили здесь, как действовали «мудрые предки», почему же вас так возмущает мое желание, чтобы и потомки были столь же мудрыми? Отречение от своего худого (от раздоров, усобиц и своеволия, в одном случае, от исключительности и замкнутости, от неподвижности духа и мысли – в другом), принесение в жертву худшей стороны себя самого и своей жизни ради высшего блага – это, как и вы сами признаете, есть дело народной мудрости. Побуждать свой народ к этому мудрому делу и деятельно участвовать в нем – этого требует от нас истинная любовь к народу. Ради этой истинной и мудрой любви необходимо отрешиться от слепой привязанности ко многому своему родному, неизбежно отделиться от худой народной действительности и не только самому отделиться от народа, но стараться, чтобы и народ отделился, так сказать, от самого себя, осудил бы себя, поднялся бы над собою. И как это самоосуждение и самоотрицание понятны русскому народу! И чем же, кроме любви к народу, может быть внушено желание, чтобы народ, согласно лучшим, хотя еще и неясным стремлениям своего собственного духа, отрешился от худших сторон своей природы, от дурных и пагубных условий своей жизни, поднялся бы над своей греховной и бедственной действительностью?
Вы требуете, чтобы мы любили народ простым и непосредственным чувством, чтобы мы любили народ как свою семью. Но ведь относительно семьи мы находим в божественном законодательстве две заповеди, или два закона, по-видимому, прямо противоречащие друг другу, и для примирения этого видимого противоречия ссылка на непосредственное чувство окажется совершенно недостаточным средством. Первая из сказанных заповедей есть та, которая дана чрез Моисея народу израильскому: «Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет и долголетен будеши на земли». Вторую заповедь дал Христос ученикам своим:
«Идяху же с Ним народи мнози: и обращся рече к ним: Аще кто грядет ко Мне и не возненавидит отца своего и матерь, и жену, и чад, и братию, и сестер, еще же и душу свою, не может Мой быти ученик» (Лк. XIV, 25–26).
Предписывая любить всех, даже и врагов, Евангелие, конечно, не может исключать из этой истинной любви наших ближних, семью. Однако же прямо сказано: «аще кто не возненавидит». Значит, есть такая ненависть, которая не противоречит истинной любви, а, напротив, требуется ею. Значит, есть и такая кажущаяся любовь, которая противоречит истинной любви, от этой ложной любви и нужно отрешиться, в этом смысле и нужно возненавидеть – возненавидеть не только себя или «душу свою», но и свою семью, и всех близких своих и народ свой, – ибо в других местах Нового Завета требуется отрешение и от своего народа. Вот эта-то истинная ненависть, упраздняющая ложную любовь, ложную и слепую привязанность к своему родному, она-то и есть то самоотречение – не личное только, но и семейное, и родовое, и национальное, за которое вы на меня так восстали, как будто оно выдумано мною или какими-нибудь западниками, а не возвещено и Западу и Востоку в Новом Завете, и возвещено в выражениях гораздо более резких, нежели «самоотречение».
Евангельская «ненависть» не противоречит истинной любви, а есть ее необходимое проявление. Отрешаясь от своих исключительных привязанностей, чтобы следовать Христу, участвовать в Его деле – деле всемирного спасения, мы тем самым содействуем истинному благу и своей семьи и своего народа: мы отрешаемся от них ради их же спасения, тогда как наша слепая исключительная привязанность к своему и своим, забывающая высшее для низшего, предпочитающая царскому пиршеству пару волов и собственное поле, пагубна не только для нас самих, но и для тех, кого мы любим этою ложною любовью. Зачем же, однако, стоит в Евангелии такое жестокое слово: аще кто не возненавидит? Да именно затем, что были люди, которые не понимали, что истинная любовь может требовать отречения от своего родного, которые настаивали на солидарности с семейным и родовым эгоизмом, которые отречение от этого эгоизма во имя истинной любви принимали за ненависть. Обращенные к этим людям евангельские слова имеют такой смысл: «Вы думаете, что настоящая любовь состоит в слепой и исключительной привязанности к своему родному, к семье, к народу, в единении и общении с их неистинною и неправедною жизнью. Для вас отрешение от всего этого означает отсутствие самой любви, на вашем языке это есть ненависть. Итак, применяясь к этому вашему языку, говорю вам: если кто не возненавидит все свое родное и близкое, тот не может быть Моим учеником. Чтобы быть Моим учеником, нужно отрешиться от той низшей, слепой привязанности, которую вы считаете за любовь, и нужно иметь ту истинную, высшую любовь, которая по-вашему есть ненависть». Эту евангельскую ненависть усвоил себе и тот величайший проповедник Евангелия – апостол Павел, на которого вы ссылаетесь: он был обвиняем и преследуем своими как враг, ненавистник и предатель своего народа. Очевидно, есть две ступени в любви к народу и одна для другой кажется ненавистью. Любовь тут кажется враждою, преданность – предательством, похвала – хулою. Вам, например, осуждение национализма, создавшего наш церковный раскол, показалось хулой на Россию! Да разве Россия и русский национализм – одно и то же? Разве вы и ваш эгоизм – одно и то же? И если бы я, указав на ваши истинные заслуги, рассказав, как хорошо вы действовали в известных случаях, когда руководились высокими нравственными мотивами, пожелал бы, чтобы вы и впредь ими руководились и никогда не становились на явно негодную, явно бесплодную почву самолюбия и самомнения, которая ничего, кроме худого, произвести не может, неужели вы сочли бы это за хулу на себя? Указать великие нравственные подвиги России в прошедшем, благодаря которым Россия стала тем, чем она есть, и ожидать от нее более великих подвигов в будущем, ожидать от нее вселенского единства, неужели это значит хулить Россию? А хулить то, что худо, хулить национализм с его самолюбием – это не только позволительно, но даже нравственно обязательно. Да и что бы вышло, если бы я свою «хулу» заменил в этом случае похвалой, если бы я сказал, например, так: «Россия должна утвердиться на явно полезной и плодотворной почве национального самолюбия и самомнения, явно полезной и плодотворной, ибо она произвела столь прекрасное и спасительное явление, как церковный раздор в русском народе по поводу старых опечаток».
99
В этом смысле я и защищал (в «Новом времени») соглашение нашего правительства с римским престолом и восстановление католической иерархии в польских и литовских землях. Нескольким миллионам русских подданных возвращена благодать святительства, восстановлена у них правильная церковная жизнь: можно ли это класть на одни весы с какими-то польскими интригами?
100
Если нельзя обойтись без полемики, то она должна быть одинаково свободной с обеих сторон. Допущение этого зависит, конечно, от правительства, но показываем ли мы с своей стороны достаточно желания и способности к такой свободе?
101
Иоанна д’Арк одинаково пострадала и от английского национализма, и от пустой безнародности французского вольнодумства («La Pucelle» Вольтера). Одинаково далеко и от того, и от другого истинно поэтическое ее изображение («Орлеанская Дева» Шиллера). Сама личность Иоанны выражала в себе лучшие народные и сверхнародные черты французского духа: пламенную мистическую религиозность, беззаветную преданность церкви и королевской власти, сострадание к общественным бедствиям, а патриотический подвиг ее – защита родины от бессмысленного и грубого насилия чужеземцев – был вполне законным, хотя и не высшим проявлением истинного народного чувства.