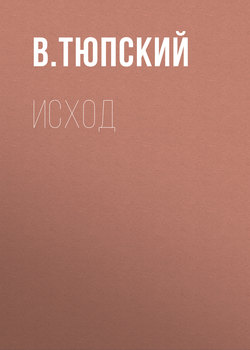Читать книгу Исход - В. Тюпский - Страница 2
Александр Беляев. Воспоминания о прошлом
ОглавлениеО Киргизском бунте 1916 года и его подавлении в Семиречье Средней Азии, в том числе на территории Иссык-Кульской области, Пржевальского уезда, написано немало! Так же сохранилось много архивных документов того периода.
В общем, тема Киргизского бунта изучена достаточно хорошо! Я же хочу рассказать об отдельных событиях, происходивших в Иссык-Кульской области, и Киргизии в целом, в последующий период времени. В том числе о событиях, связанных с моей семьёй.
Впервые мне кое-что рассказал мой отец, Беляев Михаил Митрофанович, в 1960 году, когда мы поехали на телеге, запряжённой лошадью, в карьер за глиной, для заливки крыши дома. Там мы обнаружили огромное скопление человеческих костей! Вот отец и рассказал, что по весне 1917 года, в это место свозили труппы умерших от голода и холода киргизов, и кое-как их засыпали землёй.
Затем, как-то летом 1963 года, поехали мы с отцом на плато Кара-Курай, на сенокос. И там, куда больше увидели на поверхности земли человеческих костей! После этого я при малейшей возможности стал более внимательно выслушивать и кое-что записывать о событиях 1916-го и последующих годов.
Мой дед, Беляев Митрофан Федотович, казачий сотник, в 1916 году с отрядом в 56 человек, разгромил многочисленную банду мятежников, под предводительством Молдокуля, у села Преображенского, ныне Тюпа. Об этом будет мой отдельный рассказ.
А уже весной 1917 года, начались спасательные мероприятия в отношении пострадавших кочевников. Так мой дед, Митрофан Федотович, проводил разведку, вывозил умирающих от голода киргизов из урочищь Иныльчек, Тюргень, и распределял их по крестьянским дворам. Так он спас жизни порядка 180 человек. Не знал тогда мой великодушный дед, что потом Большевистская власть раскулачит этих самых крестьян, как эксплуататоров киргизского народа. Отберут всё имущество, кого расстреляют, а семьи сошлют босыми в спецпоселения Сибири и Дальнего Востока, на верную погибель!
Когда в очередной раз дед поехал с казаками на разведку в верховья Тургеня, через плато Кара-Курай, то на плато они обнаружили тысячи трупов киргизов, в основном женщин и детей. После зимы тела ещё не разложились, следов насильственной смерти не было. Все эти несчастные умерли от голода и сильных морозов, будучи брошенными их мужьями и отцами, бежавшими от возмездия в Китай! Зима же в том мятежном году случилась ранняя и очень холодная!
Казаки три дня свозили трупы в промоину перед обрывом, в одну могилу. Затем засыпали могилу, обрушив глинистые берега. А среди трупов были найдены пятеро, от одного до трёх лет, ещё живые дети! Позже ещё одного ребёнка подобрали по дороге. Детей взял к себе на воспитание мой дед, с ними выросли мой отец, его братья и сёстры. Ели с одного стола, спали на одной кошме. Вместе вшивили и мучались чесоткой. Всего у деда было 12 детей.
В 1924 году, дед передал приёмных киргизских детей в земскую школу-интернат в Пржевальске, так как создавалась автономия Киргизстана и нужна была образованная национальная интеллигенция. И вот, благодаря воспитанию в русской семье, учебе в школе и ВУЗ-ах, из этих детей выросли значимые люди Киргизстана, цвет нации! Каракеев – президент Академии Наук Киргизской ССР, Калдыбаев – ген. директор завода СЕТУНЬ (филиала Московского КБ СЕТУНЬ), Макаев – ген прокурор Киргизской ССР, Шаршебаев – главный ветврач Ошской области, Мантысов – башкарма (председатель) колхоза, Бакашев – партийный деятель.
И впоследствии, они всегда старались как-то помочь нашей семье, отплатить добром за добро! Так было в 1945 году, когда моего отца-фронтовика, с незаживающими ранами, Каракеев К.Г. сумел определить на лечение в военный госпиталь города Фрунзе, что и спасло отцу жизнь. Затем в 1965 году, когда я получил перелом позвоночника. Тогда мне в Пржевальске врачи сказали, что на ноги я никогда не встану, и жить мне осталось от силы 3 года! И опять, благодаря помощи Каракеева К.Г., меня положили на лечение в нейрохирургию при Фрунзенском мединституте. Где меня поставили на ноги, и я живу до сих пор полноценной жизнью. Помог мне Курман Гали и когда у меня возникли проблемы во время учёбы в Киргизском госуниверситете.
Во времена моего студенчества, не редко встречался со своими «сводными» братьями мой отец. Они приходили с подарками к нам в гости. Мы тогда уже жили во Фрунзе. Вспоминали своё тяжелое детство, поминали жертв 1916 года.
А на плато Кара-Курай, наверняка нет Памятного знака! А надо бы поставить! В знак величайшей трагедии киргизского народа. А ведь я остался один, кто знает это место массового захоронения! Во времена коммуняк и думать о памятниках погибшим киргизам или русским поселенцам, было опасно!
И киргизский бунт официально назывался «восстанием угнетённого киргизского народа против русского Царизма и кулачества». Иная точка зрения расценивалась как идеологическая диверсия! А ведь, в августе 1916 года было откровенное физическое уничтожение русских крестьян! Так в моём селе Ново-Вознесеновка, ныне Боз-Учук, не успевших бежать в уездный город Пржевальск, порядка 300 человек женщин, стариков и в основном детей, согнали в деревянную церковь и заживо сожгли! А в селе Кольцовка, ныне Бокомбаево, всех, от грудных детей, до стариков, – попросту вырезали, а село так же сожгли! Такое происходило повсеместно!
Как можно назвать это восстанием против Царского режима, когда повально убивали крестьянское население?!
С 1924 по 1927 год, мой дед руководил Экспедиционным отрядом медиков, санитаров и эпидемиологов. Специалисты Экспедиционного отряда в восточном Приссык-кулье выявляли очаги заражения сифилисом, лепрой (проказа), туберкулёзом и другими инфекционными заболеваниями. Проводили профилактические мероприятия, уничтожали очаги заразы и их носителей, в том числе скот, собак. Сжигали юрты, одежду, предметы быта и другое заражённое имущество. А больных киргизов определяли в карантин и лечили. Затем переводили их на оседлый образ жизни, вселяя в русские сёла, в дома раскулаченных крестьян! Где организовывали их документирование и регистрацию родившихся детей. Конечно, это вносило напряжённость во взаимоотношения русских крестьян с вчерашними варварами, кара-киргизами, вернувшимися из Китая. Но такова была преступная национальная политика Большевистской власти, направленная на установление «дружбы народов» за счёт бед и горя трудолюбивых славян! И в Киргизском госуниверситете, уже в конце 1960-х годов, мне не единожды пришлось слышать угрозы в свой адрес, только потому, что я русский! И в то же время, когда в стройотряде на спасательных работах после землетрясения, я сильно простудился, и целых два месяца пролежал в больнице, так первым ко мне подошёл сокурсник Мукеев Токтогул, и помог мне сдать успешно сессию! А физический факультет вам не книжки по прочитанному пересказывать! Вот такие взаимоисключающие поступки исходили со стороны киргизов везде, во всех сферах нашей повседневной жизни! И вот ещё один факт.
В 1952 году, по окончании строительства Сан-Ташского Сырзавода, гнали репрессированных в России «врагов народа» через наше село Ново-Вознесеновка, в ущелье Боз-Учук, на строительство гидроэлектростанции. Среди этой совершенно произвольно истерзанной толпы людей, шла женщина, жена расстрелянного «врага народа», с двойняшками сыночками, моими ровесниками, мальчиками трёхлетками. Их сопровождали конные НКВД-шники. Которые под угрозой расправы запрещали говорить с заключёнными, давать хлеб, одежду, как-то помочь несчастным.
На выходе из посёлка жил киргиз, Сеть Козы Абдрахманов. Все заключённые остановились передохнуть перед подъёмом на взгорье. НКВД-шники так же устроились в тенёчке. Женщина тихонечко занесла своих малышей за изгородь в сад, и отдала Сеть Козы, который тут же их спрятал в кошаре (хлеву) на хоздворе. Вот мне пришлось позже с этими голубоглазыми, русоволосыми «киргизятами» на одной улице развлекаться. Разбивать друг другу носы, играть в альчики, ходить красть яблоки в колхозном саду, полоть опиумный мак и есть его созревшие семена.
Стали эти дети киргизами Абдрахмановыми. Одного назвали Бакберген (данный садом), а другого Кудайберген (данный Богом). Теперь были они братьями дочери и сына Мурата Сеть Козы.
Так как я был сын раскулаченного казака, а они – дети «врага народа», учительница 1-го нашего класса, Губская, – дочь ортодоксального коммуняки, посадила нас вместе на третий ряд в самый конец! Всё время высказывала свою лютую ненависть к нам! С тем мы и жили. И вместе ей, как могли, мстили. Тем и закончилось, что отца Губской убили под селом Керге-Таш, и закопали, как собаку в промоине! А семью Губской сожгли в доме заживо, где-то в 1961году.
После окончания Киргизского госуниверситета, работая на заводе имени Ленина, как то нас, ведущих специалистов, собрал на совещание директор. Зайдя в кабинет директора, я сразу увидел среди присутствующих гостей Президента академии наук Киргизской ССР Каракеева К.Г., – «сводного брата» моего отца. Совещание проводили по новой теме организации производства, спроектированного Академией наук Киргизской ССР пресс-автомата модели УСТА. По окончанию совещания, Каракеев К.Г. попросил организовать ему экскурсию по заводу в станкостроение. А в качестве экскурсовода, предложил «вот этого молодого человека», показав на меня. Все несколько удивились, так как я в то время ещё занимал второстепенную должность. Но воля уважаемого гостя превыше всего!
Прошли в станкостроение. Каракеев Курман Гали попросил показать самые современные станки с числовым программным управлением (ЧПУ). Рассказать, как они работают. Прошлись у токарных, фрезерных станков, а затем понаблюдали самое интересное, это работу обрабатывающих механических центров. Что бы более доступно было для понимания всего процесса ЧПУ-технологии, я провёл его к себе в отдел АСТПП, где работало автоматизированное рабочее место технолога на базе ЭВМ СМ-1420. Технологи показали, каким образом требуемая плоскопараллельная деталь появляется на экране дисплея, прорисовывается графопостроителем на бумаге, выпускается перфолента для станка. С перфолентой прошли в цех к листораскройному плазменному комплексу, и тут же вырезали требуемую деталь в металле. Курман Гали с детским изумлением наблюдал за всеми процедурами. Затем с сожалением мне сказал: «Всё очень отлично! Плохо, что мы сами не можем делать такие станки!».
Я возразил, и пригласил пройти в сборочный 109-й цех, где собираются такого рода станки. Подошли и понаблюдали суету сборщиков токарных станков с ЧПУ. Прошли и на сборку обрабатывающих центров ИР-320. Тут уж он в высшей степени удивился, так как узнал в собираемых центрах те центры, что часом ранее наблюдал на механической обработке. Тут я и заметил, что настроение Курман Гали как-то сникло, на лице появилось выраженное разочарование.
Молча возвращались к ожидаемой Каракеева машине. Курман Гали подошёл к открытой двери микроавтобуса, но вернулся, взял меня под руку, отвёл подальше от сопровождающих нас участников экскурсии и тихо спросил: «Послушай, я знаю тебя уже много лет, ответь мне честно, без вранья и демагогии, почему я в столь важных, умных технологиях не видел киргизов? Они что, совсем не обучаемы?! Не хотят, или их умышленно не допускают к современным технологиям?! Я был в политехническом институте, там студентов киргизов много больше, чем русских, почему же их здесь на производстве практически нет?!»
На честный вопрос надлежало честно ответить! Но мой ответ был корректным: «Дело в том, что, когда в СМИ, по телевидению, показываю сюжеты с национальным уклоном, то показывают киргизов, занимающих руководящие управленческие и административные должности. Не показывают в строительстве, механизации, игнорируют сектор промышленного производства! Вот и получается, что молодёжь киргизов не идет в эти виды деятельности! А почему киргизов ИТР мало? Так бытует устойчивое представление, что все они должны занимать только руководящие должности! И совсем не важно где! Важна руководящая должность! Где угодно! Особенно предпочитают устраиваться в административном управлении! А здесь, на производстве, требуется весьма ответственно и напряжённо, вдумчиво, работать долго и упорно, чтобы получить желаемый результат. Вот и вся причина!».
Он опять с вопросом: «Так что, киргизы настолько необразованные, нетрудолюбивые, что у вас на заводе нет ни одного киргиза, что бы он работал со сложной техникой?!». Я ответил: «Ну почему же, есть!» Рядом находился вычислительный центр завода, вот я и повёл Курман Гали в машинный зал, к обслуживающим ЭВМ электронщикам- программистам. Среди персонала два человека были лица киргизкой национальности.