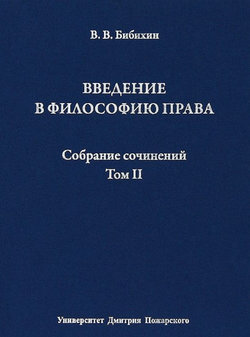Читать книгу Собрание сочинений. Том II. Введение в философию права - В. В. Бибихин - Страница 13
I. Общие положения
5. Фасад и изнанка
ОглавлениеОбратим внимание на интенсивный показ. Что мы обычно старательно показываем? Уже говорилось о самом распространенном способе скрыть что-то важное от наблюдателя (шпиона): подчеркнутым образом продемонстрировать перед ним то, что должно привлечь, приковать, как говорится, к себе его взгляд. В меру нарочитой выраженности этого показа всегда происходит такое же интенсивное сокрытие. Сокрытие при этом бывает и от самих же себя. Так пьяница говорит, что ему надо, чтобы помочь жене в хозяйстве, обязательно сходить в магазин за спичками; он уверен что именно так дело и обстоит.
Когда смотришь на что-то, твой взгляд может быть указателем для другого, поэтому на скрываемое в принципе не смотрят. Противоправные вещи делаются характерным образом с отводом глаз своих и чужих, в каком-то смысле не глядя. Преступник не лжет, когда говорит сгоряча в начале следствия, что ничего плохого не делал: он в меру возможности действительно старался не смотреть на то, что делает, и следствие должно только спокойно напомнить ему о нем самом. Делая недолжное, мы обязательно делаем при этом что-то должное, например, карманник говорит с обворовываемым любезным вежливым тоном, или наоборот сердитым скандальным, но делая вид, что он обязан быть сердитым. Делая недолжное, мы одновременно делаем что-то другое, отвлекающее, и наше внимание распределено между двумя вещами, из которых одну мы неизбежно замечаем меньше чем другую.
Интенсивный показ Кюстин видит везде в России, при дворе, на большой Макарьевской ярмарке и в простой деревне тоже.
Я был удивлен внешним обликом некоторых деревень: их отличает неподдельное богатство и даже своего рода сельская изысканность, приятная для взора; все дома здесь деревянные; они стоят в ряд вдоль единственной улицы и выглядят вполне ухоженными. По фасаду они покрашены, а украшения на коньке их крыш, можно сказать, претенциозны – ибо, сравнивая всю эту внешнюю роскошь с почти полным отсутствием удобных вещей и с той нечистоплотностью, какая бросается вам в глаза внутри этих игрушечных жилищ, вы сожалеете о народе, еще не ведающем необходимых вещей, но уже познавшем вкус к излишествам […] Со всей своей невероятной отделкой из досок, высверленных насквозь и сверкающих тысячью красок, они напоминают увитые цветочными гирляндами клетки […] Повсюду тот же вкус ко всему, что бьет в глаза! С крестьянином господин его обращается так же, как и с самим собой; и те и другие полагают, что украсить дорогу естественнее и приятнее, чем убрать свой дом изнутри […] (I, 363).
Придворный театр продолжается везде, mutatis mutandis, вплоть до деревенской избы и до дома богача, который виден и так, богатый, но кроме того выставляет себя. Демонстративность становится сплошной во всей стране.
В России изобилие – предмет непомерного тщеславия; я же люблю великолепие, только когда оно существует не для видимости, и мысленно проклинаю всё, что здесь пытаются сделать предметом моего восхищения. Нации украшателей и обойщиков не удастся внушить мне ничего, кроме опасения быть обманутым; ступая на эти подмостки, в это царство декораций, я испытываю одно-единственное желание – попасть за кулисы, мной владеет искушение приподнять уголок холщового задника. Я приезжаю, чтобы увидеть страну, – а попадаю в театр (I, 363 сл.).
У России были периоды интенсивного показа, как раз те, когда важно было многое скрыть. Когда Россия выставляется иностранцу, она сама во все глаза смотрит.
Петр I выстроил для своих бояр ложу с видом на Европу; заперев в бальной зале своих скованных по рукам и ногам вельмож, он позволил им издали и с завистью взирать в лорнет на цивилизацию, усвоить которую им было запрещено: ведь заставлять копировать – значит мешать сравняться с оригиналом! (I, 349).
Играют, не забудем, все, причем некоторые с тем высшим искусством, когда почти не видно, что они играют. Французский дипломат о Николае I летом 1835 года: он превратил свою империю в декорацию, украшающую театр, на котором император призван играть главную роль: всё его внимание обращено на зрителей, хотя ни единым словом, ни единым жестом он не выдает, что участвует в игре. (I, 519).
Всё выставленное для смотрения естественно наводит на мысль о том, что не выставлено. За всё показное естественно хочется заглянуть. Это значит, что показыванием обращают внимание на скрываемое, именно тем, что его скрывают? Да, именно так. Показанному противостоит вовсе не скрытое – оно скрыванием тоже подчеркивается. Когда Фрейда пригласили к закомплексованному подростку, жившему в семье, то в первые же минуты разговора этот молодой человек, хотя его о том не просили, показал пятно на своей одежде и сказал, что оно от нечаянно пролитой еды. Фрейд мысленно поблагодарил его за то, что он этим сообщающим сокрытием избавил его от лишних расспросов.
Показыванию-скрыванию, скрыванию-показыванию (демонстрируемое и спрятываемое в одинаковой мере подчеркиваются) противоположна незаметность, невзрачность (неприметность). В меру показа показного на скрываемое обращается больше чужое внимание, чем свое; самому мне кажется что я что-то действительно скрыл, хотя обычно мне удается отвести глаза от скрываемого только в той мере, в какой начинают подозревать, что я скрываю что-то большее и худшее. Внимание, отдаваемое показу и скрыванию, т. е. показу особого рода, оттягивается от невзрачного, неприметного. Оно не показывается и не скрывается, т. е. стало быть вообще никак не улавливается. В одежде Жака Деррида поражала гармония между цветом глаз и большим галстуком, явное портновское мастерство пиджака, заведомо не купленного в магазине. «Попугай», говорили о нем недруги. По контрасту: одежда со вкусом одетой парижанки никак не заметна на ней. Только случайно пораженные этим, мы начнем обращать внимание на детали ее костюма.
Солдат-«дед» показным, шутовским образом отдает требуемую по уставу честь офицеру и этой демонстрацией скрывает-показывает весь ряд неуставных отношений. Отдание чести показано офицеру, демонстративность показана себе, кому угодно и в том числе офицеру, который по долгу службы обязан держаться уставных отношений, причем, конечно, знает и о неуставных и делает вид, что их не замечает. Здесь и показываемое, и скрываемое, так сказать, в равной мере на виду. А невзрачное, неприметное? Это, например, плохие зубы отдавшего честь «деда». Неписаный закон, обычное право неуставных отношений при дедовщине не включает такое обслуживание «дедов» «духами», как чистка зубов, а у «деда» внимание от заботы о витаминах и хорошей зубной щетке уже оттянуто на соблюдение порядка дедовщины.
Аналогичным образом как в патриотическом наборе превосходных оценок своей страны, так и в диссидентском стандартном наборе[105] обличений родных порядков одинаково ускользает невзрачное, неприметное. Напоказ выставляют чтобы скрыть, скрывая обращают внимание на скрытое. Среди этого показа-сокрытия важное остается никем не замечено. Скрипач показывает свои сильные стороны, заслоняя ими известные ему недостатки. Слушателя задевает однако не показанное, а то невыразимое, что достигается неприметно неуловимыми оттенками. Предписать, расписать такие вещи невозможно.
Право останется неправом, если формализует всё, не оставив места для неуловимых вещей. Всё вывести из тени на свет невозможно. Обычно закон оставляет почти нетронутой область собственности, в том числе так называемой интеллектуальной. Неразличение между скрываемым и невидимым приводит к путанице, о которой придется еще говорить. Сложность жизненного уклада, когда все жители, демонстрируя одно показом, другое утаиванием, отвлекаются вниманием от невыразимого и неприметного, прибавляет стране энергию кипящего котла.
Зрелище этого общества, все пружины которого оттянуты, как у готового к бою орудия, так страшно, что у меня голова идет кругом (II, 31).
[…] Революция в России будет тем ужаснее, что она свершится во имя религии […] опасность час от часу приближается, зло не отступает, кризис запаздывает; быть может, даже наши внуки не увидят взрыва, но мы уже сегодня можем предсказать, что он неизбежен […] (II, 15).
С введением нового разграничения задача необходимым образом осложняется. В области неприметного – не скрываемого, а невидимого – располагаются самые действенные вещи. Кюстин ограничивается в основном только нетрудным заглядыванием за фасад потемкинской деревни и разоблачением скрываемого, т. е. тоже показываемого, оставляя без внимания невидное и неприметное, столь дорогое, например, для Тютчева. Кюстин входит, несмотря на кислый спертый воздух, в крестьянскую избу, такую красивую снаружи, где надо разбудить очередного ямщика, и видит, как мужчины и женщины в одежде вповалку спят на полу и на скамьях.
В этой стране нечистоплотно всё и вся; однако в домах и одежде грязь бросается в глаза сильнее, чем на людях: себя русские содержат довольно хорошо […] (I, 366).
Скрываемое здесь подчеркнуто демонстрируется.
Так мафия картинно прячется, скрывая себя, чтобы подчеркнуть свое присутствие. В том, чтобы ей было приписано больше эффектных тайных дел, она заинтересована. Одно из средств подчеркнуть скрываемое – жестоко наказывать заглянувшего за занавес. Противоречие тут будет констатировать только очень поверхностная психология. Любой ребенок, чтобы привлечь внимание к секретной коробочке, строго запретит ее брать и будет готов к крайним санкциям за нарушение, несоразмерным с ценностью спрятанного там. В меру заглядывания за выставленный напоказ фасад впечатлительный Кюстин поддается очарованию ситуации вдвойне. Он подозревает жуть в подземных казематах Шлиссельбургской крепости («за такой скрытностью непременно прячется глубочайшая бесчеловечность; добро так тщательно не маскируют») и, конечно, тем более чувствует страшную угрозу наказания себя как шпиона. Ему кажется, что сейчас к нему протянется служебная рука в перчатке и прямо с пути отправит в Сибирь. Герцен:
Горько улыбаешься, читая, как на француза действовала беспредельная власть и ничтожность личности перед нею; как он прятал свои бумаги, боялся фельдъегеря и т. д. Он, проезжий, чужой, чуть не ускакал от удушья – у нас грудь крепче организована. Мы привыкаем жить, как поселяне возле огнедышащего кратера[106].
Вдруг схватят, как Коцебу, как Сперанского, как многих поляков, как француза Перне в Москве.
Хозяин дома обещал, что назавтра в четыре утра у дверей гостиницы меня будет ожидать унтер-офицер.
Я не уснул ни на минуту; я был поражен одной идеей […] А что если этот человек не отвезет меня в Шлиссельбург, за восемнадцать лье от Петербурга, а вместо этого по выезде из города предъявит приказ препроводить меня в Сибирь, дабы я искупал там свое неподобающее любопытство, – что я тогда буду делать, что скажу? для начала надо будет повиноваться; а потом, когда доберусь до Тобольска, если доберусь, я стану протестовать… (I, 360)
Все эти страхи множатся вокруг сокрытия и разоблачения. Сокрытие охраняется, причем вовсе не обязательно так, что охрана ставится при скрываемом: скорее наоборот, сначала охрана, т. е. запрет видеть, а потом под этот запрет подведено, что именно надо скрывать. Общий запрет смотреть во все глаза вызван страхом шпиона.
Кюстин, полностью вживаясь в ситуацию, делает и следующий стандартный шаг: выставляет напоказ, как все, видимость благополучия, надевает на себя общепринятое успокоительное лицо.
Несмотря на всю мою независимость в суждениях, которой я так горжусь, мне часто приходится в целях личной безопасности льстить самолюбию этой обидчивой нации, ибо всякий полуварварский народ недоверчив и жесток (II, 11).
Я соберу все письма, которые написал для вас со времени приезда в Россию и которые не отправлял из осторожности; я прибавлю к ним это письмо и надежно запечатаю всю пачку, после чего отдам ее в верные руки, что не так-то легко сделать в Петербурге. Потом я напишу вам другое, официальное письмо и отправлю его с завтрашней почтой; все люди, все установления, которые я здесь вижу, будут превознесены в нем сверх всякой меры. Вы прочтете в этом письме, как безгранично я восхищен всем, что есть в этой стране и что в ней происходит… (II, 25).
Это понятно, знакомо и типично, всем известно. Но Кюстин делает еще один шаг в разборе, он замечает вещь, которую в общем тоже все знают, но о которой не задумываются.
Забавнее всего то, что я уверен: и русская полиция, и вы сами поверите моим притворным восторгам и безоглядным и неумеренным похвалам (там же).
Приемы конспирации совершенствуются. Кюстин уже засовывает написанное под подкладку шляпы.
Посмотрели бы вы, как старательно прячу я свои писания, ибо любого моего письма, даже того, которое показалось бы вам самым невинным, довольно, чтобы меня сослали в Сибирь. Садясь писать, я запираю дверь, и когда мой фельдъегерь или кто-нибудь из почтовых служащих стучится ко мне, то прежде чем открыть, я убираю бумаги и делаю вид, что читаю (II, 61).
С ростом предосторожностей растет конечно ощущение себя шпионом и делается постоянным страх.
Каждое свое послание я складываю без адреса и прячу как можно надежнее. Но все мои предосторожности окажутся тщетными, если меня арестуют и обыщут мою коляску (II, 39).
Деятельность демонстративного показа и казалось бы противоположная деятельность скрывания совпадают в их одинаковой цели: ограничении зрения. Разоблачение скрытого вовсе не обязательно служит смотрению во все глаза; разоблачая скрываемое, закрывают глаза на показываемое. Поскольку показное дополнено скрытым, правда прячется не только в показном, но и в скрываемом. Между тем от показного обычно никто и не ждет правды; неправда показного скорее просто успокаивает наблюдателя, поощряя его тенденцию, и без того всегда сильную, искать скрытого.
В ситуации ограничения зрения уставное, писаное, узаконенное право часто выполняет задачу фасада, который должен спрятать то, что демонстративно скрывается.
Для чего служат установления в стране, где правительство не подчиняется никаким законам, где народ бесправен и правосудие ему показывают лишь издали, как достопримечательность, которая существует при условии, что никто ее не трогает […] (II, 22).
Выставленное напоказ, уставное право может быть собственно каким угодно, мечтательным или заоблачным. Содержательно оно мало кого интересует. На верховном уровне конституционного права и в отношении главных принципов оно как раз в жесткие эпохи бывало очень мягким, подобно отмене смертной казни в XVIII веке в опережение Европы или самой демократичной в мире конституции, принятой VIII Чрезвычайным съездом Советов СССР 5 декабря 1936 года.
Статья 124. […] гарантируется законом:
а) свобода слова,
б) свобода печати,
в) свобода собраний и митингов,
г) свобода уличных шествий и демонстраций.
Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям типографий, запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых для их осуществления.
Статья 127, неприкосновенность личности; статья 128, неприкосновенность жилища и тайна переписки.
Кюстин:
Россия осуществляла прогресс в области политики и законности только на словах; судя по тому, как соблюдаются в этой стране законы, их можно безбоязненно смягчить […] Надо бы сказать русским: для начала издайте указ, позволяющий жить, а потом уже будете мудрить с уголовным правом (II, 22).
Отмена смертной казни хуже, чем ее сохранение, если есть телесное наказание, иногда смертельное, и если условия содержания под стражей невыносимо дурны. Отмена смертной казни сверху не имеет смысла, если общее мнение расположено расстреливать негодяев без суда.
Когда слушалось дело Алибо [двадцатишестилетний, хотел 25 июня 1836 года убить короля Луи-Филиппа], один русский, отнюдь не крестьянин, а племянник одного из самых мудрых и влиятельных людей в России, возмущался французским правительством: «Что за страна! – восклицал он. – Судить такое чудовище!.. Почему его не казнили на следующий же день после покушения!» (там же).
С ситуацией номинального права нам придется часто встречаться. Пока заметим, что в ней возникает характерная неразбериха, функция которой – заставить отчаяться в возможности найти недвусмысленное законное решение и таким путем возвратиться к неписаному праву или вообще к неправу. Не то что законы путаны, а сама законность и есть «путаниц[а] в религиозных, политических и правовых вопросах». Именно эта путаница называется в России «общественным порядком» (II, 23). Характерно, что русское слово порядок в ряду своих значений начиная с состояния благоустройства и налаженности доходит до обычая, обыкновения, причем в дурном смысле (старый порядок). На российско-германском симпозиуме в Петербурге (1997) возникло недоразумение, потому что русская сторона в определенной фазе обсуждения многократно употребляла выражение российские порядки в смысле беспорядка. В немецком языке значения обычай, обыкновение у слова Ordnung нет.
Кюстин всё больше утверждается в ощущении, которое у него было с самого начала: сверху и снизу, в правительстве и крестьянстве Россия в отношениях господства и подчинения одинакова.
Едва выбившись из грязи, человек тотчас получает право, более того, ему вменяется в обязанность помыкать другими людьми и передавать им тумаки, которые сыплются на него сверху; он причиняет зло, дабы вознаградить себя за притеснения, которые терпит сам. Таким образом дух беззакония спускается вниз по общественной лестнице со ступеньки на ступеньку и до самых основ пронизывает это несчастное общество, которое зиждется единственно на принуждении, причем на принуждении, заставляющем раба лгать самому себе и благодарить тирана; и из такого произвола, составляющего жизнь каждого человека, рождается то, что здесь называют общественным порядком, то есть мрачный застой, пугающий покой, близкий к покою могильному; русские гордятся, что в их стране тишь да гладь (II, 29).
Как бы даже не оказалось, что верхи одни способны напомнить о справедливости. Но они наоборот подлаживаются к низам.
Можно было бы избежать многих бед, если бы человек, находящийся у кормила власти, подал пример смягчения нравов. Но чего ждать от народа льстецов, которому льстит его государь? Вместо того, чтобы поднять народ до себя, он сам опускается до его уровня (там же).
Ситуация в России оказывается, как и на современном Кюстину Западе, кризисом власти. Власть перестала быть началом, ведущим принципом и занята самосохранением за счет приспособления к обществу. Вместо того, чтобы сопротивляться толпе – у Цицерона такое сопротивление есть главное достоинство государственного деятеля, – власть опускается до уровня толпы. Здесь еще одна причина, почему законы могут быть сколь угодно мечтательными и идеальными. Внедрить такие законы сверху некому; сверху спешат приспособиться к нравам всех. Все могут надеяться, что их привычки и обычаи будут поняты.
Когда император или члены императорской фамилии едут из столицы в Москву по «лучшей в мире дороге», во всяком случае ухоженной, ломовые извозчики, скот и путешественники направляются по параллельной, некрасивой и ухабистой. В глаза бросается неравенство: ради одного человека теснятся тысячи. По сути никакой новый организующий принцип этим распорядком не вводится; поведение верховного лица дублирует и поощряет манеру езды каждого, у кого средство передвижения богаче, мощнее и быстрее, – манеру езды, которая делает движение «войной» и «держит в напряжении ум и чувства» (II, 44). Вводимый сверху порядок стал бы началом и принципом, если бы показал пример равенства на дорогах. Но такой пример потребовал бы огромного риска от правящего лица, его выступления наперекор всем – как раз того сопротивления, которое делает власть настоящей властью. Кюстин, монархист и реставратор, помнит такое в недавней истории Франции.
Король, который говорил «Франция – это я», останавливался, чтобы пропустить стадо овец, и во времена его правления любой путник, пеший или конный, любой крестьянин, шедший по дороге, повторял принцам крови, которых встречал по пути, нашу старую поговорку: «Дорога принадлежит всем» […] (II, 38).
Чтобы законы начали действовать, т. е. начали собственно существовать, – недействующий закон создает путаницу и хуже чем если бы закона вообще не было, – власть должна уметь показать другое и работающее их применение, чем простое приспособление их к обычаю и обычая к ним.
[…] Важны не столько сами законы, сколько способы их применения.
Во Франции нравы и обычаи всегда смягчали политические установления; в России они, наоборот, ужесточают их, и это приводит к тому, что следствия становятся еще хуже, чем самые принципы (II, 39).
В самой по себе монархии, единовластии, как принципе пока ничего совсем плохого нет.
И еще. Разница между писаным законом и законом обычая (нрава) похожа на ту, которую Кюстин заметил между тихим и «настоящим» раскачиванием на качелях.
Несколько девушек, обычно от четырех до восьми, тихонько раскачивались на досках, подвешенных на веревках, а в нескольких шагах от них, повернувшись к ним лицом, раскачивалось только же юношей; их немая игра продолжается долго […] тихое покачивание – своего рода передышка, отдых между настоящим, сильным раскачиванием на качелях. Это очень мощное, даже пугающее зрелище […] когда на качелях раскачиваются всерьез, на них, сколь я мог заметить, не бывает больше двух человек разом; эти два человека – мужчина и женщина, двое мужчин либо две женщины – всегда стоят на ногах один на одном краю доски, другой – на другом и изо всех сил держатся за веревки, на которых она подвешена, чтобы не потерять равновесие. В этой позе они взлетают на страшную высоту, и при каждом взлете наступает момент, когда качели, кажется, вот-вот перевернутся, и тогда люди сорвутся и упадут на землю с высоты тридцати или сорока футов; ибо я видел столбы, которые были, я думаю, вышиной добрых двадцать футов. Русские, обладающие стройным станом и гибкой талией, на удивление легко сохраняют равновесие: это упражнение требует недюжинной смелости, а также грации и ловкости (II, 47).
Подобный размах, когда он всерьез и по-настоящему, похож на риск маляра на одной доске и веревке. Непохоже что этому размаху есть безопасный предел или вообще какая-либо гарантия безопасности в обществе, где острота бытия ценится дороже жизни. Предельное усилие имеет практическую необходимость и повседневное применение в образе жизни русского крестьянина-робинзона (выражение Льва Толстого). Заселение восточноевропейской равнины, выживание в тощие годы, освоение Сибири, сохранение социальной базы при частых выселениях и переселениях и во время войн целиком зависело от умения крестьянина освоиться в одиночку. Конечно, всё это достигалось прежде всего благодаря лесу, но так или иначе не без предельного усилия. Робинзона сумел разглядеть в мужике и маркиз.
Русский крестьянин предприимчив, он умеет найти выход из любого положения; он никогда не выходит из дому без топора – это небольшое железное орудие в умелых руках жителя страны, где еще есть леса, может творить чудеса. Если вы заблудились в лесу и при вас есть русский слуга, он в несколько часов построит хижину, где можно переночевать, причем с большим удобством и уж наверняка в большей чистоте, чем в старой деревне (II, 49).
Быстрота, с какой русская цивилизация перебрасывалась из Новгорода в Киев, потом во Владимир, потом в Москву, потом в Петербург, объяснялась отчасти тем, что на старом месте становилось в разных отношениях грязно, и люди быстро и с удовольствием перебирались в свежесрубленные новенькие дома, которые легко строили на любом новом месте. И места, везде знакомого равнинного, было, казалось, неограниченно много.
Однородность России связана с ее равнинностью. О Николае Первом говорили, что в планировке страны (широкие улицы и площади, одноэтажная застройка, прямые дороги) он достигал гладкости биллиардного стола, по которому шары катились бы без помех из конца в конец. Унификация на наших просторах вещь известная. Но вот другая рядом с ней, неудобная для обсуждения; она всеми ощущается, не поддаваясь определению. Условно можно говорить о заразительности пространства. Кюстин, как всегда, податливо уступает себя этому заражению и удивленно смотрит на то, что с ним происходит.
Вчера вечером нас вез мальчик, которого мой фельдъегерь не раз грозился побить за медлительность, и я разделял нетерпение и ярость этого человека; вдруг из-за ограды выскочил жеребенок, которому было всего несколько дней от роду и который хорошо знал мальчика: он принял одну из кобыл в нашей упряжке за свою мать и с ржаньем побежал за моей коляской. Маленький ямщик, которого и без того ругали за нерасторопность, хочет, тем не менее, остановиться вновь и помочь жеребенку, ибо видит, что коляска может задавить его. Мой курьер властно запрещает ему спрыгивать на землю; мальчик как истинно русский человек подчиняется и застывает на козлах, словно окаменев, не произнося ни единого слова жалобы, а кони по-прежнему мчат нас галопом (II, 56).
То, что Кюстину не пришло в голову в Петербурге, где он молча наблюдал избиение полицейскими подсобного рабочего, теперь вдруг его поражает: почему он сам не только смотрит на происходящее безучастно, но и, больше того, одобряет своего курьера:
Надо поддерживать власть, даже когда она неправа, – убеждаю я себя, – таков дух русского правления […] Надо ехать быстро, чтобы не ронять своего достоинства; не торопиться – значит лишиться уважения; в этой стране для пущей важности надо делать вид, будто спешишь (там же).
Что случилось. Он, Кюстин, сделался другим физически, потому что и когда загнанный жеребенок на его глазах надорвался, и когда мальчика грозили жестоко наказать за недогляд, пока Кюстин был внутри всей этой среды, он «не чувствовал угрызений совести». Они пришли только с физической сменой обстановки, когда он уселся за стол к бумагам и принялся за письмо, вернувшее его во Францию. Только тогда пришло раскаяние: как я, парижанин, мог не вмешаться! Как это объяснить? Воздух, говорит он.
Покидая загнанного жеребенка и несчастного мальчика, я не чувствовал угрызений совести. Они пришли позже, когда я стал обдумывать свое поведение и особенно когда сел писать это письмо: стыд пробудил раскаяние. Как видите, человек прямо на глазах становится хуже, дыша отравленным воздухом деспотизма… Да что я говорю! В России деспотизм на троне, но тирания – везде.
Если принять в рассуждение воспитание и обстоятельства, нельзя не признать, что даже русский барин, привыкший к беззаконию и произволу, не может проявить в своем поместье более предосудительной бесчеловечности, чем я, молчаливо попустительствовавший злу.
Я, француз, считающий себя человеком добрым, гордящийся своей принадлежностью к древней культуре, оказавшись среди народа, чьи нравы я внимательно и скрупулезно изучаю, при первой же возможности проявить ненужную свирепость поддаюсь искушению; парижанин ведет себя как варвар! поистине здесь сам воздух тлетворен…
Во Франции, где с уважением относятся к жизни, даже к жизни животных, если бы мой ямщик не позаботился о том, чтобы спасти жеребенка, я велел бы остановить коляску и сам позвал бы крестьян, там я не тронулся бы в путь, пока не убедился бы, что опасность миновала: здесь я безжалостно молчал […] Русский барин, который в приступе ярости не забил насмерть своего крепостного, заслуживает похвал, он поступил гуманно, меж тем как француз, который не вступился за жеребенка, проявил жестокость.
Я всю ночь не спал […] (II, 58).
Почему гений места (genius loci), понятный в древности, забыт и человек перед ним так беззащитен? Здесь дает о себе знать привычка современной личности воображать себя абсолютной единицей, независимым индивидом. Личность не расположена догадываться, что в непривычной среде она изменится физически, станет другой или, что то же, станет как другие. Не учитывают, что дышат воздухом. Кто-то пообещал индивиду, что он нерушимый атом. Никто не предупреждает, не напоминает, что есть неопределимая сила обстоятельств (среды), которая меняет всё.
Подведем итог.
1) Ревизор, наблюдатель хотел бы видеть всё. Всё ему никогда не покажут, а если и покажут, он не увидит из-за узости зрения. То, чего наблюдатель не видит, он дополняет догадкой или подозрением. Показывают обычно то, что считают правильным и правом. Подозрение может доходить до убеждения в предельно или вернее беспредельной неправоте тех действий, которые невидимы, потому что скрываются. Презумпция невиновности вступает в резкий конфликт с подозрением. Ее искажение происходит, когда формально соблюдаются правовые процедуры, при том что проверяющий и наводящий порядок про себя уже признал осуждаемого виновным. Противоположное искажение происходит, когда побеждает часто встречающееся размытое мнение, что «нет в мире виноватых» и, если присмотришься, все одинаковы, нет плохих и в трудной ситуации все поведут себя якобы одинаково. 2) Наблюдатель, ревизор, следователь, дознаватель имеет право там, где ему не всё показано, ожидать чего угодно в том, что ему не показано. 3) Из-за того, что скрывающий неправые действия невольно скрывает их и от самого себя, как если бы их совершал не он, а кто-то другой, совершивший неправое действие естественно и не вполне лживо отрицает это. Психологически с человеком, бросившим себя в стрессовую ситуацию действия, в правоте которого он не уверен, происходит аналогичное тем явлениям, когда, например, падающий со стула, ножка которого вдруг подломилась, не думает, что падение произошло с ним, а в военной ситуации раненый, особенно тяжело или смертельно, часто бывает уверен, что дурное случилось с кем-то другим. Мы вообще говорим себе «это не я, это происходит не со мной, это меня не касается» на каждом шагу и гораздо чаще, чем сами замечаем. Задача следствия в отношении преступника и цель исправительной системы – терпеливо довести до сведения нарушителя, что преступил право именно он. С этим связана проблема вменяемости.
Юридически все граждане исходно предполагаются вменяемыми. Фактически невменяемость в той или иной форме – например в форме невнятной речи, подавленного ровного тихого тона, неестественной скованности движений или в уже упомянутой более явной форме убежденного отрицания фактов, для следствия совершенно очевидных, – наблюдается почти во всех случаях судебного разбирательства. Судебно-медицинская экспертиза признает однако невменяемость только в случае явной патологии и раздвоения личности. 4) Демонстративный показ призван обратить внимание на одну сторону дела и тем самым скрыть другую. В действительности, конечно, в какой мере скрываемое скрывают, в такой же и обращают на него внимание. Строго запрещая посещение заключенных, например, в Шлиссельбургской крепости, полицейские власти заставили маркиза де Кюстина предполагать там что-то худшее чем на самом деле. Показ и скрывание оттягивают как мое, так и чужое внимание от неприметного, которое может оказаться или, вернее, всегда оказывается самым важным для следствия. 5) Демонстрация благополучия права, как например конституция СССР 1936 года, самая идеальная по тем временам в мире, или отмена смертной казни в единственной стране Европы, в России при Екатерине II, т. е. выставление заведомо очень высокого, трудноисполнимого потолка, работает как отмена права. Статья 128 Конституции 1936 года, постулировавшая неприкосновенность личности, жилища и тайну переписки, была из тех статей, которые уводили право в мечтательную идеальность, исключавшую самую мысль о ее внедрении. Отмена смертной казни Екатериной II вводила беззаконную смертную казнь, потому что при запрете смертной казни уже нелогично было вводить в законодательство санкции за смерть от телесного наказания, плетьми; таких санкций и не было, т. е. убить человека телесным наказанием было фактически разрешено. Правосудие в таком случае, по выражению Кюстина, показывают как музейный экспонат издали без разрешения прикасаться к нему. Недействующий гуманный закон поэтому хуже, чем если бы закона вообще не было.
Необходимое добавление. Бесправие, произвол возмущают и требуют немедленно исправить положение. Но так обычно бывает при взгляде со стороны. Внутри ситуации мы ведем себя иначе чем извне ее. Маркиз де Кюстин, когда сам оказывается внутри того, что его возмущает, – сопровождающий его полицейский чин жестоко ведет себя с ямщиком, – спокойно соглашается с ситуацией и только потом, когда снова смотрит на всё со стороны, видит безобразие фельдъегеря и свое собственное.
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу
105
Впервые мы встречаем этот набор в подробном виде в «Записках о московитских делах» (1517–1549) Зигмунда Герберштейна.
106
А. И. Герцен. Собр. соч. в 9-ти тт. М., 1959, т. 9, с. 125.