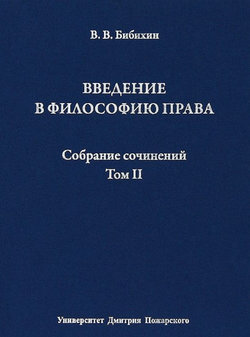Читать книгу Собрание сочинений. Том II. Введение в философию права - В. В. Бибихин - Страница 9
I. Общие положения
1. Право, порядок, мораль[42]
ОглавлениеОтсутствие определения права, чему удивлялся Иммануил Кант и продолжают удивляться современные писатели, не мешает тому, чтобы право эффективно работало. Точно так же неопределимость времени увязывается с тем, как легко ответить на вопрос «сколько времени». В старом анекдоте иностранец спросил об этом в Лондоне, забыв употребить определенный артикль. Получилось What is time? Англичанин посмотрел на иностранца задумчиво и признался: «Я тоже давно думаю над этим вопросом». Заданный с определенным артиклем или указательным местоимением, вопрос оказался бы привязан к конкретной ситуации, к расписанию и календарю. Так же конкретно, внутри принятого образа жизни, мы пользуемся правом. Если человек спрашивает другого, «какое вы имеете право брать меня за руку», здесь нет приглашения осмыслить содержание термина. Вопрос означает конкретно, что задавший его готов позвать милиционера или требует показать ордер на арест.
Время, в своей сущности неопределимое, удобно расписано в нашей цивилизации. При ее деловом характере у нас нет времени думать о времени. Мы пользуемся счетом на каждом шагу, но дефиниции числа ни в математике, ни в философии не существует. Сходным образом у каждого из нас столько конкретных юридических проблем, что не остается места для определения самого по себе права.
Правовой системе внутри нашей цивилизации придает убедительную весомость ее принудительность. Если понадобится, я могу через государственные органы, суд, милицию добиться осуществления силой моих прав. Государству в наше время принадлежит исключительная монополия на принудительное осуществление права, будь то моего частного, или так называемого публичного права, т. е. права самого государства на распоряжение своими подданными.
Право (Recht) есть порядок (Ordnung), отличающийся от других общественных порядков принудительностью[43]. В практике государства принято обязывание что-то делать или, наоборот, не делать. Причина, объясняющая принуждение, называется правом. По определению Ганса Кельзена,
государство есть по своей сути принудительный порядок, а именно централизованный принудительный порядок с ограниченной территориальной сферой действительности[44].
Как при конфликтах в животном мире дело редко доходит до физического столкновения, так государственное принуждение не обязательно насилие. Резиновая дубинка, наручники, даже штрафы применяются не часто. Обычно бывает достаточно неодобрительного отношения или предупреждения со стороны власти. Довольно часто люди, нарушающие или даже не нарушающие право, сами хотят принуждения. Ганс Кельзен обращает внимание на тоску большинства по правопорядку.
Раскаявшийся преступник может желать понести установленное правопорядком наказание и потому воспринимает его как благо[45].
В обществе здесь та же коллизия что в одиночке, который часто хочет одного и принуждает себя к другому, не умея жить без этой дисциплины. Неодобрением, предупреждением о дурных последствиях действует и мораль. Как и право, она говорит о должном. Чем отличается право от морали?
В идеале право совпадает со справедливостью и соответствует морали, которая придает ему авторитетность, когда имеет высокое божественное происхождение. Апостол Павел учит в гл. 13 Послания к Римлянам:
Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из наказания, но и по совести. Для сего вы и налоги платите, ибо они [власти] Божии служители, сим самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное: кому налог, налог; кому пошлину, пошлину; кому страх, страх; кому честь, честь.
Отличительной чертой права называют его принудительность. Но принуждение есть и в морали. По Иммануилу Канту, имеет ценность только поведение, идущее наперекор личной склонности или интересу. Делая доброе дело потому, что оно мне интересно и приятно, я еще не нравственный человек. Фридрих Шиллер шутливо изложил это правило в александрийских стихах:
Ближним охотно служу, но увы, я имею к ним склонность.
Вот и терзает вопрос, вправду ли нравственен я.
Мораль оказывается по Канту обязательно принуждением.
Моральный закон у людей есть поэтому императив, повелевающий категорически, ибо этот закон абсолютен; отношение такой воли к этому закону есть зависимость под названием обязательности, означающая принуждение (Nötigung), пусть лишь через разум и его объективный закон, к деянию, называющемуся соответственно долгом[46].
В таком свете разница между моралью и правом та, что в морали я принуждаю сам себя, а в правопорядке монополией на принуждение обладает государство. С другой стороны, законопослушный гражданин может, не дожидаясь напоминания органов правопорядка, сам например заплатить налоги.
Мораль, причем не только религиозная, обещает за самоограничение, аскезу и страдания не только награду на небесах, но и в здешней жизни чистоту совести, духовный мир, благодать. Государство, уводя молодого человека от семьи на службу в армии, предполагает, что в конечном счете цель государства есть всеобщее благосостояние, развертывание возможностей каждой личности, полнота существования, в конечном счете счастье той же семьи.
Государство имеет правоохранительные органы, в которых работают специалисты, осуществляющие применение силы. В системе морального нормирования такой централизованной системы принуждения как будто бы нет. Однако и это различие между правом и моралью оказывается размытым. В международном праве, которое регулирует отношения между государствами, тоже нет централизованного органа правопорядка. Организация Объединенных Наций слишком слаба; ее охрана, полиция и войска на самом деле формируются из армий отдельных стран, т. е. реально в миротворческих миссиях ООН отдельные государства или группа союзников действуют против других. Если право есть система принуждения, то международное право, где наднациональной системы правосудия нет или она очень слаба, не отличается от международной морали; так его иногда и называют. С другой стороны, в светской и религиозной морали существует применение силы, например родителями в отношении детей, и централизованный контроль, например введенная федеральным министерством отметка школьникам за поведение или официальный запрет патриарха РПЦ смотреть некоторые фильмы.
Четко разграничить право и мораль оказывается трудно или вообще невозможно. При всём том, подобно тому как мы обязаны вступить в пространство права, признав абсолютность долга, закона, нормы, хотя могли бы, возможно, спокойнее прожить без них, точно так же мы обязаны требовать различения между правом и моралью, хотя, возможно, спокойнее было бы согласиться с буквальным смыслом апостола Павла, что власть от Бога и составляет одно целое с моралью и верой. Если мы слышим, что сосредоточение всей власти в одних руках отвечает традиции и привычкам народа, разумным будет возразить, что в вопросах права надежнее держаться конституции (основного закона), оставив нравы в компетенции морали. Если скажут, что требование права, например обязанность суда провести явного преступника через всю судебную процедуру по букве УК и УПК и соответственно с риском его оправдания по формальным причинам, противоречит морали, взывающей к обязательному наказанию порока, то надо отвечать, что какой бы ни была система законов, пусть даже несправедливой, есть нравственность в том, чтобы соблюдать норму ради соблюдения нормы. Независимо от того, каково право содержательно, оно нравственно ценно тем, что отстаивает принцип нормы.
Наш первый долг признать абсолютную необходимость долга[47] требует отделить право как обязательную норму от морали. Многоженство, которое христианская мораль назовет отвратительным, мораль ислама считает достойной нормой. То, что у нас одобряется – заговорить на улице с чужим ребенком, подарить ему конфетку, – в Париже примут за агрессию вплоть до оглядки на полицейского. Высоконравственный, почти святой поступок примирения с врагом, даже убийцей родственника, у народов с обычаем кровной мести есть преступление. При слиянии права с подвижной моралью обязательная всечеловеческая норма исчезает.
При необходимом согласии с моралью право в неоднородной стране как наша должно было бы опираться на всеобщую мораль. Такая мораль существует. Ее правило: поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. В формулировке Иммануила Канта: поступай всегда только по таким правилам поведения, которые ты хотел бы сделать основой законодательства и всеобщим законом природы[48]. Императив (долг) вести себя таким образом не служит никаким целям вне самого себя, не меняется во времени и пространстве[49]. Такая мораль должна служить основанием всякого права. Достижение ее однако требует многого, не в последнюю очередь – разбора всей нашей конкретной ситуации с правом. Этим мы и попытаемся заняться.
Принудительность права предполагает инстанцию, осуществляющую при необходимости насилие в опоре на законодательно принятые нормы. Государство, как уже отмечалось, в течение нескольких последних веков присвоило себе исключительную монополию на применение насилия. Теперь монополизация принуждения государством считается даже первым условием упорядоченного общества. Шесть или семь поколений назад государственная монополия на насилие уже в основном существовала. Большинство государств имело своим воплощением лицо государя. Он в конечном счете казнил и миловал. Замещение после революции самодержца государственным служащим можно сравнивать с переходом от отсечения головы палачом к гильотине. В ту же эпоху, когда в ходе Великой французской революции возникло современное демократическое государство, французский врач Жозеф-Иньяс Гийотен провел через Национальную Ассамблею закон о том, чтобы из уважения к казнимым гражданам и ради меньшей болезненности смертные приговоры приводились в исполнение «посредством машины». До того подобными приспособлениями казнили в Шотландии, в Англии и еще в других частях Европы благородных преступников, к чьему телу не могла прикоснуться рука простолюдина. С тех пор до 1977 года с казнимым во Франции расправлялась машина. Человек, отводящий стопор от ножа гильотины, не заметен, в отличие от стоящего на виду у всех палача, и сам может не видеть шею казнимого, на которую обязательно должен смотреть, чтобы не промахнуться, палач. Так в государстве нового типа без всевластного самодержца лицо исполнителя принуждения теряется внутри системы государственных институтов.
В критической социологии Бурдье[50] современное государство есть фиктивное тело[51]. Продолжая наше сравнение, гильотина, на которую все смотрят во время казни, в важном смысле остается фикцией. Реальный деятель тот, кто держит веревку от крюка косого скользящего ножа, и распорядитель казни. Поскольку глаза всех прикованы к большой машине, настоящего исполнителя трудно усмотреть за нею. В том же смысле, по Бурдье, реально действуют никогда не «государственные органы», а всегда только индивиды. Безличная государственная машина была изобретением профессии адвокатов. При последнем короле Людовике XVI во Франции была предпринята перестройка судебной системы в сторону ее независимости от монарха. В ходе ее подготовки и обсуждения в общественном мнении сложилась идея общего блага и служения государству[52]. В предреволюционной Франции публицистика, авторами которой были в основном юристы, выдвинула на первое место служение не лично государю, а благу государства. Заговорили лица, претендовавшие на роль объективных экспертов незаинтересованной преданности всеобщему благу. [Юристы] были заинтересованы в придании универсальной формы выражению своих клановых интересов, в выработке теории служения обществу или общественному порядку и соответственно в автономизации государственной логики отдельно от монархической логики, от «королевского дома» и тем самым в изобретении res publica [общего дела, интереса], а потом республики как инстанции, трансцендентной по отношению к агентам (включая короля), временно ее воплощающим[53].
Общественному благу при таком его понимании служит наравне со всеми гражданами и сам государь. Тем самым потенциально уравниваются с государем те, кто прежде ему всего лишь служил. Со временем встал вопрос о проверке, действительно ли государь служит общественному благу. Этот критерий не исключал изгнание и казнь государя как плохого служителя теми, кто знает и выполняет задачу лучше.
По Бурдье, профессия юристов, сыгравшая главную роль в создании такого общественного мнения, была политически заинтересована в нем. Быть государем не дано каждому: для этого надо иметь нужную наследственность. Служить общему благу может наоборот каждый, надо только доказать, что ты именно этим занят. Государственная идеология общего блага становится со временем решающей силой. Право и его принудительность остаются прежними, теряется только лицо носителя права, которое было всем видно на троне. Фиктивность нового государства делает его неуловимым. Реальный исполнитель принуждения невидим за государственной администрацией, как палач за гильотиной.
[Теперь] понятие «государства» имеет смысл только как удобный стенографический знак – причем очень опасный, – кратко обозначающий области взаимоотношений реальных сил […]; эти области могут принять форму более или менее стабильных сетей (союза, кооперации, клиентелизма, взаимных услуг и т. д.), которые дают о себе знать в поразительно разнообразных интеракциях, начиная от открытого конфликта до более или менее тайного сговора[54].
Неуловимая невидимая сила не становится слабее личной, ее диктат не меньше чем при самодержавной власти. Как скользящая гильотина безболезненнее чем прямой удар топором, так подчинение не вот этому лицу, а государству удобнее и легче превращается в привычку. Найти источник принуждения становится трудно до невозможности. Упрочение новоевропейского государства обеспечивали идеологи, внушавшие независимый от личной воли государственный разум (raison d’Etat) вне религии и морали[55]. Всеобщее благо требует подчинения себе. Грубое или неразумное поведение властей освежает идею всеобщего блага. Она притягивает к себе больше сил, когда требуется ее восстановление. Разум, который люди хотят видеть в государстве, тем более привлекает, что государство отождествляется с правом. Будучи собственно системой механизмов права, оно кажется автоматически обеспечено правотой. Естественно ожидать, что его ученые, судьи, политики обеспечат правду лучше чем одиночка.
Бурдье предлагает видеть причину сложившейся послереволюционной ситуации, когда под именем демократии выступает неизвестно чье правление, в механизме представительства. Номинально все граждане равны в правах. Они делегируют свои полномочия тем, кого специально для этого выбирают. Делегат говорит своими формулами и решениями за массу, которая должна поверить, что слышит в нем свой голос.
Реальный источник магии перформативных [предписывающих] высказываний скрывается в мистерии служения, т. е. делегирования [прав], в силу которого индивид – король, священник или представитель – получает мандат говорить и действовать от имени группы, конституирующейся в нем и через него[56].
Отсюда как будто бы напрашивается вывод, что если инстанцией, где выявлена фикция общего блага, оказывается представительство, то единственным подлинным своим выразителем может быть только всё общество в полном составе. Представительная инстанция должна уступить место народному собранию. Здесь надо возразить, что агора, вече, тинг, в наше время всенародный референдум – неповоротливые механизмы, увязающие в бесконечном обсуждении. Молчаливое большинство было бы предано говорливым меньшинством только в случае противоречия в их высказываниях. Такого однако не наблюдается, потому что большинство в принципе не высказывается никогда. Оно должно быть молчаливым, как молчат земля, мир, вселенная. Переход молчания в голос так или иначе происходит, и неожиданность при этом неизбежна.
Необходимость представительства не сразу очевидна, но должна в конечном счете быть признана. Ганс Кельзен в примечании к одному из переизданий «Чистого права» признается:
Я больше не придерживаюсь своего прежнего мнения о том, что акты голосования, в результате которых закон принимается большинством голосов и становится действительным (вступает в силу), не всегда бывают актами воли, – потому что голосующие часто не знают или знают недостаточно хорошо содержание закона, за который они голосуют, а водящему должно быть известно содержание воли. Когда член парламента голосует за законопроект, содержание которого ему неизвестно, то содержание его воли представляет собой своего рода уполномочивание. Голосующий хочет, чтобы законом стал тот законопроект, за который он голосует, независимо от его содержания[57].
Человек вверяет себя другому или другим. Он вручает им свою волю, словно подписываясь под чистым листом бумаги. Здесь есть место для благородства доверия.
Подойдем к тому же самому с другой стороны. Термин правопорядок обычно применяется и толкуется так, как если бы две его части были синонимичны. Кто пользуется монополией на принуждение, естественно заинтересован в том, чтобы вводимый им порядок был признан как правый. В критической социологии Пьера Бурдье главное принуждение, не насильственное, а символическое, идет именно по линии внушения, что вводимый порядок освящен высшим правом. Этому служит торжественность власти, окружение ее священными символами. Когда мы видим рядом с президентом церковного иерарха, перед нами символ освящения действий президента. Для успеха убеждения в том, что существующий порядок и есть справедливость, по Бурдье требуется прежде всего правовое незнание масс. Мы помним, что перечисляя формы неправа (Unrecht), Гегель на первое место ставит правовую неграмотность.
Неправо таким образом оказывается первым условием быстрого и беспроблемного введения порядка. В термине правопорядок, когда он применяется бездумно, соединены понятия, которые часто противоположны. Большинство населения обычно готово ради скорейшего введения порядка не вдумываться в правовую сторону вводимых ради порядка мер. Например, большинство нашего населения фактически согласно с системой регистрации, бесспорно очень помогающей порядку, хотя то же большинство без колебаний признает, что система регистрации прямо нарушает заявленные в конституции права человека и по сути дела продолжает старую систему прописки, остаток крепостного права. Порядок обещает скорые удобства, путь терпеливого следования праву кажется слишком долгим. При правовой неграмотности, культивируемом состоянии массы, элементарно доходчив порядок и тревожным и хлопотным кажется право. Оно обычно примитивно и несправедливо отождествляется с качанием прав, что понятным образом неэстетично. В целом масса готова идти навстречу внушаемому силой-властью прочтению права и порядка как тождества.
В порядке есть удобство, он полезен, позволяет спокойно жить. Соблюдение права, в отличие от этого, как уже говорилось, вовсе не обязательно приносит непосредственную выгоду мне или еще кому-нибудь. В праве есть сторона рыцарства: я верен закону, долгу просто из верности. Есть разум в том, чтобы требования долга не смягчались упоминанием о том, что их выполнение и только оно делает человека достойным счастья[58]. Убеждать преступника, что в тюрьме ему лучше – не дело права. Здесь есть, конечно, опасность ненужной или чрезмерной жестокости. Тот, чьими руками осуществляется принуждение, сам должен быть честно уверен, что поступает так ради добра. Перекладывать оправдание принуждения на наказываемого тоже нельзя. Принуждение, даже соответствующее закону и необходимое, становится дурным и перестает служить своей цели, если наказывающий не видит для наказываемого другой перспективы кроме ограничения свободы и жизненных возможностей. Дисциплина у хранителей права, когда они в нее не верят, незаметно извращается в бессмысленное насилие. Тогда только терпение и все понимание наказываемого могут восстановить исправительный смысл принуждения. Власть теряет право на принуждение, если не знает или не чувствует, как применение силы приведет к лучшему.
Принуждение, да к тому же без необходимости объяснять, что оно служит добру, придает праву несвойский облик. Его приемы не обязаны быть непосредственно доходчивыми, иногда они отчуждают до вызова на противодействие. Право говорит с нами на своем, не нашем языке. Оно диктует мне то, чего я сейчас не хочу, и заставляет меня думать, что по существу в конечном счете я должен этого хотеть. Нас коробит, что от права – от законного порядка, в том числе от демократии и свободы – неотделим силовой прием. Пока нам не до конца ясен строй нашего же подлинного бытия, т. е. такого, каким оно должно быть, закон как бы напоминает, что мы еще не такие, какие должны быть. Забегая вперед, можно сказать, что закон нам навязан непроясненностью собственно своего, тем, что мы еще не нашли себя.
В качестве несвойского закон часто имеет иностранное происхождение. Заимствование закона в чужой стране не редкость, а скорее правило становящихся государств. Царь Петр I скопировал иностранные законы «чтобы улучшить наше отечество»[59]. «Русская Правда» – название этого судебного уложения звучало исходно не в смысле наша, родная отечественная, а как правовой распорядок большого нового русского государства с центром в Киеве, данный, предположительно, Ярославом Мудрым Новгороду, который в то время, в XI веке, Русью себя еще не называл. Характер введения закона – строгий, официальный, иногда тождественный – подчеркивает недомашность права. Мечты о каком-то органическом порядке, который естественно вырастал бы из текущей жизни, идут от непонимания сути права.
Отчуждающая потусторонность закона распространяется и на неуставное право. В конце старого итальянского фильма о мексиканской революции «Chi sa?» коренной житель страны, повстанец, расставаясь с американцем, который рискуя жизнью прошел с ним через все опасности, стреляет в него, уже садящегося на обратный поезд в Штаты. Perché, за что? – с горьким удивлением спрашивает умирающий. Chi sa, кто знает! – звучит точный ответ. Неписаное право в народе, в преступной, мафиозной среде, в той среде власти, которая не показывается на людях, вовсе не обязательно удобно для самих живущих по этому праву, и не ими установлено. Неписаное право такое же жесткое, mutatis mutandis, как писаное.
Переход от обсуждения, всегда в принципе бесконечного, к принятию закона (кодекса, конституции) всегда включает преодоление порога, какого-то рода переключение. Чтобы торг на вече перестал наконец шуметь, нужно появление князя с его решающей судебной властью. Для парламента нужен утверждающий его законы президент. Для византийских церковных соборов, чтобы доктринальные препирательства не длились вечно, требовалось постановление василевса, без чьей санкции церковные догматы не принимались; иначе вероучительные споры продолжались бы бесконечно.
Право принимает облик в другом теле, сейчас – в «фиктивном теле» государства. До того монарх кроме смертного тела считался обладателем отличного от физического бессмертного политического тела, поэтому le roi est mort переходило в официальной формуле оповещения кончины государя непосредственно в vive le roi, как если бы тот же король возрождался, продолжался в его сыне. С превращением монархий в демократии носителем бессмертного политического тела стал народ. Появилась формула le roi est sorti, la nation reste. Разница – порог – между физическим народом, который подчиняется праву, и идеальным народом-сувереном, который создает законы, осталась по существу та же, что между человеческим и политическим телом короля.
Разница эта отчетлива до того, что физический народ может погибнуть ради народа-идеала. Выражение «Ленинград пережил блокаду» неверно, потому что не пережил, а на 75 % вымер, в остальной части был физически и психически травмирован. С другой стороны, это выражение, «город-герой, переживший блокаду», совершенно верно в отношении народа-идеала. Маркиз де Кюстин говорит о Петербурге, что этот город с самого начала был построен для «несуществующего народа»[60]. Законы создаются, конечно, представителями реального народа, этих конкретных людей, которые голосовали за своих депутатов, но от имени народа-идеала. Скачок от одного к другому всегда входит в процесс законотворчества.
В заведомо светском, секуляризованном, правовом государстве депутаты (Abgeordneten) подчеркивают свою принадлежность к физическому народу и просвещенно иронизируют над фикцией общественного блага. Этим ничего не меняется в отделении создаваемого ими закона от их воли. Закон вдруг неприметно перестает быть инструментом в руках его принявших и становится для них самих правилом. Он говорит уже не голосом физических людей, его произносит народ-суверен. Непрочность закона, возможность его перетолковать, обойти, сменить, забыть как раз больше там, где демократия еще не установилась, где меньше обязательных, установившихся демократических процедур прохождения закона. Демократические процедуры часто, особенно со стороны, кажутся замедляющими дело, формалистикой, иногда нелепицей. Они как конвейер, медленно проходя через который, новый закон органически встраивается в сложившийся порядок. Пройдя через фильтр законодательных процедур, закон и приобретает облик чужести.
Поведение граждан в демократиях Франции, Германии жестко регламентировано. Пример: по недавно принятому в ФРГ закону философ (не знаю, относится ли это к другим наукам), которому в течение 12 лет после защиты им докторской диссертации не удалось получить по конкурсу профессорскую кафедру, лишается государственной поддержки. Америку называют страной судов и юристов. Законодательный запрет в некоторых местностях США огораживать забором собственный участок с лицевой стороны, обязанность платить по закону посетителю, получившему травму на обледенелой дорожке моего участка, напоминает регуляцию в демократических Афинах, где торговец, не поливающий регулярно на агоре продаваемую рыбу водой, выставлялся оттуда агораномом. В демократическом порядке многое отдано закону примерно так же, как Одиссей велел связать себя, потому что не хотел позволять себе делать то что хочется.
Законодатели, соблюдающие строго все установленные конституцией процедуры, этим конечно связывают себе руки. Но закон, который мы делаем как хотим, и не будет законом, и останется недейственным. Тенденция (традиция) создавать порядок, правила ad hoc, применительно к обстоятельствам, оставляет людей без закона, в неправе. Один пример. В трудных ситуациях на войне нашим солдатам хорошо служила способность быстро, на месте, например в случае гибели командиров или сбивчивости приказов, образовывать неуставные структуры управления. Этим русские солдаты отличались от немецких, которые продолжали в любой, в том числе крайней и непредвиденной ситуации, ориентироваться на общеармейский устав, на приказы сверху. Но оборотной стороной легкого образования неуставных отношений была в нашей армии непрочность уставных отношений. На стратегическом уровне это чаще приводило к катастрофическим ситуациям, чем в более законопослушной немецкой армии. Другой пример. Дедовщина в срочной армейской службе, т. е. создание в провалах устава неправовых отношений, происходит от неуважения к правилам самоуправления, т. е. к демократическим процедурам. Еще пример. Иллюзия возможности самим выработать быстро взамен старого новое небывалое право в России 1917–1918 годов создала социалистическое право, которое приходится называть теперь по крайней мере во многих отношениях неправом.
Прохождение в традиционных демократиях создаваемого закона через сложные процедуры с самого начала отодвигает закон от нас, мешает взять его в руки, использовать его, перетолковать. Соблюдение законодательных процедур уже до создания законов предполагает традицию правового сознания. Этот термин определяется как «совокупность взглядов, идей», касающихся права[61]. Правосознание есть в первую очередь понимание (ощущение) природы права, его не свойской, не служебной, не утилитарной сути. Карманное спешное законодательство говорит об отсутствии правосознания.
Термины закон и право употребляются в близком смысле. Важная разница между ними обнаруживается в том, что закон, как и порядок, может быть неправом[62]. Право и правосознание есть там, где каждый шаг, в том числе каждый шаг законодательства, не дожидаясь принятия закона, с самого начала уже выверяется на право-неправо[63]. Правосознание предполагает поэтому, что право – это не то, что мы с вами сейчас установим, а что есть уже до нас всегда. Право как система законов создается нами, но решаем, чтó мы вправе делать, не мы сами для себя.
Ошибка смешения права и закона проявляется в иллюзии, будто конституцию и законы всегда можно сменить или подновить. Безопасно менять или дополнять конституцию можно уже только на основе правосознания, т. е. привычки на каждом шагу сверять себя с правдой и соблюдать демократические процедуры. Постоянная выверка себя на правоту (правосознание) тут же создает правовые процедуры, в сущности исходно одну самопроверяющую правовую процедуру. Настоящие законы, т. е. правопорядок, а не утилитарный порядок, создаются внутри нее.
Особенность философских императивов, к числу которых относится обязанность следовать праву, норме, долгу, заключается в том, что они предписывают то, что так или иначе уже есть. В пространстве права мы привативно, т. е. по способу лишения, находимся и тогда, когда не решаемся в него вступить; мы пассивно открыты принуждению, а в остальное время вырабатываем в себе навыки ускользания от него. Право или неправо осуществляемое над нами принуждение, мы знать не можем, потому что не взяли на себя задачу решения. Поведение, обходящее закон, тоже тем самым подчинено закону. Слабость закона дает то преимущество, что его можно обойти, но эта выгода меньше, чем неудобство от выполнения одновременно двойной задачи, обход закона и ориентировка в беззаконном пространстве.
Каждый человек занимается разным, но есть вопросы, например начинать или не начинать войну, которые одинаково касаются всех. Res publica по латыни значит общее дело. Наше слово государство имеет другую этимологию, но давно служит переводом для res publica. «Государством» называется у нас большой трактат Платона πολιτεία, в западных изданиях Respublica.
Общее собрание народа, если оно сошлось без специальной выборки и не запугано, – такое собрание в старой деревенской России называлось мир, в Новгороде и Пскове вече, в Скандинавии ting (англ. thing, нем. das Ding, вещь или дело, в смысле общее дело), – имеет то известное свойство, которое хорошо описано в книге Элиаса Канетти «Масса и власть»: спонтанно возникает установка на справедливое решение. На этом основан принцип большинства в демократии. Настоящий смысл решения большинством не тот, что пусть в ситуации разногласия недовольных будет меньше чем довольных, а тот, что по-настоящему общее собрание, где собрались если не все, то почти все, начнет поступать по справедливости. Происходит что-то вроде спонтанного саморегулирования общества.
Мы читаем в критической социологии Пьера Бурдье, что государство есть фиктивное тело. Но государство в то же время и саморегулирующееся общество. Государство как общее собрание, как res publica, как ting в конечном счете – как по крайней мере всеми предполагается, всеми от него ожидается, – будет искать и добиваться модуса бытия, отвечающего правде, не частной, твоей и моей, а правде мира. Согласиться с радикальными критиками, что самоисправление общества в ориентации на справедливость только иллюзия, было бы слишком ответственным историософским шагом. Конечно, предполагаемая безотносительная справедливость государства может быть на время нарушена, общее собрание может ошибиться, метнуться к корыстным интересам, но динамика общества такова, что со временем всё снова выравнивается и настроенность на высшую правду побеждает.
В широкой дискуссии о правовом государстве в эти наши годы можно встретить много партийных узких установок, национализм, так называемое евразийство, с другой стороны наоборот глобализм, с откровенным групповым интересом, но снова и снова возобновляется бескорыстное, незаинтересованное требование просто справедливости ради справедливости, причем не только в отношении людей, но и в отношении природы, всего мира. В res publica ищут и находят модус бытия, отвечающий правде. Одно из предлагаемых сейчас определений права напоминает о том, что всегда разумелось само собой: что справедливость должна распространяться на природу. На языке юристов:
Сохранение окружающей природной среды является фундаментальным признаком, определяющим содержание права[64].
Такие вещи как благополучие, здоровье и нравственность, добротность, полнота бытия входят в право как естественно справедливое. Свою естественную, природную тягу к справедливости общество в нормальном состоянии, находящееся не под оккупацией и не в больном или вырождающемся состоянии, если не отчетливо осознает, то ощущает. Это ощущение широко, до злоупотреблений – не забудем критику Бурдье – используется группами власти. Каждое государство выступает естественным экспертом, потенциальным защитником в деле справедливости. Справедливость, которую естественно представляет государство, по определению не частная, корыстная, эгоистическая, а потому она предлагается как пригодная для всего человечества и для всей природы вообще. Отсюда важное следствие: всякое национальное государство выступает как потенциально мировое. В раннем, недолго длившемся, размахе большевиков, когда они хотели строить всемирный союз социалистических республик, была та правда, что всякое государство обязано быть настолько справедливым, чтобы этой справедливости, так сказать, хватило на целый мир. Та же интуиция вела французские революционные армии под водительством Наполеона. Партия Александра Македонского ощущала в политическом опыте, науке, мужестве греков достаточно правды, чтобы можно было ожидать, что ее примет весь мир. Создавая мировую империю, Рим нес в свои провинции римское право в уверенности, что оно же есть оптимальное всечеловеческое право. Это не было иллюзией: мнение, что римское право есть единственное подлинное право, можно слышать и сегодня. В других попытках распространения своей власти на весь мир – у готов в V веке, у норманнов в IX–X веках – реальной силой было сознание достоинства, правоты предлагаемого образа жизни, полноты своего бытия.
Здравый смысл подсказывает, что задачи государства так или иначе должны перетекать в задачи целого мира[65]. Государство всегда делает заявку на всю правду о мире. Характерным образом ответственные представители государств считают себя компетентными, от справедливости своего государства, высказывать нравственные суждения о международных делах. Заявка всякого государства, причем в первую очередь и чаще всего неправового, на право в смысле правды направлена как на весь мир, так и внутрь, на меня лично: государство намерено выдержать соревнование с моей частной правдой, если я диссидент, и государство уверено, что в споре со мной, если такой спор начнется, оно окажется более правым. От подданного ожидается, что он в конце концов признает правду государства. И наоборот: со своей стороны каждый подданный, каждый гражданин рассчитывает, по крайней мере надеется, что государство или, если его исполнительные органы коррумпированы, то сам глава государства должен рано или поздно услышать правду, понять ее, согласиться с ней. Гражданин ощущает своим правом и долгом напомнить государству о правде. Ожидается, что у государства, у главы государства есть ухо для слышания правды. По сути дела многое из того критического, что говорится критически настроенными журналистами и публицистами, имеет в виду эту предполагаемую готовность государства услышать правду.
Международное право при отсутствии единого всемирного правительства (monarchia mundi Данте) принимает форму уважения к государствам как правовым образованиям. Государства считают своим правом объединяться против неправовых образований, как Священный союз против Наполеона. Военное вмешательство мира грозит государствам, которые подали повод для вмешательства. В этом смысл выражения «справедливая война»: дело в конечном счете идет, пусть номинально, о восстановлении права в мире. При этом вовсе не необходимо, чтобы нации, объединившиеся во имя справедливости, были каждая в отдельности воплощением права. В правовом отношении они могут стоять хотя бы и на том же уровне, чем наказываемое ими государство. Война будет вестись всё равно под знаменем идеала.
Государства соревнуются между собой в справедливости, причем каждое предлагает себя эталоном права, объединяясь против сил, которые нарушают право. Если весь мир станет одним государством, этого соревнования уже не будет, и придется бояться, что если всемирное государство пойдет путем неправа, не будет реальной силы для его исправления. То же опасение относится и к каждому отдельному государству. Спонтанная справедливость, о которой говорилось выше со ссылкой на Элиаса Канетти, устанавливается вовсе не сразу. Во всяком случае она требует открытости обсуждения и отсутствия внешнего давления. Только образование с честной борьбой внутри (вече, открытый спор партий) может рассчитывать, что в нем начнет работать саморегулирование. Когда новые национальные централизованные государства в Европе раздавили свободные городские республики Италии и новым московским государственным предприятием Василия III и Ивана IV был уничтожен Господин Великий Новгород, то прекратило существование общественное существо, которое еще было способно к саморегулированию и умело настроить себя на целый мир. Пусть неэффективный, разнообразно манипулируемый, но в конечном счете самоуправляемый торг имел внутри себя политический размах. В Москве борьба политических сил была наоборот всегда скрытной. Отсутствие внутреннего честного ринга в Москве оставило ей для отстаивания своей правоты только пробу сил в соревновании с окружающими государственными образованиями. Москва оставалась поэтому всегда зависима от самоутверждения во внешней политике.
Подойдем теперь к праву еще с одной стороны. При всякой попытке осмыслить его, просто задуматься о нем мы неизбежно столкнемся с тем фактом, что наши права урезаны кем-то, кто отнял, присвоил, удерживает их. Например, в качестве избирателей мы статисты, нужные для упрочения власти, которая управляет нами, при том что ее право использовать нас не безусловно и открыто для сомнений. Мы ввяжемся в неравную борьбу на истощение, если хотя бы осведомим правящие инстанции об ущемлении наших прав. Власть по своей природе, как давно и повсеместно замечено, не заинтересована в том, чтобы повышать нашу правовую грамотность, ей удобнее наше спокойное подчинение.
В то же время те же самые мы каждым шагом своего существования отнимаем права, например, потомков на воздух, воду, чистую землю, прямо или косвенно, через наше согласие, участие в современном индустриальном обществе лишаем жизни животных, через наше пассивное согласие с политикой государства лишаем других людей права на свободу, на жизнь. Наша несправедливость неизмерима, если посмотреть, сколько живого мы тесним своим присутствием на земле. Несправедливость в отношении нас тоже необозрима, начиная с нашего отнятого у нас права на нефть и газ, на чистый воздух, на воду, которую можно было бы пить. Мы взвешены между нашим крайним бесправием и нашей собственной неправдой. По этой причине мы хватаемся за любое предложенное нам право, лишь бы оно показывало себя уверенным в себе. Без какого-нибудь права, пусть в конце концов временного, даже иллюзорного, мы потеряны между смертью, в которой мы виновны, и нашей. Мы нуждаемся в оправдании как в спасении. Закон в этой своей функции мне ближе чем я сам. Государство знает эту мою нуждаемость в праве; оно предлагает мне право, оно само и есть право. В обмен за эту услугу оно заявляет свои права на меня. Обеспечив меня правом, мне в моей взвешенности между двумя безднами необходимым как воздух, оно берет на себя право меня задержать, заставить пойти на войну, т. е. на смерть, может отнять у жены мужа, послав его на свои задания, отнять у матери сына; оно имеет право остановить навсегда деятельность человека пожизненным заключением. Государство имеет право, или совсем недавно имело и снова может вернуть его себе, лишить меня жизни за измену ему, т. е. просто за переход в другое государство. Измена Родине еще недавно имела первой формой «переход на сторону врага», т. е. в юрисдикцию другого государства, и «независимо от характера наступивших последствий» наказывалась вплоть до смертной казни с конфискацией имущества[66].
Писаное, точнее, уставное право (объявленное, выкрикнутое глашатаем с базарной площади в бесписьменное время, которое окончилось собственно совсем недавно, было вполне уставным и не уступало напечатанному теперь на гербовой бумаге) может иногда идти против неуставного, лучше сказать – неофициального. Так было например с законодательным частичным запрещением продажи и употребления водки в 1986–87 годах. Официально объявленный сухой закон прямо противоречил обычаю, в котором водка, особенно в случае тяжелого не очень профессионального труда (например, погрузка и перевозка бревен), непременно входила в оплату. Неуставное право уходит корнями в природу, нравы, интересы и страсти. Законы иногда демонстративно восстают против власти факта и часто нехотя делают уступку нравам. Так князь Владимир ровно тысячу лет назад не столько узаконил принятием христианства питье вина, сколько допустил его. По «Повести временных лет» в записи под 986 годом он чуть было не склонился при выборе веры в сторону ислама ради многоженства.
Володимиръ же слушаше их [волжских болгар мусульман], бе бо сам любяще жены и блужение многое, и послушаше сладъко. Но се бе ему не любо: обрезание удов и о неядении свиных мясъ, а о питии отинудь рекъ: «Руси веселье питье, не можемъ без того быти».
Оглядка на Бога и на мудрость земли есть как в уставном праве, так и в неофициальном[67]. Есть стало быть уровень закона (права) – мы об этом говорили – в принципе не эксплицируемый.
Итак, даже если по наивности и добродушию я этого пока не замечаю, закон заявляет на меня свои права как то, что сильнее, выше, раньше меня. Найти в себе опору, которая была бы сравнима по надежности и мощи с силой государственного принуждения, трудно. Ссылаясь на другие разработки и исследования, вкратце скажем только, что нечто сравнимое по основательности с правом государства я смогу найти только в свободе своего собственного. Пусть это звучит пока сейчас как загадка. Привативно, как еще не найденное, своё собственное оборачивается принудительностью и чужестью права.
43
Чистое учение о праве Ганса Кельзена…, с. 51, 56, 71 и др.
44
Чистое учение о праве Ганса Кельзена…, с. 76.
45
Чистое учение о праве Ганса Кельзена…, с. 50.
46
I. Kant. Kritik der praktischen Vernunft // Gesammelte Schriften. Hrsg. von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften. Bd. V. Berlin, 1908, S. 32.
47
См. выше (с. 31 настоящей публикации).
48
«Der kategorische Imperativ ist also nur ein einziger und zwar dieser: handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde […] handle so, ah ob die Maxime deiner Handlung durch deinen Willen zum allgemeinen Naturgesetze werden sollte». (I. Kant. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten // Gesammelte Schriften. Hrsg. von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften. Bd. I V. Berlin 1903, S. 421.)
49
«Der kategorische Imperativ würde der sein, welcher eine Handlung als für sich selbst, ohne Beziehung auf einen andern Zweck, als objektiv-notwendig vorstellte» (Ibid., S. 414).
50
Достоинством Пьера Бурдье считается «реалистическое равновесие» между полевыми исследованиями (начиная с ранней работы «Алжирцы», где изучается жилище кабилов) и научной гипотезой, между фактом и теорией. Одно время он был исполнительным директором основанного Реймоном Ароном Европейского центра исторической социологии (Centre européen de sociologie historique). На многие языки, в последнее время на русский переводятся его работы по социологиям семьи, религии, образования, литературы, питания, инфляции. Наиболее известна его критическая социология государства, т. е. права.
51
Pierre Bourdieu. Rethinking the State: Genesis and Structure of the Bureaucratic Field // Pierre Bourdieu. Practical Reason. Cambridge (U.K.): Polity Press 1998, p. 43. Цит. по: Oleg Kharkhordin. What is the State? The Russian Concept of Gosudarstvo in the European Context // History and Theory. Studies in the Philosophy of History. Vol. 40, № 2. Wesleyan University 2001, p. 229.
52
Pierre Bourdieu. Rethinking the State…, p. 48. См. также: Pierre Bourdieu. The State Nobility: Elite Schools in the Field of Power. Stanford: Stanford University Press 1996, p. 377–380.
53
Pierre Bourdieu. Rethinking the State…, p. 48. См. также: Pierre Bourdieu. The State Nobility: Elite Schools in the Field of Power. Stanford: Stanford University Press 1996, p. 377–380.
54
«[…] The notion of “the state” makes sense only as a convenient stenographic label – but for that matter, a very dangerous one – for these spaces of objective relations of power […] that can take the form of more or less stable networks (of alliance, cooperation, clientelism, mutual service, etc.) and which manifest themselves in phenomenally diverse interactions ranging from open confl ict to more or less hidden collusion» (Pierre Bourdieu and Loic Wacquant. An Invitation to Refl exive Sociology. Chicago: University of Chicago Press, 1992, p. 111).
55
Friedrich Meinecke, Idee der Staatsräson in der neueren Geschichte, 1924 (книга о Макиавелли), напоминает о хоре бесчисленных публицистов (неизученные «катакомбы […] забытой литературы посредственностей»), внушавших идею Staatsräson.
56
«The real source of the magic of performative utterances lies in the mystery of the ministry, i.e. the delegation, by virtue of which an individual – king, priest or spokesperson – is mandated to speak and act on behalf of the group, thus constituted in him and by him» (Pierre Bourdieu. Language and Symbolic Power. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1991, p. 75).
57
Чистое учение о праве Ганса Кельзена…, с. 16.
58
Glückseligkeit (там же).
59
Панегирическая литература петровского времени. М., 1979, с. 281, 289, 292.
60
Астольф де Кюстин. Россия в 1839 году. В двух томах. М.: Из-во им. Сабашниковых, 1996, т. I, с. 233.
61
ЮЭС…, с. 279.
62
«Закон может соответствовать (быть правовым), частично соответствовать правовому идеалу […] Задача законодателя состоит в том, чтобы увеличить объем их совмещения» (С. А. Емельянов. Право…, с. 8).
63
На языке юристов: «Приобретает особую значимость введение обязательной правовой экспертизы законов, управленческих решений, социально-экономических программ» (там же, с. 9).
64
С. А. Емельянов. Право…, с. 10.
65
Подробнее см.: В. Бибихин. Путешествие в будущее // Наше положение. Образ настоящего. М., 2000, с. 300.
66
ЮЭС…, с. 120.
67
София диктует или отменяет в конечном счете и то и другое. Посильное следование ей уводит в невыразимое.