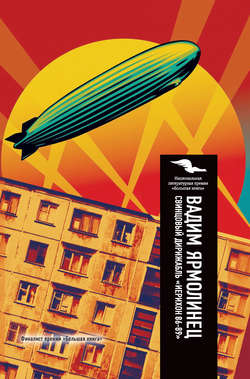Читать книгу Свинцовый дирижабль «Иерихон 86-89» - Вадим Ярмолинец - Страница 2
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть первая. Since i’ve been loving you
Глава 1
ОглавлениеО-о, какой невероятной мукой было взять дрожащими руками два листа бумаги, проложить копиркой, совместить края и закрутить в машинку. Покрытый белесой сеткой отпечатков валик ворчливо провернулся, вобрал бумагу, замер. Выпущенные из руки страницы провисли, и из-под верхней выглянула черной глянцевой поверхностью копирка. Гадство, не той стороной положил! Достал из верхнего ящика стола банку с рассолом, сделал несколько мучительных глотков, закрыл глаза. Подождал, открыл глаза. Пол поехал в сторону. Выкрутил бумагу, перевернул копирку на правильную сторону, снова совместил края, закрутил. Главное было не останавливаться. Остановка тут же вызывала круговорот вещей в природе вместе с природой. Прижав указательным пальцем левой руки клавишу для заглавных букв, настучал указательным правой заголовок: «Сталепрокатный дает новый металл. Музыкальный». Отпустил клавишу. Бумага, естественно, тут же поехала в сторону. Закрыл глаза. Темнота тоже двигалась. Открыл глаза и, собравшись с силами, перечитал: «Сталерпопакный дае ноый металл. Мущыкалный».
Посмотрел на часы. До летучки оставалось двадцать минут. Сделал еще пару глотков рассола, который с каждым разом становился все гаже. Слава богу, эти судорожные попытки вернуться к жизни предпринимались без свидетелей. По понедельникам мои кабинетные сожительницы – завотделом пионерской жизни Лена и корреспондент, как и я, отдела писем Наташа – приходили прямо на летучку. А я явно сглупил. Надо было позвонить нашей секретарше Римме и доложить чистую правду: умираю, работать не могу, а если, как говорила мама, через не могу, так умру. Сдохну, как пограничная собака на боевом посту.
Интересно, послужила бы моя безвременная кончина поводом для некролога о моей короткой, но, ясное дело, многообещавшей журналистской биографии для читателей и тихой молвы о нездоровом пристрастии к спиртному среди своих? Интересно, кто бы написал некролог? Главред, скорей всего, не снизошел бы в связи с ничтожностью покойника. Но кто-то из товарищей мог бы и накатать строчек сто в номер. Скажем, Наташа. По душевной доброте сказала бы что-то типа:
– А что, он хороший был парень. Никому ничего плохого не делал.
Интересно, хоть про себя отметила бы теплое чувство покойного к себе? Я уже не говорю о каком-нибудь там ощущении пустоты в сердце или где там оно обычно возникает в таких случаях.
– Анекдоты рассказывал, – добавил бы усатый Алик Охотников, из отдела спорта.
– Так и напиши: ушел из жизни отличный рассказчик анекдотов, – заключила бы Лена.
И может быть, все они засмеялись бы, что, в общем, было бы не самым плохим способом помянуть покойника. Нет, это меня слишком далеко занесло. При всей плачевности моего состояния, я не должен был терять веру в скрытые силы своего относительно молодого организма. Нет! Жизнь не могла кончиться в тридцать лет! Во всяком случае, от тяжелого похмелья.
Особенная тяжесть данного конкретного утра была вызвана тем, что все то время, которое обычно уходило у меня на возвращение в себя под холодным душем, на этот раз ушло на то, чтобы выпроводить из дому мою ночную гостью. То ли Линой ее звали, то ли Олей. Убей, вспомнить не мог, потому что даже попытка пошевелить извилинами вызывала тошноту. Даже одна мысль о попытке. Чего бы мне ее надо было выпроваживать? – спросите вы. Объясняю. Я снимал комнату в коммунальной квартире на улице Клары Цеткин, которую мой приятель Миша Климовецкий называл Кларой Целкин. Хотя я ему пытался втолковать, что он с женой отмечает Восьмое марта именно потому, что в этот день Карл Либкнехт в сильном революционном порыве лишил Клару политической невинности. Таким образом, грубое прозвище не соответствовало факту ее революционной жизни. Да, так вот за сорок рублей в месяц я имел в своем распоряжении просторную комнату с балконом, светом, газом, телефоном и туалетом общественного пользования в корридоре.
Привел я эту то ли Лину, то ли Олю после концерта «Бастиона», где нас с ней свело. Согласно уставу ответственного квартиросъемщика, я был обязан выдворять ночевавших сразу же после окончания ночевки. Нельзя было допускать, чтобы они вступали в контакт с соседями. Коварные негодяи могли пойти в ЖЭК и стукнуть, что владелец комнаты сам живет на другой квартире, а из этой устроил притон, в то время как другие жильцы имеют право на расширение. Я не уверен, что они стремились расширяться. Единственная соседка, с которой я поддерживал отношения, была Анна Николаевна Цепенюк. Она овдовела незадолго до моего появления и была рада моей живой душе, с которой могла когда-никогда перекинуться словом. Еще был пенсионер-невидимка Григорий Иванович Каховский, который давал знать о себе шарканьем тапочек и кашлем, время от времени доносившимся из-за дверей его комнаты. Я видел его один или два раза, глубокой ночью, оба раза приняв за полупрозрачное привидение в полосатой пижаме. Он тихо проплыл мимо с чайником в руках, не обратив на меня ни малейшего внимания. И последней жилицей этой квартиры была морячка Валя, которая появлялась в доме незадолго до возвращения мужа из рейса, а проводив его, возвращалась к любовнику. Но неделя-две, пока моряк был дома, в квартире гремела музыка, через которую время от времени пробивался грубый хохот и звон посуды.
Владелец занимаемой мной комнаты был тоже моряком, но военным – он был подводником дальнего плавания. Один раз он явился за квартплатой при полном параде: фуражка с крабом и звездой, кремовая рубаха, черный галстук, черный габардиновый костюм, два ряда золотых пуговиц, золотые погоны и красные лампасы. Страшное зрелище. Вероятно, у парадной его ждал катер. Он желал получить восемьдесят рублей за два месяца, поскольку собирался в дальний заплыв к вражеским берегам. Вероятно, хотел подстраховаться. В случае чего, оставить вдове пару копеек на достойные поминки.
Эта жена, с квартирой на Черемушках, была его новой. Старая, от которой у него осталась комната в коммуне, видно, померла от тоски по редко всплывавшему из-под воды мужу. Теперь он свою старую хату использовал как источник дополнительной наживы, строго наказав мне вести себя ниже воды тише травы и говорить соседям (если спросят), что я его племянник из села. А не спросят – молчать как рыба. Кухню посещать рано утром, сортир – поздно ночью. Это было просто. Тяжело было соблюдать тишину, если ночные гостьи оказывались слишком эмоциональными.
Что было вчера, я помнил, как говорится, смутно. Перед концертом лидер «Бастиона» Игорь Ганькевич пригласил меня за кулисы. Вероятно, из всей своей бригады лабухов в синих камзолах с эполетами и галунами он один понимал, что концерт состоялся с моей помощью, и хотел отблагодарить. Возможность помочь возникла у меня неожиданно. Один из моих внештатников – Вадик Мукомолец – работал в многотиражке сталепрокатного завода и выпивал с секретарем комитета комсомола и профоргом. Эта спайка (или спойка) помогла им получить у заводского начальства разрешение на проведение концерта. Помогло и то, что группа числилась в городском рок-клубе, входившем в состав Объединения молодежных клубов – ОМК. Это была хозрасчетная контора, владельцы которой успешно зарабатывали на местной молодежи под видом культурной организации ее досуга. Если поэтические вечера приносили им заработок от продажи пирожных и кофе интеллигентным юношам и девушкам под предводительством плешеватого мэтра из местного отделения Союза совписов, то рок-клуб давал им заработок от продажи билетов на шабаши, которые привлекали пьяных и обкуренных пэтэушников. Комсомольцы, кажется, рады были курировать это брожение, поскольку строительство коммунизма, в авангарде которого они должны были стоять с винтовками и лопатами, явно лишилось своего былого содержания. Но вот культурный фронт давал оперативный простор для демонстрации своей руководящей роли.
До концерта мы выпили на шестерых бутылку «Белого аиста» за успех предприятия. Ганькевич был симпатичный, улыбчивый парень с Мясоедовской, в котором было слишком много лирики и иронии для рокера, каким он представлял себя. И на этом выступлении самым ярким номером были его новые одесские куплеты: «Мимо Дюка я давно не хожу, со второго люка на него не гляжу…» Публика в засаленных джинсах, кожаных жилетах и цепях стала нестройно подпевать ему и прихлопывать в ладоши, хотя им больше полагалось выть волками и рвать на себе майки и волосы.
После концерта зрители разошлись, не оставив за собой ни поломанных кресел, ни облеванных туалетов. Заглянувший в зал начальник ОМК Петр Михайлович Гончаров был счастлив. Когда я его спросил, доволен ли он сбором, он многозначительно ответил:
«Довольны мы будем, когда запустим их на всесоюзные гастроли. А пока пусть обкатываются».
Это – точно, «Бастион» мог бы легко стать одесским вариантом «Черного кофе». Те поют про деревянные церкви Руси, а эти – про свою Молдаванку. Те – с удручающе серьезным надрывом, а эти – с одесскими хохмочками. И прав был Гончаров, говоря про обкатку. Впечатление такое, что «Бастион» играл вполсилы, как если бы это была генеральная репетиция, а не концерт. Это выступление было не сравнить с их представлением на нашем последнем рок-свисти вале, как его случайно назвал ведущий. Там Ганины архаровцы были в ударе, и, когда исполняли свой хит про конфликт старого рокера с поклонником попсни, аудитория просто ревела от восторга.
Я старый, старый, старый добрый рокер,
Мой прадед был в «Гамбринусе» тапер,
А ты дешевый трюк смазливый попер,
Все смотришь вдаль, все смотришь за бугор!
Поэт-песенник Ганя был аж никакой. Слова у него просто вываливались из строк. Где не хватало слогов, он вставлял как подпорки всякий вспомогательный словесный хлам, но выходило все это у него очень здорово и живо.
По Дерибасовской родной гуляю я степенно,
Смотрю я в лица и грущу, признаюсь, откровенно.
Зачем, скажите, нам нужны Ямайки и Гавайи,
Когда у нас в Одессе есть не хуже попугаи!
Эти попугаи добили толпу окончательно. Свист и рев в зале заглушил на минуту музыкантов. Сейчас все было очень, как сказал автор песни, степенно. Музыканты берегли силы. После концерта техник «Бастиона» извлек из сумки бутылку кальвадоса, и тут же на нее, как на волшебную палочку, в подсобку вломилась группа поклонников со своей бутылкой меришора, двумя бутылками бецмана и двумя подружками. Одна была крашеной блондинкой с фиолетовыми фурункулами и хмельными глазами на пухлой физиономии. Недостаток обаяния заменяли короткая кожаная юбка и красный свитер, которые чуть не трещали по швам. Впечатление было такое, что сзади и спереди она вложила под них по паре дынь. Пару сзади и пару спереди. Трудно даже сказать, что можно было делать с этим овощным ларьком. Вторая девушка была ее антиподом – худенькая, смуглая, с тонкими чертами лица, гладкими черными волосами и пронзительно-голубыми глазами, словно обведенными тонкой черной линией. Она ими просто просвечивала. Как рентгеном. На ней были очень классного индигового цвета джинсы «Борман» и оранжевая футболка. Скоро сыроватый воздух подсобки наполнился запахом мокрой травы. Пущенный по кругу косяк произвел на собравшихся, включая меня, совершенно разрушительный эффект. Как этот рентген-аппарат с веснушками и очень нежными губами оказался у меня на коленях, я не скажу. Видимо, она услышала волшебную мелодию моей флейты и пошла на нее, как маленький Моцарт на папин рояль. Моя флейта транслировала эту мелодию в эфир совершенно беззвучно, но у нее оказался очень чуткий локатор. Наш контакт был стремительным, как короткое замыкание. Ба-бах – и вот мы уже у меня дома в том замечательном состоянии опьянения, которое растворяет в себе время, необходимость в отборе подходящих слов (подходят все, но не нужны никакие) и чувство ответственности. Когда я помогал ей раздеваться, ее майка зацепилась за какие-то шпильки-заколки, и я стал целовать ее грудь с маленькими коричневыми сосками, не дожидаясь, когда она выпутается из своего тряпочного плена. На этом мои воспоминания о встрече прерывались, что обидно невероятно.
Не могу сказать, что выпито было особенно много на такую компанию, но смесь вышла адской: коньяк, кальвадос, меришор, бецман, план. Я снял пробу со всего. Она, видимо, тоже, потому что утром не могла вспомнить, где живет. То есть, может, она и помнила, но отказывалась сообщить. Была не в состоянии. Одевал ее я. Правильно: раздел, теперь одень! Не маму же звать. В другой ситуации это было бы очень эротично. Такой голый ванька-встанька, или лучше сказать машка-ляжкка, с очень изящными ножками и упругими грудками, как у Дианы-охотницы. Где-то я видел такую скульптуру, только не помню где. Она шла с луком, оглядываясь на зрителя через левое плечо. Что я помню отчетливо, так это борьбу чувств, вызванную желанием еще разок поцеловать ее и одновременным опасением за то, что поцелуй может вызвать рвоту.
Короче, я ее все-таки одел, при этом почти не потревожив ее сон. Потом позвонил Мукомольцу, надеясь, что он знает, где она живет. Тот даже не понял, о ком идет речь.
– Та хоть какая она? – спрашивал он, тоже с большим трудом приводя в действие речевой аппарат.
– Худ-денькая такая, в джинсах и в майке т-такой рж-жавой, – объяснял я, как мог.
Согласные звуки спотыкались один о другой.
– Ржавой? Она у нее что, железная?
– Да не ржавой, а оранжевой.
– А-а….
– Черненькая такая, с глазами такими, не помнишь?
– Черненькая, с глазами? Старичок, ну ты даешь, тут полгорода таких! А хоть зовут-то ее как?
– Б-блин, не помню я, Вадик. Лина, что ли…
– Лена? Не знаю, старичок.
– Н-не Лена, а Л-лина. Черт, что же делать?
– Та ты ее отведи куда-то в парк и кинь на скамейку. Она очухается и сама доползет, куда ей надо.
– А вдруг она не местная?
– Она, когда на концерт пришла, у нее чемодан с собой был?
– Вроде нет.
– Ну, тогда местная.
Чувствуя себя преступником, я обнял ее за хрупкие плечики и повел в сторону Соборки, как слегка контуженный ведет с передовой тяжело раненного. Она телепалась рядом, уткнув в меня лохматую голову и не открывая глаз. Волосы у нее все еще пахли планом. В аллее напротив 121-й школы я усадил ее на скамейку:
– Але, ты жива?
Качнула головой в сторону. Понимай, как «нет».
– Где ты живешь, ты можешь сказать?
От моих слов она, просто как от ветра, повалилась на скамейку, поджала ноги в сандалиях и спрятала лицо в ладошки. Типа все, исчезни, никого нет дома. Пальцы на ногах у нее были совершенно миниатюрные. Я зачем-то пересчитал их. Все было в порядке – по пять штук на каждой конечности. Потом потрогал. Они были мягкие и прохладные.
– Слушай, я приду сюда через пару часов, ладно? – сказал я этому живому трупу. – А то мне на работу надо.
Ноль эмоций. Надо – иди.
Я осмотрелся. В аллее никого не было. Утро стояло такое тихое-претихое. Свежая травка лезла к утреннему солнышку из черных комь ев земли. Свет такой рассеянный тек сквозь прозрачную листву. На Советской Армии перезванивались трамваи. Перекинув через плечо ремень от сумки, я пошел в Первый гастроном на Дерибасовской. Здесь купил банку болгарских огурцов, срывающимся голосом попросил продавщицу открыть. Та, буркнув себе под нос «сутрапораньше», взяла из-под прилавка ключ, ловко сняла крышку, подвинула банку ко мне. Вытерев руки о фартук, села. С веселым презрением стала глядеть, как я, бедный и больной, взял трясущимися руками тару, поднес к губам и, громко стуча зубами о стекло, сделал несколько спасительных глотков.
– Спасибо, тетя, – сказал я и выпустил наружу немного вошедшего в меня с рассолом воздуха.
– Оч-чень красиво, дядя, – ответила продавщица.
Переведя дух, я прикрыл банку помятой на краях крышкой и, нежно прижимая к себе, пошел на трамвайную остановку. Теперь жизнь должна была начать налаживаться.