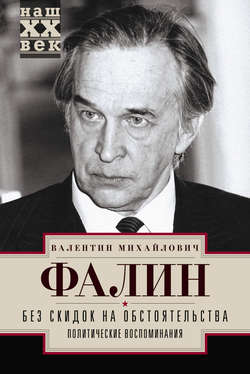Читать книгу Без скидок на обстоятельства. Политические воспоминания - Валентин Фалин - Страница 5
Вместо предисловия
Оглавление«Как было – не напишешь, как не было – писать не стоит труда» – так на протяжении доброй дюжины лет отнекивался я в ответ на обращения друзей и издателей, многократно побуждавших меня взяться за перо и повести читателя за кулису событий, свидетелем и участником которых мне выпало стать. Это было твердо сложившееся мнение не вверять бумаге чувства и мысли, а чтобы соблазны не искушали, дал себе зарок дневниковых записей не вести, копии служебных документов не снимать, не подбирать вырезок из журналов, газет, кои зачастую и складываются в мемуары. Численник – вот единственное исключение, которое я себе позволил, чтобы не заблудиться в тысячах дат и имен, скапливавшихся с годами. Если возникнет вопрос: «Когда что-то случилось и кто при сем был?» – ответ должен был быть под рукой.
Почему созрело решение отозвать данный самому себе обет молчания? Формально ведь и прежде мне не вешали замок на уста, а сам я в дискуссиях не на публику, при встречах с коллегами по науке или прессе отнюдь не цеплялся за спасительное – чем короче язык, тем целее зубы. Причем не только в пору вседозволенности, прозванной для благозвучия гласностью, но также ранее, в долгую полярную ночь воздержания, когда языки усекались вместе с головой.
Причин и резонов не подражать иным образцам, не доводить, как выражались наши острословы, моду до крика имелось много. И разных. Мои партнеры и собеседники, домашние и иностранные, исходили из того, что я не злоупотреблю их искренностью и доверием, не стану по отношению к ним потребителем.
Почти сорок лет провел я сначала у подножия, затем на разных этажах советского Олимпа. На бумагу, что исписал, сочиняя без счета аналитические записки и ноты, проекты договоров и деклараций, послания и телеграммы плюс речи, интервью, статьи, фрагменты книг, и все под псевдонимами от Н. С. Хрущева до М. С. Горбачева, от официозного А. Александрова до инкогнито В. Капралова, загублен был, наверное, не один гектар леса. Сочинял без лести, преданный интересам Отечества, и без подобострастия к генеральным секретарям, премьерам, министрам.
На вкус некоторых, держался я слишком высокомерно, не по чину независимо. Соответственно меня воспитывали, тщась задеть самолюбие по мелочам, а то и по-крупному.
Представили к высшему ордену. Секретарь ЦК партии М. А. Суслов и другой «старец наверху» замечали: «Непедагогично сразу награду такого достоинства; еще успеет заслужить, ему ведь сорока нет». В 1966 г. мою кандидатуру примеривали на пост посла в Великобритании. Отставили – «склонен к своеволию и нужнее в Центре». Замыслили «обкатать» на должности заместителя министра иностранных дел. Шелестят формуляры, доискиваются, не состоял ли я в родстве с карбонариями или с занесенными в списки безвестно пропавших в войну. Подумали и передумали. Формальный повод: «Не имеет опыта самостоятельной работы».
Чудаки! Им и в голову не приходило, что мое равнодушие к карьере и знакам отличия – не поза. Ни разу я не просил предоставить мне ту или иную должность в государственном или партийном аппарате. Это меня приглашали выполнять определенную работу на приемлемых или называвшихся мною условиях, решающее из которых неизменно гласило – право иметь собственное мнение. Предоставляя мне слово, начальство знало наперед, что услышит не заказную мелодию, ласкающую слух, но, может быть, неудобное, подчас колючее суждение. Постепенно уверовали, что не столкнутся со мной на ярмарке тщеславия, и принимали это как данность, как неудобство.
Невидимые миру слезы, сказал бы Н. В. Гоголь. Они сегодня как прошлогодний снег, заметит циник. Спору нет, но я стараюсь достоверно объяснить, чему обязан относительным политическим долголетием, как удалось во всех передрягах уберечь собственное кредо и не растерять главное свое богатство – расположение друзей, сделать понятным, наконец, почему непросто мне преодолевать звуковой барьер. Даже теперь, когда все рушится, когда сплошь переиначиваются опознавательные знаки, флаги, шкала ценностей и происходят перемены на микро– и макроуровне, требую от каждого занять четкую позицию – без обиняков.
На дворе инфляция, гиперинфляция идеалов. Бывший Советский Союз – сплошное торжище. В политике за жалкие сребреники или вовсе по нулевому тарифу сбываются достоинство и честь, распинаются убеждения. Такие понятия, как уважение к наследию народа и благодарность отцам, вызывают гомерический хохот. История в очередной раз деградирует в королевство кривых зеркал, в прислужку текущей корысти. И чем скуднее знания, тем хлеще набор фраз. Чем безграничнее власть, тем раскаленнее клеймо.
Глядя на рвущихся поплясать на руинах Отечества, невольно ловишь себя на мысли, сколько, оказывается, у нас было потенциальных героев и еще, сверх того, провидцев, отсиживавшихся до поры в кустах. А прилипал, коим быть лишь бы вблизи кормил и кормушек, без разбора, – им несть числа, их – тьма.
Ладно бы молодежь – ей от века положено стоять чуть левее (или правее) здравого смысла, посягать на лежачий камень, под который без ее фрондерства вода не потечет. Но перезрелые мужи и молодящиеся старцы в роли болтающихся между полями притяжения маятников? Постыдное зрелище. О них писал поэт: «Дикость, подлость и невежество не уважают прошлого, пресмыкаясь перед одним настоящим».
Неужто мы все те же язычники, что и в канун возникновения российской государственности? Так же при прощании несем на костры живых и несметные сокровища. Прежде – во славу, ныне – в отместку, раньше – за упокой души человека, теперь – системы. Вот, пожалуй, и вся разница. Зреть подобное и смолчать?
История состоялась. Не по идейному ранжиру и не по графику, вычерченному кабинетными политологами. В нашем столетии она выказала запредельно крутой нрав. Пороки так долго и упрямо теснили добродетели, что от восторгов, которыми привечали рождение «золотого XX века», не осталось следа. И мы, перегруженные разочарованиями и тревогами, понуро плетемся в свой судный день, навстречу третьему тысячелетию.
Да, словно про каждого из нас и наших современников написал французский писатель XVII в. Жан де Лабрюйер[1]: «Большинство людей употребляет лучшую пору жизни на то, чтобы сделать худшую еще печальней». И просится добавить – омрачить не финал лишь собственной биографии, а участь тех, кому придется разгребать напластования проблем, оставляемых нами после себя.
Все стало ныне более относительным и временным, чем когда-либо прежде. Сама жизнь берется взаймы под высокий процент. Уже жизнь не отдельного индивидуума, но наций, человечества в совокупности. А временщики, согласитесь, в любую эпоху и при всяком режиме – почти сплошь хищники, как бы они себя ни величали. Временщики особенно падки сводить дело к категориям чистогана, упрощать сложные проблемы так долго и усердно, покуда целостный мир для всех не сведется к замкнутому мирку для одного себя. Законченному эгоисту и в голову не придет, что его «сегодня» тоже вышло из «вчера» и что своим сиюминутным он не вправе истреблять чужое «завтра». Эгоисту удобнее не донимать себя мыслью, что не столько соседство, сколько связь времен делает нас цивилизацией.
Все стало относительным и лабильным, сказал я и осекся. Неверно это. Не само по себе стало. Наши неразумение и прихоти сделали Землю менее приветливой для житья. Главной заботой ведущих правительств в XX столетии было приспособление планеты к запросам геополитики разных мастей и калибров, к горячим и холодным войнам, «ограниченным» и тотальным. И никто не сможет, не насилуя истину, утверждать, что на этом шабаше он являлся лишь созерцателем.
Говорят, время лечит. По прошествии ряда лет действительно можно более верно оценить масштабы случившегося. Но время не в состоянии отменить того, что свершилось или могло свершиться. Даже богам не дано сделать бывшее небывшим, предупреждали античные греки, призывая – так, наверное, надо их толковать – не совершать ничего, в чем пришлось бы позже раскаиваться.
Чтобы познать явление, надо понять его суть. Но чтобы понять, надо знать. Только знание освобождает от предрассудков, обладающих демонической силой. Запреты на знания, как и опасные для жизни недуги, удается порой одолевать. Хотя делать это не становится проще.
В век сплошного популизма вы лишаетесь права на личную, без соглядатаев жизнь, на неприкосновенность своей чести. Вызвать оскорбителя на дуэль невозможно и даже противозаконно. Извольте просить милости у суда, где вашу честь станут полоскать в параграфах, писанных чуждым почерком, утюжить до стандарта, да еще на виду у любителей таких зрелищ.
Что остается? Не в состоянии вызвать на дуэль – говори правду. Правдой можно сразить, но нельзя никого оскорбить, если она – подлинная правда, вся правда, и только правда. Убежден, что человек сохранит свое достоинство, если будет держаться правды.
Игнорирование фактов не отменяет порожденных ими обстоятельств, но усугубляет последствия. В этом смысле большинство нынешних проблем есть, по сути, плата за недоделанную вчера работу, за не распознанные вовремя императивы, за неумение или нежелание жить по совести. Тут заключен урок на будущее.
Если вспоминать, то очень не хотелось бы, чтобы боль за настоящее и тревога за будущее завели меня на тропу оппортунизма. Конечно, надо бы уберечь себя, читателей и от других крайностей. Воины Тутмоса I, что правил в Древнем Египте, вернувшись из похода, рассказывали о «перевернутой воде» (Евфрат), которая движется вниз, тогда как «истинный поток» должен, подобно Нилу, катить воды «вверх».
Воспоминания есть путешествие в прошлое – в область, которая уже принадлежит всем вместе и никому в отдельности. В любом случае не принадлежит тебе исключительно и ты не вправе распоряжаться им в одиночку. В политике личных воспоминаний вообще не бывает. И для меня это – воспоминания о Родине, о трагедии моего народа и моего поколения, о канувшей в Лету тысячелетней российской истории.
Воспоминания, если заниматься ими всерьез, не придавая новейшим познаниям обратной силы, не выхватывая из прежнего лишь светлые и яркие полосы спектра, – жанр сложный и противоречивый. Заново все пережить, свести воедино то, что лежит на поверхности, и то, что быльем поросло. Предстоит воскрешать то, что терзало душу, приводило в отчаяние, что сам старался предать забвению, как дурной сон.
Воспоминание-раздумье или воспоминание-проклятие? Что на дворе – конец света или свет начала? Образумимся мы, поймем наконец, что из ненависти высеется ненависть, из зла – зло, из низвержения – низвержение? Терпение – основа всякой мудрости, терпимость – единственный путь к согласию. Хотя бы намек на терпимость и терпение, с ними пришла бы надежда. Где они?
Как наловчились мы рассуждать о естественных правах человека, ставя в нужном месте точку и выводя за скобку их же естественные пределы, позволяющие другим членам общества пользоваться одинаковыми свободами. Оглянитесь вокруг, почти никто с открытым забралом не бросается на политическую справедливость. Почему же ее как не было, так и нет? Хотя со времен Аристотеля известно, что она достижима. При некоторых предпосылках. Справедливость «возможна, – учил философ, – лишь между свободными и равными людьми, а гражданин – это тот, кто столько же властвует, сколько и подчиняется власти».
И последнее. Узелков для памяти я не вязал. А если бы попутала страсть стяжательства «будущих разоблачений» и свидетельств человеческих несовершенств, чужих понятно, то, скорее всего, эту гремучую смесь постигла бы та же судьба, что и мой численник. В нем отражались, повторюсь, даты встреч с иностранными деятелями и соотечественниками за последние тридцать лет. Имена и числа. Сотни и тысячи имен. Ничего больше. Численник пропал в августовские дни 1991 г. Мало что говорящий постороннему, он значил для меня не меньше, чем нотные знаки в партитуре для музыканта. Где он, этот численник, что с его использованием разыгрывается?
Крайне урезанными будут возможности воспроизвести тексты телеграмм, писем, докладных записок. Лично я не слишком высокого мнения о мемуарах, сшитых из документальных лоскутков, которые тщательно отбираются по рисунку и цвету, нередко выворачиваются наизнанку в угоду насущному интересу. Но для перепроверки метаморфоз собственных оценок, которые, разумеется, не враз сложились в систему взглядов, они не были бы лишними.
Придется, стало быть, полагаться в основном на память. При всех несовершенствах этот инструмент обладает и некоторыми преимуществами – он более искренен, чем любая протокольная запись, спрессовывающая многочасовой диалог в пару сухих страниц и выпячивающая какую-то грань, которая представлялась утилитарно важной в момент самой беседы и сбрасывающей в небытие детали, возможно служившие прибежищем дьяволу или, напротив, дарившие уникальный, неповторимый шанс.
Как совместить величины несочетаемого порядка, не смешать краски в тусклое бесконтурное пятно, не поддаться искусу нарисовать политическую реплику «Черного квадрата» художника Казимира Малевича, только еще темнее? «Единственная форма, в которой мы можем выразить свое уважение к читателю, – вера в его ум и душевное благородство», – заметил однажды драматург Бертольт Брехт.
Попробуем в меру сил последовать этому доброму совету.
1
Автор книги «Характеры, или Нравы нашего века» (1688). (Здесь и далее примеч. авт.)