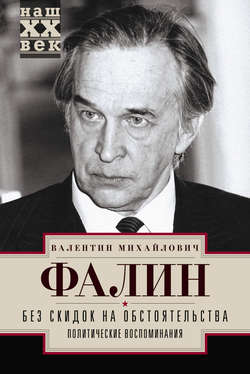Читать книгу Без скидок на обстоятельства. Политические воспоминания - Валентин Фалин - Страница 7
Берлин и далее с остановками и пересадками
ОглавлениеПосле окончания института, летом 1950 г., я ехал в Берлин, к месту своего назначения, в аппарат Советской контрольной комиссии для Германии, тридцать шесть часов поездом через Смоленщину, Белоруссию, Польшу, которые еще не воспрянули от потрясений войны. Вот и Франкфурт-на-Одере. Молча, пустыми глазницами окон он взирает на приезжающих и проезжающих. У него свои боли и горести. Еще полтора часа – и Берлин. О чем можно думать, глядя на него, тогда четвертованного? Отвоевались? Все: и побежденные, и победители, или?..
В Берлин я приехал с набором сомнений в себе и в других. В детстве они выражаются обычно любознательными «почему». В более зрелом возрасте любознательность трансформируется в обостренную реакцию на несуразности, несправедливости, противоречия. Им не виделось предела.
Безумия насилия не должно больше быть. Никогда. А что делать, если война не кончилась, а лишь сменила обличье? В середине 1950 г. холодная и вовсе переросла в жестокую корейскую бойню. Кто и почему ее развязал? Насколько велика опасность превращения неядерного конфликта в ядерный? Никакой уверенности в завтрашнем дне. Официальные и официозные версии, распространявшиеся на обеих сторонах, убеждали чаще в обратном. Особенно когда имелась возможность смахнуть пропагандистскую пену и прикоснуться к реалиям.
Первый выстрел прозвучал с Севера. Отчего же его жаждал, так на него напрашивался Юг? С чего бы события так «удачно» вписывались в наметки западных стратегов, продвигавших планы обустройства сразу нескольких театров военных действий, не в последнюю очередь европейского? Когда случайностей и совпадений перебор – это уже тенденция, если не закономерность.
Не верилось, что Сталин мог снова так крупно просчитаться. Не должен был, имея первоклассную разведывательную информацию. Она позволяла вычислить, как в действительности зовется распутье.
Подобные вопросы укладывались при «правильной постановке» в понятие идейной чистоты. Ни о каком предмете, ни о какой истине нельзя высказаться полно, не произнося о них два противоположных суждения. К. Маркс пошел даже дальше Гегеля, оставив своим последователям завет – «все подвергать сомнению». В наши времена негласно уточнялось: все, кроме слов «хозяина».
Но вот сотрудник Института современной истории извещает меня – он находился в одном концлагере вместе с сыном Сталина, знает подробности пребывания в заключении Якова Джугашвили, может точно указать место его гибели. Докладываю руководству с советом проинформировать Центр. Телеграмма ушла по назначению. Отсутствие реакции побудило ее повторить с намеком на то, что здоровье у свидетеля некрепкое. Нам дали понять – ответа не будет.
Это вызвало чувство протеста. Как может человек, неспособный быть отцом собственному сыну, претендовать на роль отца народов? Все не так. Слишком много противоестественного в нем самом и вокруг него.
Сталинское сусло кончало во мне бродить. Надобно основательнее разбираться. Беру тайм-аут с оформлением членства в партии. Во второй раз. В войну, работая на заводе токарем, воздержался без раздумий откликнуться на призыв настрочить заявление о приеме в партию. Кривить душой не хотелось, а пришлось бы.
Сказать, что все без разбору мне нравилось, не мог, а уточнять, что не нравится, не должен был. Или вас обязательно спросят, как по части «врагов народа» в семье. Двоюродный брат отца был уведен из деревенского дома и пропал бесследно. Неизвестно даже, в чем его обвинили. Мужа сестры матери, начальника строительства большого оборонного объекта под Хабаровском, приговорили «к десяти годам заключения без права переписки». За «шпионаж в пользу Японии». Лишь в 1956 г. нам стало известно, что дядька тогда же, в 1937 г., был казнен.
В 1937–1938 гг. мы с родителями поджидали в тревоге каждую близившуюся ночь – не раздастся ли в нашу дверь стук карающей руки. А днем я помогал отцу относить в котельную дома собрания сочинений Н. Бухарина, Л. Троцкого и других опальных, чтобы предать книги из его библиотеки огню.
Так как мне надлежало бы отвечать насчет «врагов народа»? Проклясть их и предать себя? Встать на защиту, не зная, в чем состоит вина? Ныне проще некуда. Особенно для вчерашних сверхортодоксов, листающих архивы. Они решают проблемы и угрызения способом «экономного мышления» Авенариуса или Маха, оставаясь все теми же ортодоксами, только наоборот.
Я не обладаю способностями по звону бокала определить, кто и какое вино пил из него десятилетие назад. Требовались опыт и знания. Их предстояло накопить. До обобщений было еще далеко.
Из партнеров моего берлинского заезда выделю В. Штофа, он был заведующим Экономическим отделом ЦК СЕПГ, П. Вернера, К. Ширдевана, Ф. Далема, О. Нушке. С ними встречался чаще других и позволял себе вести менее формальные разговоры. В обстановке всеобщей подозрительности и провокаций ростки доверия пробивались трудно и часто, не окрепнув, погибали. Бургомистр Фриденбург, по-моему, это был он, отчаявшись найти нормальный язык с нашими представителями, заявил: русским нужны рабы, а не друзья.
Некоторым, и не обязательно русским, – возможно. Но не всем и вовсе не большинству. Меня лично рабская преданность не привлекала, а психология подобострастия отталкивала. Именно тогда я крепко-накрепко усвоил мудрость откровения: если хочешь иметь друга, будь им.
На Унтер-ден-Линден, в центре улицы напротив Оперы, большой фанерный щит с портретом популярного в 40-х гг. советского писателя. Надпись: «Да здравствует Илья Эренбург, лучший друг немецкого народа!» Яснее ясного – перед вами образец ядовитого берлинского юмора. Естественно, «лучшего друга» не сыскать, чем человека, все годы войны звавшего: «Где встретишь немца, там его и убей!» Любого немца, без разбора.
Странно, никого это не колышет. Усердие превозмогает даже инстинкт. Обращаюсь в политотдел, что состоял при маршале В. И. Чуйкове:
– Неужели не понятен издевательский или саркастический смысл здравицы Илье Эренбургу? Это даже хуже, чем преподнесение Пику в честь партийного события гинекологического кресла.
– И более умные люди проезжали мимо щита с портретом, и ни у кого не возникало замечаний, – ответствует мне полковник весом пудов десяти.
Именно такие ревнители «дружбы» норовили в каждом восточногерманском городе иметь улицу Сталина и переулок Маяковского, а оперным театрам пришить имя М. Горького или кого-нибудь в этом роде. На месте городских парков, как в Магдебурге, появлялись «кладбища для советских граждан» и т. п. Умри, Денис, хуже не придумаешь. Так и рвалось сказать, переиначивая знаменитое восклицание.
На следующий, 1951 г. я с треском провалился с другой своей затеей. Восточный Берлин готовился принять гостей Всемирного молодежного фестиваля. Надо же мне было вылезти с предложением перестать сотрясать воздух заклинаниями в вечной дружбе, а вместо этого принять участие вместе с немцами в nape-другой воскресников на строительстве спортивных и прочих сооружений. Наши молодые сотрудники застоялись без полезного физического труда, солдаты были рады вырваться за ограду казарм, познакомиться с немецкими парнями и девушками.
– Вы отдаете себе отчет, куда тянете? У нас и без того голова болит за моральное здоровье коллективов. Это вам мало контактов с местным населением, по мне – их слишком много.
Полковник потребовал от меня удостоверение. Наверняка брал на заметку как подозрительный и ненадежный элемент. Где мне было знать, что политсократы готовили проект уникального приказа, который В. И. Чуйков вскоре и подмахнул, «О введении режима оккупации среди советских граждан». Ни до, ни после мировое правоведение ничего похожего не знало.
Пора, однако, обратиться к моим прямым служебным делам.
Ранней осенью 1950 г. в Люкенвальде собрались левые со всей Германии. Помимо коммунистов и узников нацизма здесь профсоюзные и молодежные лидеры. В президиуме политическое руководство ГДР во главе с В. Пиком, О. Гротеволем, В. Ульбрихтом. Присутствующих свело вместе решение о ремилитаризации ФРГ, неподдельная тревога за будущее немцев, которых сбивали на тропу войны.
Такие конференции, митинги, собрания проходили без числа на западе и востоке Германии. В каждой семье велись ожесточенные дебаты вокруг «немец, что дальше?». Из разрозненных протестов, озабоченностей, сомнений составится потом массовое движение «Без нас», которое доставило много треволнений в Бонне и Вашингтоне. Совещание в Люкенвальде не заслуживало бы отдельного упоминания, если бы…
Едва мы возвратились в Карлсхорст, нашу группу вызвал к себе политсоветник B. C. Семенов.
– Почему не докладываете о ЧП, которое произошло на встрече в Люкенвальде? По-вашему, я должен узнавать об этом через Москву?
– О каком чрезвычайном происшествии речь?
– Час от часу не легче! Пик призвал к свержению антинационального режима Аденауэра, а представители Советской контрольной комиссии, делегированные на встречу, и ухом не повели. До Сталина весть об этом докатилась, он встревожен, а вас только пушки проймут.
– Выступление Пика содержало тезис о необходимости сорвать во что бы то ни стало ремилитаризацию, втягивание Германии в войну, не останавливаясь, если не останется выбора, перед свержением правительства Аденауэра. Но присутствующие, мы тому свидетели, не восприняли эти слова как призыв к действию, тем более к немедленному.
B. C. Семенов требует, чтобы каждый из нас троих воспроизвел мысль В. Пика по своим записям. Заметки в двух блокнотах совпали почти текстуально, и это несколько остудило деланый или настоящий его гнев. Никогда нельзя было быть в ту пору уверенным, рисуется самоуверенный тридцатидевятилетний политический представитель Москвы или он серьезен.
– Садитесь и немедля пишите телеграмму товарищу Сталину. Изложите идею Пика, как вы только что доложили. И на будущее зарубите: товарищ Сталин должен узнавать все новое об эволюциях в позиции руководителей ГДР от нас, а не стороной. Хватит нам передряг на Дальнем Востоке.
Осложнения с Федеративной Республикой ни к чему. Конфликты из-за ФРГ с Западом не нужны. У Сталина продолжали теплиться надежды, мечты, иллюзии, как угодно, что немцы не захотят никому прислуживать и сумеют сами распорядиться своим будущим. Надежды, по ряду признаков, не оставлявшие диктатора до смерти.
Позднее, когда различия в нашем служебном положении снивелировались, а на почве искусства возникла даже личная привязанность, мы с Семеновым редко возвращались в 1950–1951 гг. Если и возвращались, то очень избирательно, обходя неприятные или нелестные для начальственной стороны моменты. И как-то получилось, что корейская война в этих разговорах тоже не фигурировала. Поэтому я не могу судить, в какой мере Семенову была известна ее подноготная.
По достоверным данным, Сталин долго колебался, санкционировать Ким Ир Сену план упреждающего удара или нет. Решающей каплей явилось донесение военной разведки, приписавшее администрации США намерение оказать Ли Сын Мыну в случае войны широкую поддержку оружием, советниками, ударами с воздуха и с моря, но не втягиваться в сухопутные операции. Нацеленная дезинформация? Всякое бывало. Когда течение событий приняло нерасчетный оборот, Сталин отправил начальника ГРУ на Дальний Восток – «поближе к району конфликта ему будет виднее».
Писание политических телеграмм для Сталина представляло собой особый жанр. Второй проект вслед за первым бракуется. Чтобы времени не терять и преподать нам, неучам, предметный урок, Семенов берет бланк и привычно бегло выводит: «Собравшиеся горячо приветствовали слова В. Пика о братской дружбе с Советским Союзом… Бурными аплодисментами встречалось каждое упоминание имени товарища Сталина…»
Нектара недоставало в нашем тексте! Не имело ни малейшего значения, несли ли пчелы этот нектар и в чей улей. Будь адресат пресыщен медоточивыми речами, он нашел бы повод умерить восторги. Возможно, тогда Семенов не вставал бы с кресла, когда разговаривал по телефону со Сталиным. Хорошо, что не сгибал нас в почтительном поклоне, хотя порой и выставлял из своего кабинета, чтобы не отвлекали.
Примерно в это же время меня приобщили к подготовке соображений Советской контрольной комиссии (СКК) к совещанию министров иностранных дел восточноевропейских стран в Праге. Оно созывалось, чтобы дать ответ на нью-йоркское решение трех держав от 19 сентября 1950 г., освещавшее то, что давно делалось американцами и англичанами украдкой, – формальный отказ от Потсдамских и других предписаний о демилитаризации Западной Германии. Даже при прочтении с расстояния сорока лет не устаешь поражаться двусмысленностям, коими было переполнено «коммюнике о Германии», выпущенное тремя державами. «Защита свободы Европы». Всей или части континента? Если части, то какой? Свобода – чья и от чего?
В некоторых правительственных документах США той поры внутренние изменения в европейских странах, даже не являвшиеся результатом советского вмешательства или поддержки, но объективно отвечавшие интересам Советского Союза, велись как «неприемлемая угроза», а приобретение СССР технической способности к отражению американского нападения и вовсе выдавалось за «агрессию». В общем, если наступление – лучшая оборона, то ссылки на нужды обороны – лучшее прикрытие для подготовки к собственной агрессии.
Трем державам не пришла также более счастливая мысль, чем впрячь в одну упряжку перевооружение ФРГ и легализацию ее претензий выступать на международной арене «за Германию» в качестве представителя всего немецкого народа. Если толковать коммюнике из него самого, а не «интерпретационного замечания», доведенного до сведения К. Аденауэра, то в борьбе за «свободу Германии» не возбранялись никакие средства и методы. Кроме… «нейтральных».
Соображения СКК к совещанию в Праге были приняты во внимание, а предложенные нами формулировки к Пражскому заявлению (21 октября 1950 г.) отразились в его тексте[2]. Это прибавило мне всевозможных заданий.
В самом конце октября или, может быть, в первой половине ноября 1950 г. мне было доверено участвовать во встрече с доктором Г. Хайнеманном. Незадолго перед этим он вышел из состава правительства К. Аденауэра в знак протеста против перевооружения, которым перечеркивался «шанс на мирное решение для Германии». Центр крайне интересовало, что же реально творится в Бонне, какова диспозиция сил в самом правительстве, в бундестаге, во внепарламентских кругах, что может быть сделано для предотвращения дальнейшего обострения ситуации в Европе.
Известный церковный деятель Пробст Грубер взялся помочь войти в контакт с Г. Хайнеманном. Превзойдя свои обещания, он привез бывшего министра в Карлсхорст, где в одном из особняков, расположенном вне советского городка, и состоялась памятная мне встреча.
Нас, советских, было на ней двое – майор В. Кратин, до войны научный работник в Ленинграде, и я. Должен заметить, что примерно половину сотрудников нашего подразделения СКК составляли офицеры, на старших должностях они были в большинстве. Недели три-четыре спустя В. Кратина спешно отправили в Союз, как утверждали, «в интересах его же собственной безопасности». В чем майор провинился или где подставился, не знаю. Возможно, вообще ничего и не случилось. Двух других офицеров из отдела информации откомандировали, например, за то, что через книжный магазин в Западном Берлине они заказали у швейцарского издательства несколько книг по истории Второй мировой войны.
Что он включил в беловую запись беседы, В. Кратин мне не показывал. В первичном наброске было порядочно отсебятины, на что я не преминул обратить внимание. Попробую обрисовать встречу, какой она запечатлелась в памяти.
Г. Хайнеманн держался просто. Ничто не свидетельствовало: перед вами сановник, вчерашний влиятельный министр государства, которое вносило свою лепту в политическую карту Европы. Протест против ремилитаризации выражен, и демонстративно, но будущее Федеративной Республики теряется в неопределенности, собственное политическое завтра не поддается расчету. В отличие от иных собеседников, прячущих неуверенность и отсутствие идей в многословии, Г. Хайнеманн скуп на комментарии к произошедшему и неохотно пускается в прогнозы.
Да, интерес США к включению западногерманского потенциала в военные усилия НАТО был решающим при создании Федеративной Республики. Затянись блокада Западного Берлина чуть дольше, ремилитаризация началась бы в день рождения нового государства, причем под лозунгом «самозащиты немцев». Не вышло. Это не значит, что сорвалось. Требовался предлог. «Вы дали его в Корее». Не будь корейской войны, возможно, удалось бы переиграть приверженцев перевооружения. Если бы предпосылок для этого не имелось, он, Г. Хайнеманн, не вошел бы изначально в состав правительства К. Аденауэра.
Нет, он не считает, что кто-нибудь из министров последует его примеру. Для этого нужна в любом случае реалистическая альтернатива решению трех держав в Нью-Йорке. За Советский Союз никто не ответит, готов ли он к этому. Бундестаг на данном этапе больших неприятностей К. Аденауэру не доставит, хотя во всех фракциях есть депутаты, отдающие себе отчет в важности происходящего.
Он, Г. Хайнеманн, подал сигнал тревоги. Тот, кто способен слышать, услышит. Сделать соответствующие выводы перед лицом фактов должен каждый сам. Это вопрос как политических убеждений, так и совести. Имея в виду последнюю, Г. Хайнеманн предполагает на ближайшее будущее посвятить себя деятельности в рамках евангелической церкви – единственном, что еще не поддалось расколу.
Попытки В. Кратина разговорить Г. Хайнеманна, выудить из него детали прохождения решения о перевооружении в переговорах между тремя державами и Бонном, а также в кабинете К. Аденауэра успеха не имели. Г. Хайнеманн, в свою очередь, поинтересовался планами СССР и ГДР в новой обстановке. Поняв, что у нас ничего примечательного за душой нет, гость взглянул на часы и констатировал, что полтора часа, о которых условливались, истекли и ему пора прощаться.
Сыграла ли наша беседа с Г. Хайнеманном какую-то роль в появлении письма О. Гротеволя федеральному правительству, в определении его содержания и тональности? Полагаю, что не помешала. К. Аденауэр фактически втянулся в обсуждение условий включения самих немцев в решение занимавших их проблем. После того как глава правительства ГДР выразил принципиальную готовность рассмотреть требования, выдвинутые Бонном, канцлер впал в агрессивную риторику.
Президент бундестага Г. Элерс дал понять, что не одобряет линии К. Аденауэра, и выступил за продолжение диалога через «железный занавес». Широкие слои немцев на Востоке и Западе, отметил Г. Элерс, не удовлетворены боннской реакцией на обращение О. Гротеволя.
Можно без натяжки говорить о том, что в конце 1950 г. большинство немцев на Востоке не испытывали радости от втягивания Германии в гонку вооружений и обструкции К. Аденауэра, что касается германо(ГДР) – германских(ФРГ) контактов. Результатом действий Бонна могло быть лишь углубление рва между ГДР и ФРГ до размеров пропасти. В этом смысле инициативы О. Гротеволя имели легитимацию независимо от оценок первых после создания Германской Демократической Республики выборов в Народную палату, ландтаги, коммунальные органы власти.
Проводись голосование не по единым спискам Национального фронта, СЕПГ собрала бы в большинстве городов от 30 до 40 процентов голосов, на селе даже меньше и почти нигде не вытянула бы 50 процентов. Всегда глупые, даже когда условно верные, 99,7 процента раздражали, провоцировали несогласие и сопротивление там, где его могло не быть.
Выступление О. Гротеволя в Народной палате с заявкой на ведущую функцию СЕПГ в системе власти было сопряжено с видимостью победы на выборах 15 октября, с самообманом, неизбежно сопутствующим обману других. Как очевидец могу засвидетельствовать, что провозглашение СЕПГ государственной партией застало ее партнеров по Национальному фронту врасплох. Я ждал, что О. Нушке и другие как-то покажут возмущение, хотя бы недовольство. Дальше недоумения не пошло.
Вспомнились беседа с Г. Хайнеманном и его скепсис по поводу открытого сопротивления на верхних этажах власти политике К. Аденауэра. Дисциплина – вторая религия немцев. Государственная дисциплина и вовсе святыня.
СДПГ и прежде всего ее лидер К. Шумахер особых трудностей для официальной боннской политики не создавали. Терпя неудачу в организации оппозиционной фракции внутри СДПГ, руководство СЕПГ пыталось вызвать к жизни леводемократическое течение, которое, как считалось, могло перехватить у социал-демократов сочувствовавших, в особенности из числа интеллектуалов. Я был приглашен в Кириц на крестины одной из подобных групп, которая должна была называться «социал-демократическая» или «социалистическая акция». За главного от СЕПГ на учредительном собрании выступал Ф. Далем.
Это мероприятие напоминало любительский спектакль без малейших шансов утвердиться в политическом репертуаре. Не стоит останавливаться на том, что через «восточное бюро» СДПГ своевременно получала информацию о покушениях на свой домен и имела возможность их обезвреживать.
В известной степени неизбежно перед ГДР должен был встать вопрос не только о направленности политики, но и о самой природе восточногерманского государства. Направленность предопределялась выводившимися из Потсдамского соглашения требованиями выкорчевывания, бескомпромиссного и необратимого, нацизма и милитаризма, демократизации экономической и общественной жизни. Достаточно небольшой тавтологии, добавления к демократизму определения «народный» – и вы одной ногой в социализме.
Отставать ГДР от других или не отставать? Тема дискутировалась на научно-теоретической конференции сотрудников СКК. Различные точки зрения свел воедино и все сомнения разрешил заместитель политсоветника И. И. Ильичев. «В ГДР установился народно-демократический строй, – заявил он в заключительном слове. – Быть по сему». Куда как определенно, хотя не чрезмерно научно и теоретично.
Кто-то должен был, однако, выступить арбитром в спорах, ведшихся не в нашей среде, а в руководстве ГДР. Лучшего «теоретика» марксизма, чем Сталин, тогда не знали. Ведь он собственноручно вписал в макет книги, подготовленной И. Поспеловым и другими, «Сталин – это Ленин сегодня». Он твердо верил, что задача теории – обслуживать практику. А если практика перегружена противоречиями? Тогда и теория не может разыгрывать из себя монашку.
Ясно вам? Не очень. В. Пику тоже не было слишком ясно. Ну, бог с ним, с В. Пиком, одногодок К. Аденауэра угасал, и уже недалеко время, когда он будет выполнять только представительские обязанности во дворце Нидершёнхаузен. Неуютно чувствовал себя В. Ульбрихт – думать и непретенциозно изъясняться в идейной приверженности социализму не возбранялось, но никакого социального раскола Германии сверху, пока «теоретик» Сталин не сочтет, что пора. А может быть, и не придет к такому выводу?
Перспектива строительства социализма в ГДР в ответ на восстановление позиций олигархии в ФРГ и как реакция на перевооружение Западной Германии являлась для советского диктатора пугалом для воздействия на настроения широких слоев немцев и разменной монетой, или, правильнее сказать, золотым слитком в сложной борьбе, что велась с тремя державами. Нет, К. Аденауэр не на пустом месте вычислял, что на четырехсторонней конференции Советский Союз может предложить восстановление единства Германии в качестве демилитаризованного, фактически нейтрального государства. 10 февраля 1951 г. канцлер выступил категорически против такого варианта воссоединения, будто бы навлекавшего великие опасности на немецкий народ как в случае войны (ни один из двух блоков, по его словам, не проявил бы уважение к нейтральному статусу Германии), так и мира (Германия была бы потеряна, попав в поле притяжения Советского Союза, а с ней была бы обречена и вся Европа).
К. Аденауэру верить даже наполовину не обязательно. Но принять к сведению это заявление, сделанное тоже почти на научном собрании – в большом зале Боннского университета, нелишне. Иначе останется неучтенной одна из причин бесплодия предварительной конференции в Розовом дворце (Париж, 5 марта – 21 июня 1951 г.) и непонятой история со знаменитой советской нотой от 10 марта 1952 г.
Официальная западная легенда гласит, что заместители министров иностранных дел СССР, США, Англии и Франции разошлись ни с чем из-за требования обсудить на конференции министров вопрос об Атлантическом пакте и создании американских военных баз в Европе и на Ближнем Востоке. О советских войсках в Германии, заодно в Польше и Венгрии говорить соглашались. Но география размещения войск трех держав интересовать СССР не должна была, ибо эти войска не являлись, по западной версии, «оккупационными».
Министр иностранных дел Великобритании, нарушая традиции Туманного Альбиона, выразился 2 апреля 1951 г. предельно четко – дискуссия о правомерности и неправомерности отдельных решений и заявлений прошлого была бы неплодотворной; непрактично связывать немецкий народ и четыре державы ходом мысли, которого они придерживались в момент капитуляции; необходимо принять к сведению данности в Восточной и Западной Германии и в сотрудничестве с немецким народом положить начало строительству новой демократической Германии. Понятно, полагаю, – на условиях, которые практикуют Вашингтон, Лондон и Париж.
2
Напомню, что в заявлении содержался призыв к подтверждению верности четырех держав принципам Потсдама, беспрепятственному развитию гражданских отраслей немецкой экономики, безотлагательному подписанию германского мирного договора и восстановлению государственного единства Германии, выводу оккупационных войск с немецкой территории в течение года после заключения мирного договора, созданию «общегерманского учредительного совета» с широкими полномочиями.