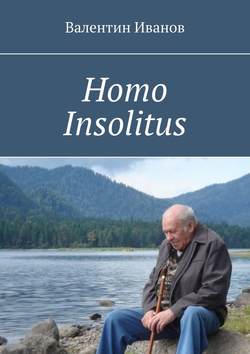Читать книгу Homo Insolitus - Валентин Иванов - Страница 6
В лагере за колючей проволокой
ОглавлениеНачало этой истории, как ни странно, связано со столетием со дня смерти А.С.Пушкина после знаменитой дуэли на Чёрной Речке. Событие это отмечалось в нашей стране с огромным размахом. Миллионными тиражами печатались книги великого поэта. В газетах и журналах напечатаны были сотни статей, посвященных знаменательной дате. Всюду проходили торжественные собрания, конференции и литературные семинары, на которых народу в тысячный раз объясняли, какой великий вклад в русский язык и его великую литературу внёс этот мятежный поэт. Миллионными же тиражами были отпечатаны школьные тетрадки на обложке которых были помешены фрагменты иллюстраций к произведениям Пушкина. На одной их таких обложек широкими штрихами был нарисован вековой дуб, растущий у Лукоморья. Возле дуба на цепи вальяжно расхаживал рассказывающий сказки «кот учёный», а на ветвях удобно расположились русалки. На другой обложке был изображён в сверкающих латах, опоясанный мечом Вещий Олег, прощающийся со своим славным боевым конём, о смерти от которого его предупредил кудесник, любимец богов.
Все эти пушкинские торжества находились в страшном контрасте в общей атмосферой страха и подозрительности, пропиьывавшей всё наше общество, которому со страниц газет, чёрных раструбов радиодинамиков и с экранов киножурналов внушали, что кругом нас окружают враги – троцкисты, вражеские шпионы, саботажники и диверсанты. Даже школьники с «пушкинскими» тетрадками, вместо того, чтобы слушать учителя, старались среди штрихов на обложке найти замаскированные образы. Если при таком поиске картинку еще и поворачивать, то некоторым удавалось обнаружить буквы, из которых складывалась фраза «Долой ВКПб». Из «компетентных органов» через облоно была спущена директива во все школы об изъятии «крамольных» обложек. Можно только предположить, что стало с авторами этих рисунков. Мама моя была учительницей старших классов. Выполняя директиву сверху, она собрала тетрадки своих учеников, оторвала все неугодные обложки, а тетрадки вернула школьникам без всяких объяснений. Да никто и не осмелился спрашивать. Целый портфель таких обложек она принесла домой то ли для последующей сдачи их в облоно, то ли просто для растопки.
В декабре 1937 года под утро, в пять часов к нам пришли с обыском. Отец мой был председателем месткома вагоностроительного завода, и на одном из собраний он выступил с защитой прав рабочих. С трибуны он заявил, что неоплата рабочим сверхурочных является незаконной, поскольку это грубое нарушение прав трудящихся. На общем подъеме искусственно раздувавшихся пропагандой стахановских и других починов, организация сверхурочных работ была массовой практикой руководства большинства предприятий, которая как бы отражала коммунистическое отношение к труду. Отец высказался, что нельзя эксплуатировать рабочих. Кто-то из «доброжелателей», присутствовавших на собрании написал донос о том, что энтузиазм советского народа приравне Кулаковым к методам капиталистической эксплуатации. Этого оказало достаточно, чтобы в областной газете «Комунна» появилась обширная статья о троцкистском выступлении Ивана Кулакова.
В ходе обыска наткнулись на портфель с «антисоветскими» картинками на обложках тетрадей, и отца арестовали. Забрали также висевшую на стене шашку, которой отец был награжден за участие в Гражданской войне, где он в семнадцатилетнем возрасте воевал в составе Первой конной армии Буденного. Шашка эта была гордостью всей семьи, а забрали её в качестве вещественного доказательства «приверженности к троцкизму».
Полгода мама пыталась выяснить, где находится отец, но никто ничего определенного ей не говорил. И вдруг мы получаем доплатное письмо в виде листка из школьной тетрадки, свёрнутого треугольником. В те времена это было общепринято. Если у отправителя нет марки, то почта доставляла его получателю, который должен был заплатить двойную цену марки. В тексте письма почерком отца было написано: «Дорогие мои! Я жив-здоров. Везут нас в товарном вагоне, неизвестно куда. Но я не падаю духом. Целую и обнимаю вас. Ваш Ваня». Руки мамы дрожали, когда она читала всей родне это письмо. Но слёз не было, надо было что-то делать, чтобы спасти мужа.
Письмо было проштемпелёвано, и на чернильном оттиске печати можно было прочитать «станция Сухобезводный». Сначала мы решили, что это где-то в Средней Азии, но когда открыли атлас, нашли её на севере европейской части, где тайга и тундра. Мама сразу же решила ехать туда, взяв меня с собой. Мне тогда было одиннадцать лет. Мы сели в поезд и поехали. Оказалось, что эта станция является центром огромной территории Нижегородской области, носящей название Унжлаг по названию протекающей там речки Унжи. Позже я узнал, что в лагпунктах этого «острова скроби» ГУЛАГа содержались до двух тысяч заключенных. В основном. Они использовались на лесоповале.
Мама пошла по начальству, но НКВД-ешники там привыкли разговаривать с людьми только матом: «Какого тебе еще Кулакова надо? Убирайся вон, а то и тебя посадим туда же». Поняв, что от начальства ничего не добьешься, мама вышла на улицу. Мы присмотрелись к поселку. Он оказался пересылочным пунктом многих лагпунктов Унжлага, и на его улицах было много расконвоированных, которые имели некую свободу перемещения, но не имели права отсюда уезжать и должны были периодически отмечаться в комендатуре. В этих людях нетрудно распознать было лагерников. Все они были коротко стрижены, в телогрейках и ватных штанах, но главное было в выражении лица – потоянно напряженное, готовое к тому, чтобы дать отпор, «отоварить» неожиданно подвернувшегося друга ли, врага ли, кто его знает. И вот мы ходили по улицам, мама заглядывала в лицо буквально каждому прохожему и спрашивала, не встречался ли ему Кулаков Иван Васильевич. Как правило, ей криво ухмылялись: «Что ты, дура, не понимаешь, что здесь миллионы людей, свезённых со всех окраин страны? В день видишь сотни новых, незнакомых лиц. Фамилий называть не принято. Ладно, если имя назовёт, а чаще обходятся просто кличками».
Вдруг один из зеков откликается:
– Кулакова Ивана? В очках, лысый? Как же, знаю. Мы с ним в одном бараке «паримся»
Сердце мамы ёкнуло: «Есть Бог!», хоть она и не верила в него раньше, будучи советской учительницей, да ещё замужем за партийным активистом Она восприняла это невероятное событие как светлый символ – проще найти иголку в стоге сена, чем родного человека в этом море скорби и слёз.
– Как он там? Здоров ли? А не могли бы Вы устроить нам свидание с ним?
– Что ты, дура-баба, не понимаешь? Это же не пионерский лагерь. Там охрана, колючка, собаки, вышки солдатами, переклички три раза в сутки. Какие там свидания?
Видимо, этот расконвоированный вор был авантюристом по натуре, и он, в конце концов, согласился помочь, но предупредил, что это стоит денег и немалых. Мама отдала ему все деньги, что у нас были с собой, и еще заняла немного у хозяйки, где мы остановились. Согласился он попробовать провести в зону только меня, поскольку женщина в мужской зоне лагеря – это гораздо менее вероятная картина, чем увидеть воочию чёрта с рогами и копытами. Ночью на станцию прибыл товарный состав с опломбированными вагонами. Лишь на вагоне охраны не было пломб. Я торопливо распрощался с мамой, откатили дверь и меня затолкали в этот тёмный, неосвещаемый вагон. Потом раздался толчок, скрип колёс. Состав тронулся. Ехали несколько часов. В вагоне не смолкал лай собак и ругань охранников. Воняло мочой и прелым сеном. Прибыли неизвестно куда уже под утро, часам к семи.
Я выскользнул из своего вагона и увидел, как охрана срывает пломбы, откатывает двери остальных вагонов, и оттуда буквально выползают изнурённые заключенные на негнущихся, одеревеневших от долгой неподвижности ногах. Тут же у вагонов они оправляли малую нужду. Отходить далеко от состава им не позволяли. Затем для них устроили перекличку, построили в колонну, и они неторопливо тронулись, сопровождаемые вооруженными охранниками с собаками. Откуда-то появилась лошадь с телегой, на которую охрана сложила свои пожитки. Туда же я бросил и свой заплечный мешок с краюхой хлеба, данной мне в дорогу матерью. Сам пошел вслед за телегой по открывшейся взору лесотундре. Дорога, по которой мы шли, называлась Лежнёвка. Она частенько проходила через заболоченные места, и для того, чтобы не проваливаться, заключенные проложила гать из брёвен.
Через пару часов ходьбы я услышал впереди захлебывающийся лай овчарок, потом сухой выстрел. Затем движение колонны возобновилось, и я увидел на обочине дороги скрюченный труп заключенного со спущенными штанами. Он был убит якобы при попытке к бегству, хотя даже ребёнок понимал, что бежать со спущенными штанами не просто неудобно, но и невозможно. Скорее всего, это был доходяга, который уже не мог идти наравне со всеми.
Примерно к одиннадцати часам мы подходим к лагерю, который окружали два ряда колючей проволоки между вышками и вспаханная полоса трёхметровой ширины. Колонна втянулась в лагерные ворота, а сопровождавший меня вор сказал:
– Ну, ты посиди здесь, а я схожу, узнаю обстановку.
Я присел на корточки под чахлым деревом, и меня тут же облепили комары, от которых я должен был непрерывно отбиваться сорванной веткой. Проходит час, другой, и я начинаю понимать, что этот вор забрал деньги и бросил меня тут в тайге, вдалеке от человеческого жилья, а просить помощи у лагерной охраны нет никакого смысла, поскольку тут же начнут допрашивать, как я тут оказался, и чего я тут делаю. Однако, через некоторое время вижу: идёт. Он берёт меня за руку и проводит через проходную. На территории вор заводит меня в барак и говорит:
– Вот место твоего отца. Сейчас он на работе, на лесоповале. Сиди здесь, никуда не выходи, жди его. Вечером придёт.
Я лёг на нары и заснул. Оказалось, что этот вор ни о чём отца не предупредил. Вечером отец заходит в барак и видит, что на его месте кто-то спит. Присмотрелся: сын.
– Как ты здесь оказался, сынок?
Я рассказываю ему о его треугольном письме, о маме и обо всех наших приключениях. Мы проговорили с отцом всю ночь. Представьте, многое ли может рассказать одиннадцатилетний мальчик? Конечно, мой рассказ очень быстро подошел к концу, и, понимая, что утром мы расстанемся, для того, чтобы сохранить этот неожиданный духовный контакт с родным сыном, отец начал рассказывать мне содержание романа Жюля Верна «Пятьсот миллионов бегумы». Роман описывает противостояние двух городов, построенных на территории США двумя наследниками огромного состояния: антиутопического Штальштадта, основанного германским милитаристом и расистом профессором Шульце, и утопического Франсевилля, построенного французом доктором Саразеном.
Отец мне рассказывает всю ночь, что такое фашизм, какие он ставит перед собой цели, какая социальная система на самом деле сейчас у нас установилась. Это был мой первый урок социологии. Надо сказать, мой отец был большой книгочей, и у нас было обширная библиотека. Прочитав много книг, отец умел очень красочно рассказывать те сюжеты, которые он прочел. Его удивительный рассказ в деревянном бараке с двухэтажными нарами под храп и стоны заключенных был столь необычен, что запомнился мне на всю мою жизнь. Я запомнил отчетливо даже его неторопливый голос, в котором, как ни странно, не было ни скорби, ни отчаяния. Как сумел мой отец, получив десять лет лагерей оставаться оптимистом, для меня так и осталось великой тайной.
Забегая вперёд, расскажу один интересный эпизод. Спустя много лет после описываемых мною событий в Академгородок приехал известный кинодокументалист Иосиф Пастернак, чтобы снять фильм о сибирском научном центре. В качестве одного из персонажей этого фильма он выбрал меня. Он побывал на моих лекциях в университете и у меня дома в гостях. Я рассказал ему некоторые эпизоды из моей жизни, в том числе и о пребывании моего отца в лагере. Он снял фильм по моим рассказам, и этот фильм получил первую премию на международном конкурсе «Эйфелева башня» в Париже. Позднее я был в командировке в Москве и остановился у моего друга Виктора Шахова. Вдруг раздается звонок, и абонент спрашивает:
– Вы не могли бы сообщить мне номер телефона Кулакова Юрия Ивановича в Новосибирске?
– Кулаков Вас слушает, – отвечаю, – я сейчас здесь, в Москве у друга.
– Какая радость! Юрий Иванович, когда мы могли бы с Вами встретиться?
Он приезжает за мной к Шахову и мы едем к нему в гости. По дороге он рассказывает, что у него сейчас в планах снять фильм о советских лагерях и политзаключенных. На квартире у него собрались его французские коллеги кинематографисты. Меня усаживают в центре комнаты в кресло, настраивают аппаратуру, и я начинаю свой рассказ. Для французов самой важной и неожиданной деталью оказывается тот факт, что истощенный от голода и тяжелой работы заключённый, который встречается с сыном всего на одну ночь, рассказывает своему сыну не о своей жизни, полной суровых лишений, а содержание романа Жюля Верна. Поневоле получается, что великий французский писатель не просто фантазировал на тему ужасов выдуманного тоталитарного общества, а предвосхитил даже многие детали, и рассказ сына политзаключенного теперь является просто живой иллюстрацией написанного в прошлом веке романа. Этот мой рассказ целиком вошел в следующий фильм Иосифа Пастернака.
Утром мы с отцом расстались. Зеков выводили на перекличку и развод на работы. Мы обнялись, но у меня возникло чёткое впечатление, что расстаёмся мы ненадолго, хотя отцовский десятилетний срок был в самом начале. Отец чувствовал то же самое. От него веяло каким-то непонятным, но мощным оптимизмом, что всё образуется, и скоро снова всё в жизни будет по-прежнему ярким и интересным.
Мы расстались. Появился мой знакомый расконвоированный уголовник, вывел меня за ворота лагеря, дал символического пинка под зад и сказал:
– Не бзди, парень! Дорогу теперь ты сюда знаешь, так что милости просим. Всегда будем рады увидеть тебя снова здесь. В каком качестве, это уж как судьба распорядится.
Я пошёл обратным путём по Лежнёвке. Заблудиться было невозможно, потому что дорога была одна, и развилок на ней не было. Дойдя до конечной станции, я увидел порожний состав, протиснулся в один из пустых вагонов, справедливо полагая, что когда-нибудь поезд отправится назад в Сухобезводное. Действительно, через некоторое время раздался гудок поезда, лязгнули буфера вагонов и состав, набирая скорость, плавно покатил в нужном для меня направлении, ибо других направлений от конечной станции просто не было.
Мама страшно обрадовалась, когда увидела меня живым-здоровым, вернувшимся чуть ли не с того света. В известном смысле это так и было. Судьба и здесь каким-то чудесным образом хранила меня. Для чего? Для каких иных свершений?
Мы отправились в обратный путь. Дома мама следила за неожиданными и почти непредсказуемыми сменами политического курса страны через книжный магазин, который был у нас в Отрожке. На витрине этого магазина была постоянная экспозиция портретов членов ЦК партии. Экспозиция-то была постоянной, но элементы этой экспозиции довольно часто менялись без объяснения причин и комментариев для народа. В центральной части этой экспозиции находился портрет наркома внутренних дел Николая Ивановича Ежова, и вдруг этот портрет исчез. Именно в годы «ежовщины» появились разнарядки местным органам НКВД с указанием числа выселяемых, арестованных, подлежащих репрессиям и расстрельные списки. Исчезновение портрета Ежова мама восприняла как сигнал о том, что надо действовать немедленно. Она садится на поезд и едет в Москву хлопотать о муже. Начала она с обхода кабинетов начальников. На улице Калинина она увидела огромную очередь, состоящую, главным образом, из жён политзаключенных. Стоять там нужно было долго, целыми днями, и сердце ей подсказало, что ничего хорошего она в этой очереди не выстоит. Тогда она решила обратиться к Надежде Константиновне Крупской. Мама, конечно, не знала, что после смерти Ленина Сталин постарался «задвинуть» Крупскую, как можно дальше, и реальной власти она к тому времени никакой не имела, была отстранена от деятельности Наркомпроса и курировала вопросы библиотечной деятельности.
Мама приходит в её кабинет и видит, что там совсем нет никаких посетителей. Перед ней сидит толстая пожилая женщина с большим зобом и слегка выпученными, пустыми глазами. Одета она совершенно невзрачно во что-то коричневое и бесформенное. Мама начинает рассказывать историю злоключений своего мужа, но лицо Крупской совершенно неподвижно и равнодушно. Она думает о чём-то своём. Мама закончила свой рассказ и поняла, что и здесь у неё ничего не получится. Она встала, попрощалась с хозяйкой кабинета и пошла к дверям. Вдруг лицо Крупской оживляется:
– Постой, постой! Это ты та самая Тонечка, что так боевито выступала на съезде в 22-м году?
Мама моя c 1900 года рождения. В 17-м году она оканчивает учительские курсы и едет по распределению в глухую деревню. Там она развивает бурную педагогическую деятельность на ниве народного просвещения. Красивая, интеллигентная, она сделала школу и клуб этой деревни культурным центром всего уезда, и в 1922 году её избрали делегатом на 1-й съезд сельских учителей. В президиуме за столом, накрытым красным кумачом сидела Крупская, которая в те годы курировала Норкомпрос. Доклад моей мамы ей очень понравился своей чёткой и ясной логикой, и она пригласила маму после её доклада сесть рядом с ней в президиуме. Собственно, на этом в тот раз встреча и закончилась. Мама вернулась в деревню, потом перебралась в Воронеж, встретилась с моим отцом, вышла замуж и продолжала учительствовать. Когда с отцом случилась эта злосчастная история, мама решила обратиться к Крупской: если она вспомнит её, то появляется надежда на то, что можно чего-то добиться в Москве.
Теперь ей повезло, что у Крупской оказалась такая хорошая память. Она пригласила маму вернуться и рассказать свою историю заново и поподробнее. На этот раз Надежда Константиновна слушала внимательно, а по окончании рассказа грустно заметила:
– Вряд ли я сейчас смогу сама помочь тебе, но у меня остались кое-какие друзья, и я постараюсь через них похлопотать о твоём деле.