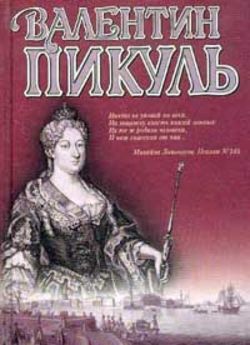Читать книгу Слово и дело. Книга 1. Царица престрашного зраку - Валентин Пикуль - Страница 3
Летопись первая. Государева невеста
Глава первая
ОглавлениеПо самому краю гиблого света течет стылая Сосьва-река. А куда течет – неведомо, и там, за рекой, пусто, только зверь пушистый сигает. Вот на этом-то берегу, распевая псалмы и богохульствуя, одинокий старик с полудня копал могилу.
Ненастно было…
– Ай-ай, дел наделал – всего и не упомнишь!
Зато и был он князь двух империй (Российской и Римской), генералиссимус и ордена Андрея Первозванного кавалер. Сердечный друг, «мин херц Данилыч», его высокое сиятельство Алексашка Меншиков – на краю света, в армяке мужичьем, бородатый и страшный, и вот… видит бог: копает могилу!
Для дочери. Для Марьюшки. Для царевой невесты.
– И вознесо-ох избранна-аго-о, – пропел Меншиков сипло.
А в могиле было ему даже хорошо: не обдувал ветер, что забегает с тундры, не виднелись из ямы постылые крыши Березова-городка. Только чистые облаци над головой старика – плывут и плывут в незнаемое.
Под вечер вернулся Данилыч к себе в домишко, что срубил саморучно (бревна-то в два венца клал, окошки-то в кругляк вывел – на зависть одичалым березовцам). Семейство опального князя, выплакивая глаза, сумерничало в нетопленых горницах. Всего двое и остались: сын его Санька да девка малая – тоже Александра. Супругу-то свою, Дарью Михайловну, еще под Казанью навеки оставил – на самом берегу Волги зарыл ее, когда в ссылку обозом тянулись.
– Будет вам! – цыкнул Меншиков на детей. – Пряники-то писаны на Москве остались. И скулить – неча… Мой грех вижу в том, что не отведали вы ранее горбушки серенькой.
Раздул лучину – прошел к покойнице. В кедровом гробу, обитом сукном изнутри, покоилась царская невеста – княжна Марья. А жития ей было осьмнадцать лет. И хвори она никакой не знала – просто тоска приключилась. «В Москву, – плакала перед смертью, – в Москву бы мне…» Торчал теперь из кружев остренький носик, а губы раскрылись в смерти – губы, царем недавно целованные.
Меншиков подул на замерзшие пальцы, долго и неумело вдевал серьги в занемевшие мочки покойницы. Вдел кое-как, и затрясся в рыданиях гордый подбородок:
– Эх, Марьюшка… быть бы тебе императрицей! Почто не отдал я тебя за Сапегу? Жила бы в Польше… Внука бы мне… внука!
После погребения не мог Данилыч отойти от дочерней могилы. Все на другой берег Сосьвы посматривал. А там синел корчеватый лес да стелились вдали тобольские тундры – края постылые, жуткие, безлюдные… И сказал сыну и дочке с лаской:
– Детушки, вы домой ступайте. Не то озябнете, чай!
А сам примерился глазом, сразу помолодевшим. Лопатой отсек добрую сажень и торопко начал копать другую могилу. Рядом с дочерней – только пошире, только поглубже… Страшно стало, и в рев ударились княжата:
– Тятенька, тятенька! Не пужайте нас, миленькой… На што вторую-то грабстаете? Ой, горе нам, сирым Меншиковым…
Данилыч знай копал – быстро и сноровко.
– Не вам, не вам, – ответил. – А имени несчастному моему!
И вскорости правда слег. Сначала интерес к еде потерял. Пил только воду с брусникой.
Лежа на полатях под шубами, начитывал Данилыч мемуар свой, а княжата записывали. Память не изменяла временщику: баталии да кумпанства, виктории громкие да ретирады стыдные – все он помнил… Все! А однажды поманил к себе сына поближе:
– Глуп ты, чадушко, но смекни. Деньги-то мои при банках надежных лежат – в Лондоне и Амстердаме. Смотри же, Санька: как бы тебе на дыбе из-за них не болтаться…
Юный князь вяло шевельнул бесцветными губами:
– Сколько ж там у нас, тятенька?
– Да миллионов с десять, почитай, набежит… Велик грех!
Тоненько и горестно заплакала дочка:
– Ой, лишенько! Оскома от клюкв и брусник здешних, вишенок бы мне московских из садика… Желаю я на Москве показаться!
Вспомнил тут Данилыч, как отказал жениху ее, принцу Ангальт-Дассаускому, потому как мать его была аптекарской дочкой.
– Терпи, – сказал. – Да за казака ступай здешнего. Что прынц, что казак – едина доля тебя ждет, бабья…
В конце короткой тобольской осени, когда метельные «хивуса» залепили снегом окошки, почуял Меншиков смерть и выпростал из-под вороха шуб свою жилистую руку.
– Вот она… пришла, стало быть, за мною! Ну, так ладно.
Велел камзол нести да брить себя. Без бороды, принаряженный, стал он тем, каким его ранее знали. Даже глаз с искрой сделался – будто в знатные годы. Губы, всегда скупые, размякли, добрея.
И все замечал с одра смертного. Эвон паутинка в уголке ткется, у лампадки фитилек гаснет, мышонок корочку в нору себе прячет. Вот и мышонок сей жить останется. Березовская мышь – не московская: что она знает-то? «А я, князь светлейший, помираю вдали от славы и палат белокаменных… Обида-то какая! – содрогнулся всем телом. – Мыши – и той завидую…»
– Прощайте все, – произнес внятно.
Над ним склонился сын – в грудь отца вслушался:
– Поплачь, сестричка: изволили опочить во веки веков наши любезныя тятеньки, Александры Данилычи…
Но глаз временщика открылся снова – круглый.
– Еще нет, – сказал Меншиков. – За мной слово остатнее. Не раз, детушки, помянете вы дни опальные, яко блаженные! И завещаю вам волю отцовскую: подале от двора царева живите. Не совладать вам… Вот и все. А теперь – плачьте!
Матвей Баженов, мещанин Тобольской губернии, хоронил грозного временщика… В мерзлую землю, посреди голубого льда, поставили тяжелую гробовину и засыпали землей пополам со снегом. Великие сибирские реки, во едину ночь морозами смиренные, уже звонко застыли: открылся до Москвы путь санный – тысячеверстный.
…
Долго едет казак на заиндевелой лошадке. Гремят в котелке мерзлые куски щей, наваренных бабою на дорожку, да стукаются в мешке вкусные пельмени. У редких станков ямских пьет казак горючую водку. Корявым пальцем достает из лошадиных ноздрей острые сосульки. Коль не вынешь их – кобыла падет, а казак пропадет.
Больше месяца ехал служивый по сверкающему безлюдью снегов. Но вот потянуло дымком над долиною Иртыша: Тобольск – пупок всей Сибири, город важнецкий, при губернаторе и чиновном люде. За щекой у казака пригрелся серебряный рубль. Ух, и загуляет же казак на раздолье кабаков тобольских, вдали от жены и урядника!
Но допрежь вина – дело. В сенях канцелярии казак сбросил гремящую от мороза доху, ружьецо курком к стенке прислонил и достал пакет из-за теплой пазухи.
– Эй, люди! – объявил казак. – Дело за мной государево да спешное. Во Березове-городке на Аксинью-подзимницу скончал живот свой поругатель царя и отечества бывший князь Меншиков, персона известная… На чью руку мне депеш о том скласть?
А до Москвы от Тобольска еще более двух тысяч верст. Медленно движется обоз из Сибири: посылают соболей да серебро в казну царскую – ненасытную; везут кяхтинскую камку да черный чай, зашитый в кожаные «шири». Под полстью храпит в возке крытом пьянственный поручик (командир обозный). Иной час протрезвеет и гаркнет в лютую морозную ночь:
– Эй, наррроды дикие! Водки бы мне… Хо-адно. Грустно.
Москва же это время жила сумбурно и лиходейно, во хмелю, в реве охотничьих рогов, в драках да плясках. «Эй-эй, пади!» – И по кривым улицам пронесется, давя ползунов-нищих, дерзкий всадник на запаренной лошади. Бок о бок с ним проскачет князь Иван Долгорукий, а за ними гуртом дружным (с белыми соколами, что вцепились когтями в перчатки) промчатся с гиком да свистом доезжачие, кречетники, псари, клобушечники…
И падет народ по обочинам: то сам царь – его величество Петр Вторый, внучек Петра Первого да Великого. От плоти царевича Алексея, что казнен был гневливым батюшкой, урожденный. А в Воскресенском монастыре, средь кликуш и юродивых, еще доживала свой век его бабка – царица Евдокия Лопухина.
Год 1729-й – год на Руси памятный: канун раздоров, крамол боярских и разливов крови российской…
Ждите, люди, беды народной – беды отечественной!
…
Времечко-то ненадежное – без ласки к людям, без приветности душевной. Вот и воронья на Москве стало много. Старые люди крестились походя: «К беде, стал быть, коли каркают». Ивашке Козлятину, что у Ильи-пророка на Теплых Рядах дьяконствовал, опять виденьице было: будто бы покойный царь Петр Лексеич из гроба восстал, а от дыхания его так и пышет. Ивашка в приказе Преображенском пытан был и на огне ленивом, плетьми дран, показал допытчикам: мол, так оно и было… восстал и пышет!
Приказ Преображенский тот вскоре уничтожили, и притихло бы вроде все: ни тебе «слова», ни «дела». Только у рогаток замшелые дониконианцы на люд прохожий двумя перстами грозились. О Страшном суде покрикивали сердито: «Нонешний Синод – престол антихристов, скоро вера сыщется, и будет людям жить добро, да не долго!» А в кружалах и фартинах царских грамотеи книжные шепотком подметные письма читали. В них о райской землице сказано было. Есть, мол, такая за Хвалынь-морем, идти до нее надобно сорок дён, не оборачиваясь. А коли обернулся, милок, то и пропал…
Крестьянство пребывало на Руси в великом оскудении: войны Петра I прошлись податями по мужицким хлевам да сусекам. Повыбили скотинку, повымели мучицу. Армия тоже притомилась в походах. Изранилась, поизносилась. Люди воинские от семей отбились – блудными девами пробавлялись. А на базарах дрались, воровали и клянчили калеки – обезноженные, обезрученные, стенами крепостными при штурмах давленные, порохом паленные… Всякие!
Дорого дались России победы азовские, на лукоморьях Гиляни каспийской да в землях Свейских – полуночных. Теперь офицерство промеж себя толковало так-то:
– Ныне малость и отдохнем! Государь пока младехонек, войны не учнет. Лисичку где на охоте пымает – и рад! Да и Верховный совет тайный, слава те господи, к миру склонен…
А напившись тройной перцовой (которая горит – свечку поднеси), рвали на себе мундиры жиденького суконца, рубили шпагами по тарелкам, плакались горько и себя жалели:
– Мало, што ли, погибло да потопло нашего корени – дворянского? На што нам Питерсбурх да галеры мокрые? Не нанимались в каторгу, чтобы грести по морю веслами… Виват шляхетство!
И правда, Петр II от моря Балтийского отъехал подалее. Как явился в Москву на коронацию, так и остался в покоях дворца Лефортовского, на слободе Немецкой; в уши ему дудели бояре:
– Вот, осударь, Москва-матушка – куды-ы там до нее Питеру, что на болотах ставлен. Тамо-тко и дух гнилой, чухонский. И дичи той нету, а у нас – эвон: из окна стебай лебедя любого – еще десять летит к тебе, чтобы вашему величеству угодить…
Царь-отрок на Москве прижился и закапризничал:
– Что это умники, словно гуси лапчатые, о водах Балтийских пекутся? Не хочу плавать флотски, как дедушка! Велите на площадях указ мой под барабан бить: чтобы под страхом наказанья свирепого не болтать никому – вернусь в Питерсбурх или нет! Мое то дело, государево: где желаю, там и живу…
Кляня русские порядки и бездорожье, кутаясь в меха и одеяла, иноземные посольства тоже потянулись в Москву. Поближе к интригам двора, к теплым печам московского боярства, к варварской музыке бестолковых куртагов, к широкоплечим русским красавицам.
Петербург опустел. Замело сугробами едва намеченные першпективы. От Невского монастыря да с чухонской Охты забегали прямо в «парадиз» волки и выедали из будок сторожевых собачек. Иногда рвали в клочья и запоздалого путника. Флот получил из Москвы грозный приказ: «Далеко не плавать!»
В один из дней москвичи проснулись от грохота. По кривым проулкам, дребезжа станками, тянулся громыхающий обоз. Это переехал в Москву и Монетный двор. Где власть – там и деньги. А следом за станками ехали великие возы с великими бочками. Везли в этих бочках не рыбу – везли архивы Двенадцати коллегий. Без бумаг, как и без денег, не стало житья русскому человеку.
…
Петру II было тогда всего четырнадцать лет. Дядькою при нем состоял князь Алексей Григорьевич Долгорукий, а воспитание царя-отрока было поручено вице-канцлеру – барону Андрею Ивановичу Остерману, который иногда прокрадывался в двери императора.
– Ваше величество, не пора ли нам занятия продолжить?
Но барона силком выталкивал прочь дядька царя.
– Ступай с богом, Андрей Иваныч, – говорил Долгорукий. – Кака там учеба? Каки еще занятия? Вчера только пороша выпала… Собаки с вечера кормлены… по первопутку волка травить едем!