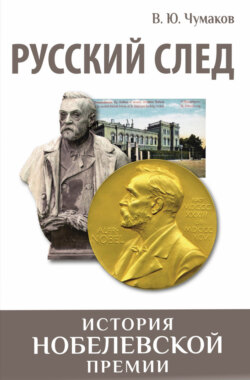Читать книгу Русский след. История Нобелевской премии - Валерий Чумаков, Калина Яркина, Ольга Подгорная - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть первая. Нобели. Знаменитая фамилия
Глава 1. Мины для русского императора
Война-кормилица
ОглавлениеФормальным поводом для начала Крымской войны была защита православного населения Балкан от притеснений со стороны мусульманской Османской империи.
Частично это было верно: христианское население Турции, составлявшее тогда 5,6 миллиона человек, притеснялось нещадно и постоянно взывало к русскому царю о защите. В 1852 году, когда взбунтовалась Черногория, восстание было подавлено с чрезвычайной жестокостью и, конечно, Россия не могла на это не отреагировать. Промолчать означало признать силу южного соседа, признать его право творить на своей территории все, что угодно, не обращая внимания на то, как к этому относятся другие государства. Царь Николай такого права за турецким султаном признать не мог.
Как бы там ни было, в 1853 году Николай I ввел русские войска на территорию Молдавии и Валахии[11]. Россия бросила в бой более 700 000 солдат, и, конечно, Турция с ее 165 000 бойцов устоять против столь могучего натиска не смогла бы… Если бы ее не поддержали 250 000 англичан и 310 000 французов.
Великобритания, которую укрепление России очень волновало, но повода открыто выступить против русского царя не имела, только и ждала «русской провокации». Франция хоть и не имела особых претензий к северной империи, тем не менее Наполеон III страстно желал поквитаться за поражение его дядюшки в 1812 году и сразу вошел в коалицию с Турцией и Великобританией. Кроме того, их поддержали королевство Сардиния с 20 000 солдат, слабая и раздробленная тогда Германия с 4250 бойцами и швейцарская бригада с 2200 воинами. По живой силе соотношение получалось 700 000 россиян и болгар против примерно 750 000 воинов антирусской коалиции. Для войны такой противовес незначителен, и можно сказать, что живые силы были примерно равны. А вот неживые…
Техническое отставание России от врагов было просто катастрофическим. Даже турецкая армия оснащена была значительно лучше российской. Большинство военных специалистов того времени сходилось во мнении, что империи нельзя было вступать в войну, зная (а это было понятно всем), что к ней подключатся, и отнюдь не на нашей стороне, крупные европейские государства.
Еще в конце 1840-х годов англичане и французы пере вели своих пехотинцев на нарезное оружие с прицельной дальностью стрельбы 900–1200 метров. Около 30 процентов французских солдат и более половины англичан были вооружены именно винтовками. В России же 95 процентов пехотинцев имели заряжавшиеся со ствола гладкоствольные ружья с прицельной дальностью около 200 метров. Мало того, на обучение рядовых российских стрелков выделялось всего 10 патронов в год. Дальность стрельбы русской полевой артиллерии была около 600 метров, соответственно, наши огневые точки легко подавлялись обычным стрелковым оружием противника.
С флотом, имевшим в ту компанию даже большее значение, чем армия, все обстояло еще хуже. Даже по численности судов Россия уступала как Англии, так и Франции.
Большую часть нашего флота составляли деревянные парусники, которые, при всей своей красоте, никак не могли тягаться со страшными французскими железны ми броненосцами, называвшимися тогда «бронированными плавучими батареями». На пару ходило чуть больше 5 процентов российских военных судов, да и среди них винтовые составляли крайне незначительную часть, в основном это были колесные пароходофрегаты. У французов же, напротив, на 25 линейных кораблей и 38 фрегатов приходилось 108 паровых судов, большей частью винтовых. Из 200 английских судов 115 были паровыми. Даже у турок на 13 военных линейных кораблей и фрегатов приходилось 17 военных пароходов.
Несложно догадаться, насколько к месту тогда оказались плавучие мины Нобеля. Эммануил охотно подключился к военной кампании, несмотря на то, что таким образом он фактически воевал против своей родины, ибо она, хоть и не участвовала непосредственно в боевых действиях, тем не менее была на стороне Турции.
Британия обещала Швеции за лояльность, в случае поражения России, вернуть ей отобранные территории Финляндии. Государственный заказ на изготовление 400 легких подводных мин по 100 рублей за штуку поступил на завод Нобеля уже в начале 1854 года от только что созданного «Комитета о минах». Если бы это было сделано раньше и ими успели бы защитить бухту Севастополя, возможно, не пришлось бы топить в сентябре 1854-го на ее входе пять русских линейных кораблей и два фрегата, чтобы заблокировать проход в бухту для английских кораблей. Зато нобелевскими минами, которых было изготовлено и установлено 940 штук, был защищен Кронштадт.
Установкой мин руководил лично Эммануил вместе со старшим сыном Робертом. Тут же были установлены и значительно более массивные и мощные «гальванические» мины Якоби, но, поскольку они не были оснащены контактными взрывателями, а срабатывали после того, как береговой оператор-наблюдатель подавал на них по подводным проводам электрический сигнал, заякорены они были близко к берегу. Нобелевские же «сюрпризы» поджидали корабли неприятеля значительно дальше.
Вскоре на мине подорвался разведывательный корабль англо-французской эскадры. Командовавший балтийской эскадрой коалиции сэр Чарльз Нейпир приказал выяснить природу минного заграждения. Следующему разведчику удалось выловить одну из мин, и она взорвалась уже на борту. После этого ни один из вражеских кораблей не рисковал подходить близко к базе северного флота России, а сам Нейпир доложил руководству, что «любое нападение на Кронштадт силами флота абсолютно невозможно».
Постановка мин Нобеля под Кронштадтом, с акварели Э. Нобеля
В 1855 году на поставленных далеко от берега легких минах Нобеля подорвались четыре английских судна: пароходофрегат Merlin и пароходы Firefly, Volture и Bulldog. Минный успех так воодушевил царское правительство, что оно тут же, по горячим следам, подписало с Нобелем еще один контракт на 116 000 рублей. По нему Эммануил изготовил 260 мин для защиты подступов к Або и 900 – для Свеаборга. Мины были ешевые, тонкостенные, порох в них, которого и так было всего 4 килограмма, частенько промокал и терял свою взрывоопасность, но их было так много, что адмирал Нейпир категорически отказался атаковать защищенные минами города.
При этом отнюдь не все в России были довольны минами Нобеля. 21-го ноября 1855 года, когда Балтийская кампания уже завершилась, адмирал Литке писал в секретном докладе военному министру князю Долгорукову: «В настоящем их виде мины Нобеля не заслуживают никакого доверия. Если бы предвиделась необходимость употребить их в будущем году опять, то необходимо прежде всего устранить все замеченные в них недостатки. От самого Нобеля нельзя ожидать усовершенствования его мины, ибо он не принимает ничьих советов. И сверх того, почитая эту мину как бы своею собственностью и своим секретом (без всякого, впрочем, основания) и делая из нее торговую спекуляцию, он по возможности устраняет всякий контроль со стороны правительства по этой операции, которую по сим причинам не следовало бы, кажется, на будущее время поручать господину Нобелю».
Работая в самом что ни на есть напряженном военном графике, Нобель не упускал возможности для импровизаций. 18 января 1854 года он подал в «Комитет о минах» записку, в которой предлагал производить «летучие мины для нападения на неприятельский флот», которые должны были «летать по поверхности воды в данном им направлении и при ударе в бок корабля… подбить его». Для наиболее эффективного применения этих «летучих мин» он предлагал строить особые пароходы (аналоги современных торпедоносцев). Чтобы увеличить эффективность мины не меняя конструкции, Эммануил предлагал начинить ее более мощным веществом. Например, совсем недавно синтезированным нитроглицерином. Тем самым, с производством которого Альфред Нобель ознакомился в лаборатории Пелуза и о котором он хорошо знал от также много им занимавшегося профессора Зинина. Однако нитроглицерин был весьма прихотлив в обращении и чрезвычайно опасен, а времени на эксперименты даже у такого трудоголика, каким был Эммануил Нобель, тогда уже не было.
Пока старший брат Роберт вместе с отцом занимался минами, контроль над другими военными заказами был возложен на Людвига. Самые крупные относились как раз к переоснащению флота и к переводу его на паровую тягу. В декабре 1853 года Людвиг Нобель, по доверенности отца, подписал с Морским министерством контракт на изготовление трех паровых машин с гребным винтом для 84-пушечных линейных кораблей «Гангут», «Ретвизан» и «Вола». Сумма контракта составила 592 580 рублей.
Это был самый крупный по тем временам частный контракт. Людвиг подключил к работе Альфреда: он был вновь отправлен в США, чтобы на месте ознакомиться с самыми современными технологиями парового судостроения. Там ему удалось познакомиться с самим Джоном Эриксоном, изобретателем первого паровика с подводным двигателем, первого миноносца и одним из тогдашних гуру военного судостроения. Джон, как и Эммануил, был выходцем из Швеции, приехавшим в США в 1839 году, поэтому он нашел в Альфреде родственную душу и мигом разболтал ему все американские военные судостроительные секреты. Которые братья Нобель не преминули оперативно внедрить на российском производстве.
Внедрение прошло успешно, и после сдачи первого заказа на паровые агрегаты завод получил новые заказы. Паровыми установками Нобелей были оборудованы корветы «Волк» и «Вепрь». Кроме того, за время войны нобелевское предприятие поставило для правительства еще 11 паровых агрегатов мощностью от 200 до 500 лошадиных сил.
Казалось бы, война и военные заказы должны были сделать предприятие Нобеля еще более сильным. Но изобретателя вновь подвела неукротимая натура, жажда денег и полное отсутствие финансового чутья. Набирая новые заказы, Эммануил под них расширял производство и брал кредиты в надежде на последующую щедрую царскую оплату. Давая таким образом в долг фактическому банкроту, каким постепенно, но довольно быстро становилась Российская империя. Мысль о том, что у государства может просто не оказаться денег, чтобы расплатиться по обязательствам, у Нобеля даже не возникала.
В 1856 году Крымская военная кампания завершилась полным поражением России и позорным Парижским миром.
По нему Россия отдавала туркам захваченный город Карс вместе с крепостью, российские границы отодвигались от Дуная в глубь страны, часть русской Бессарабии переходила к Молдавии. России (впрочем, как и Турции) запрещалось иметь в Черном море военный флот, у нее отнималось данное мирным договором 1774 года право протектората над Молдавией и Валахией и покровительства над христианами Османской империи, а также она отказывалась от планов по возведению на Аландских островах военных укреплений.
За время военных действий в стране сменилась власть.
В 1855 году умер император Николай I. По одним данным, его убило скоротечное воспаление легких, по другим – он сам отравился, предчувствуя поражение в войне. Трон занял его сын, Александр II.
На войну Россия потратила более 800 миллионов руб лей. Чтобы покрыть бюджетный дефицит, денежный печатный станок во время кампании работал без остановки, что привело к более чем двукратному обесцениванию рубля, считавшегося до того довольно крепкой валютой. Справиться с дефицитом бюджета удалось лишь к 1870 году, а восстановить стабильность национальной валюты и того позже – к 1897 году.
А пока новая власть просто отказалась отвечать по долгам власти старой, оплата заказов, которые уже выполнил завод Нобеля, была на долгое время заморожена. По каким-то договорам было обещано расплатиться в течение буквально 10–15 лет, причем без всякого учета инфляции, а по оставшимся в какой-либо компенсации было вообще отказано. Контракты, которые Эммануил полагал наиболее выигрышными, оказались наиболее убийственными, почти смертельными. Кроме того, по секретным приложениям к мирному договору, Россия обязывалась отныне размещать крупные военные заказы за границей.
Пытаясь выправить положение, Эммануил перевел завод на мирные рельсы. Теперь главные силы Нобелей были брошены на постройку пароходов, технологии производства которых были наилучшим образом отработаны за время войны. За короткое время их удалось спустить на воду более полусотни. Но гибнущий под грузом огромных долгов завод это не спасло. Пытаясь рассчитаться с наседавшими (теперь уже преимущественно российскими) кредиторами, Эммануил отправил Альфреда, как самого экономически продвинутого члена семьи, в Лондон и Париж – на поиски богатых западных инвесторов. Но на Западе мало кто верил в скорое возрождение российской экономики, и денег не давали.
В 1859 году почти шестидесятилетний Эммануил Нобель вынужден был во второй раз в жизни признать себя банкротом, только теперь – российским. Взяв с собой любимую жену Андриетту и младшего сына Эмиля, он отправился обратно в Стокгольм. Роберт, Людвиг и Альфред остались в России.
11
Валахия – историческая область на юге Румынии.