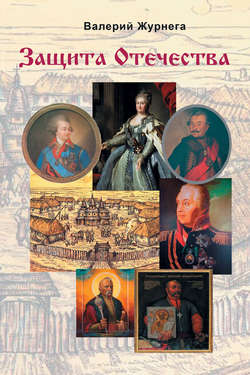Читать книгу Защита Отечества - Валерий Журнега - Страница 3
Дорога в отечество
ОглавлениеСерые, скупо сыпавшие снежную крупу на Петербург грозовые тучи дрогнули от резкого натиска северного ветра. Небесная твердь над могущественным градом Империи, наконец, очистилась, и к полудню чистые лучи низкого, ослепительно яркого солнышка разожгли славный огонь золочёных куполов православных церквей. К вечеру раскаленное светило обычно беспощадно сжигало на западе причудливую форму снегового облака, но сила жара алого пожарища вряд ли могла сегодня противостоять крепчающему с каждым днём морозцу. Поэтому все с нетерпением ожидали настоящего снега и серьёзно готовили сани.
Вечернюю молитву Императрица Руси Екатерина Алексеевна совершала в маленькой часовне в полном одиночестве. Особенно усердно молилась она перед чудотворной иконой Георгия Победоносца. Это отнимало у неё много сил. В покои свои государыня возвращалась растрёпанной и совершенно уставшей. Полученное небесное удовлетворение всегда придавало её внешнему виду нескрываемые чёрточки скорби, но непреклонная воля, видимая во властном её взгляде, оставляла за ней образ умной и расчётливой земной властительницы.
В рабочем кабинете государыни было тепло и уютно. В камине напротив письменного стола, громко потрескивая, пылали жарким огнём берёзовые поленья. Екатерина Алексеевна подошла к зеркалу и застыла, внимательно изучая своё отражение. После тяжёлого вздоха она удовлетворённо произнесла вслух:
– Дщерь Петрова…
В тот же миг ледяной ветерок пробежал по её спине. Государыня оцепенела, сжав до хруста в пальцах своих концы шерстяной шали. Через мгновение дух Великого Петра вероломно втиснулся в её испугавшееся сердце. Ещё через миг нежное тепло благодати приятно растеклось по всему телу. Болезненное чувство беспричинной тревоги покинуло согретое сердце Великой Государыни. В успокоившейся душе заиграла лёгкая мелодия. В груди сразу стало легко и просто.
Расположившись поудобнее в кресле, воспрянувшая и помолодевшая, самодержавная царица взяла в руки перо и, нисколько не усомнившись в остроте его, решительно отодвинув в сторону прошение Светлейшего князя о запорожских казаках, принялась писать ответное письмо Мари Франсуа Вольтеру.
После лютой зимы весна в урочище Красный Кут пришла в сей год относительно рано. После ошалелого схода льда на реке Подпильной зимушка-зима вдруг опомнилась. Теперь круглый день в округе стоял густой туман, а ясные звёздные ночи заканчивались заморозками. Дичь дружной ватагой тянулась на родину с юга; к ней, в сумеречные плавни, неудержимо бежала домашняя водоплавающая птица. Проснувшаяся рыба вяло шла нереститься на отмель. Разбухшие почки на деревьях распускаться пока ещё явно не торопились. Видя такую кутерьму в природе, расчётливый крестьянин сыпать зерно в студеную землицу не спешил. Сечевики с нетерпением ожидали силу живительного солнца.
Ещё жив был в сердцах состарившегося во времени поколения запорожских казаков Манифест Петра Великого. Не простил российский самодержец измены сечевикам и после победы над шведами стёр Сечь с лица земли днепровской. Только после смерти Императора смогли покаявшиеся в грехах малороссы на реке Подпильной создать вновь своё демократическое и свободное товарищество. Но недолго жили в покорности запорожцы да расшалились не на шутку. Позабыв про завет и устав, попирать стали российские законы, чем вызвали гнев Императрицы Российской Екатерины Второй. Теперь ждать милости от московской власти не приходилось, поэтому прибытие в Новосеченский ретраншемент двух рот егерей с артиллерией принесло вместе с собой неминуемый знак беды для всей малороссийской общины. Сразу же забурлила боевым духом не имеющая в Сечи «ни кола ни двора» сирома и основательно принялась готовиться к защите и обороне обнесённой дубовым частоколом родной земли. Привязанный прочно к землице семейный малороссийский казак-землепашец ввязываться в кровавую драму вовсе не собирался и больше богател думкой будущего урожая. Благоразумное духовенство раздор между православными братьями не поддерживало и милостью Господней склоняло товарищество к покаянию. Скрывающиеся от правосудия люди, остро почувствовав себя здесь лишними, укрывались с глаз долой в непроходимые плавни. Неопределённость играла крайними эмоциями, отчего истинная любовь упёртых хохлов друг к другу скоро оборачивалась в ненависть. Правда, целительное время охлаждало пыл раздора, и спасительная надежда на «авось» в который раз сплачивала обособленных вояк в единокровное грозное запорожское войско.
Антон Головатый нисколько не сомневался в решительности самодержавной власти. Заручившись поддержкой Василия Ивановича Попова, он терпеливо обивал пороги Потёмкинской канцелярии, кротко ожидая милости Светлейшего князя. Сочинённая наспех просьба не произвела впечатления на «вице-короля юга». В приступе бешенства разлетелись в разные стороны в клочья изорванные листы челобитной. Брызжа слюной в лицо поникшего казака, Григорий Александрович Потёмкин гневно предопределил неизбежную судьбу Запорожской Сечи.
– Не можно вам оставаться, крепко вы расшалились!
Генерал-поручик Пётр Текели был срочно вызван в ставку Светлейшего князя. В назначенный час Потёмкина в своей резиденции не оказалось. В казённой светлице по случаю отсутствия хозяина осмелевшая разночинная публика ровно дышала, вполголоса сыпала остроты, беззастенчиво сплетничала. Не успел генерал внимательно разглядеть лица всех присутствующих, как ко дворцу лихо подкатила запряжённая шестёркой великолепных лошадок парадная карета Светлейшего князя. Народец в приёмной замер, а когда в неё заглянул сам одноглазый медведь, то и вовсе растерялся. Озорное настроение правило духом «вице-короля юга». Заприметив в толпе командующего войсками Новороссийской губернии, Потёмкин живо ввалился в просторную залу и бесцеремонно затолкал смутившегося генерала Текели в свой кабинет. Вслед за ними, плотно закрыв двери, вошёл Василий Попов с заранее приготовленными документами.
– Мною получен высочайшей важности указ, – глядя в окно, сразу приступил к делу Потёмкин. – Её Величество Государыня Российская не желает более терпеть у себя за спиной осиное гнездо разбойников и проходимцев.
Привыкший выполнять приказы, опытный вояка никак не мог взять в толк, куда клонит Светлейший. Потёмкин, подчеркивая интонацией голоса ударения в словах, стоя спиной к генералу, уверенно озвучивал давно уже определённую государственную волю.
– Матушка-императрица очень просит обойтись без великой крови. Вам, милейший генерал, велено срыть Запорожскую Сечь с лица земли по примеру Петра Великого. Жалуй, Пётр Аврамович, покорившегося казака вольной, противящемуся – крепко воздай. Кошевого атамана Калнышевского в кандалы, пусть сам ответ перед Государыней держит. Езжай немедля. Корпус генерала Прозоровского в полном твоём распоряжении.
На века осваивались земли вокруг северной столицы. Некогда гиблые места быстро преображались ударными трудами колонистов, и даже суровый климат здешней земли не мог сдержать на месте рвущегося вперёд прогресса. Императорский возок время от времени прокатывался по вновь проложенным дорогам. Неудержимо стремящаяся вдаль и вширь российская цивилизация умиляла хозяйское око самодержавной царицы. Удовлетворённая верным ходом великих дел державы, довольная собой государыня останавливалась где-нибудь в диком ещё местечке. Несравнимый ни с чем живительный аромат природы приносил удовольствие. Неземная радость яркого богатства жизни нежила душу. Гармония единства крови и плоти рождала в российской государыне поэта. Лёгкие, правильные мысли, напрочь лишённые болезненного воображения, несли трепещущему сердцу Екатерины живую рифму из нужных слов. В такие минуты настоящего творчества её разум постигал истину бытия, отчего ей самой, растроганной таинствами, становилось немножко жутковато. Сквозь растворённые настежь двери походного кабинета императорского возка, уединившегося на небольшой поляне, залетела в гости к царице мохнатая пчела. Слабая, ещё как следует не проснувшаяся от долгой зимней спячки, она, громко жужжа, очертила в воздухе над головой растерявшей все творческие мысли самодержицы неполный круг, плюхнулась на только что выдвинутую Екатериной Второй столешницу миниатюрного письменного столика из белой акации с чистым листом бумаги на ней. И теперь беспомощно барахталась на нём, пытаясь во что бы то ни стало перевернуться со спины на перепачканные липкой пыльцой лапки.
– Хорошо хоть, «ваше сладкое величество» в чернильницу не угодили, – раздражённо произнесла Екатерина Алексеевна, решительно отшвырнув обратным кончиком пера беспомощное насекомое в сторону.
Поморщилась, глядя на оставшийся на белом листе бумаги жёлтый след от пыльцы. Нервно схватила испорченный лист в руки, яростно скомкала его, бросив тугой комочек в корзину для мусора под столом. Подскочила на ноги и, чтобы не вывалиться наружу, крепко вцепившись руками в поручни внутри кареты, осторожно выглянула на улицу. Конюх Тимофей нежно поглаживал морду серой в белых яблоках кобылы, скармливая своей любимице с ладони заранее припасённое лакомство. Эскорта солдат рядом видно не было. Вдохнув побольше свежего воздуха, Императрица немного успокоилась. Растерянные мысли вновь начали возвращаться в её голову. Она вернулась на место. Устроилась в кресле поудобнее. Взяла из стопки справа от себя чистый лист бумаги. Обмакнула перо в чернила и, довольная тем, что мысли вернулись к ней обратно, принялась с более ярким вдохновением сочинять ответ на целых три письма Мари Франсуа Вольтера.
«Милостивый государь», – традиционно написала она, но опять по непонятной причине отвлеклась взглядом на близкий лес, затем на замазанную липкой пыльцой кротко замершую на ворсе ковра пола кареты пчелу. Неприятно отразился в её глазах корявый след колеса, серьёзно поранивший зеленый ковёр травы, и жёлтый цветок одуванчика, разбитый копытом лошади. Изгоняя прочь смущение и растерянность, сосредоточившись на силе своей логики, Екатерина Вторая принялась-таки излагать на листе бумаги готовый давным-давно в голове ответ.
«Вы просите меня изменить наш русский климат к лучшему, но сделать что-либо существенное я не умею. Петр Великий хотел выстроить столицу Империи в Таганроге, но обстоятельства заставили сотворить её на Балтике. Да, несомненно, мы проиграли в климате, но в остальном значительно преуспели.
Вы не знаете, как я отношусь к вам, поэтому ваше решение отнести меня к небесным светилам ни к чему, кроме как к смущению, меня не привело. Прошу вас, оставьте меня на земле, по крайней мере, я буду получать ваши письма и письма ваших друзей.
Удовлетворяю вашу любезность насчёт Пугачёва»…
Здесь она, захваченная неловкостью, оторвала перо от бумаги, но пересиливая себя, налегла на перо вновь:
«Хотя он не знал, как писать и читать, но как человек был крайне смел и решителен. До сих пор нет ни малейших данных предположить, что он был орудием какой-либо державы. Приходится предположить, что Пугачёв был сам хозяин-разбойник, а не лакей какой-нибудь живой души. После Тамерлана едва найдётся кто-либо другой, кто более истребил рода человеческого. Рассуждения его могли казаться правильными, и я могла простить его, если бы содеянное им оскорбляло меня одну, но дело это остро затрагивает государство, у которого свои законы».
Екатерина Вторая отложила перо, внимательно прочитала всё только что написанное и, довольная собой, оставила всё как есть. Отдохнувшая пчела взлетела с покрытого ковром пола и, не обращая внимания на занятую творчеством царицу, легко поднялась к потолку кареты, забилась там глубоко в щель. Птицы в округе угомонились. С чёрно-серых туч низкого неба брызнул мелкий дождик. Сразу стало сыро и зябко. Екатерина Вторая закрыла дверцу кареты. Резко дёрнула шёлковую верёвочку колокольчика. Тимофей, покачнув карету, вскочил на облучок. Хлопнул кнутом в воздухе, озорно выкрикнув:
– Пошли, родимые!
Карета резко дернулась и, управляемая опытным возницей, быстро выкатилась на дорогу. Резвые кони понесли царский возок в сторону Санкт-Петербурга.
В штабном шатре командующего стотысячным войском генерал-поручика Александра Прозоровского царил боевой дух, оставшийся ещё с турецкого фронта. Закалённые в жестоких боях с неприятелем бравые русские офицеры, терпеливо решая формальности, спокойно принимали приказы от командования, и после разрешения их непреклонно выполнять, не создавая напрасной сутолоки, проворно исчезали с глаз долой. Когда с делом государственной важности было, в общем, покончено, довольный собой князь Прозоровский предложил генерал-поручику Текели разогретого с травами и мёдом красного вина. Оставшись, наконец, вдвоём, русские генералы, удобно расположившись в креслах друг против друга, с нескрываемым удовольствием молча потягивали доброе винцо. Генерал-поручик Прозоровский время от времени с нескрываемым любопытством разглядывал Петра Текели, внешний вид которого желал быть лучше. Вино вернуло к жизни разрумянившиеся щёки, но всё остальное у гостя от горьких мыслей оставалось несчастным и неизлечимо больным. Тёмные круги под глазами выдавали непрекращающееся в нём нервное возбуждение, и даже чудодейственный эликсир не принёс ему столь желаемого сейчас облегчения. Карательная миссия не очень нравилась Петру Аврамовичу, а имя кровожадного палача не совмещалось в его сердце с достоинством русского боевого генерала.
– Ваше превосходительство, – первым вступил в разговор истерзанный затянувшимся молчанием генерал-поручик Текели.
– Да будет вам, Пётр Аврамович! Обстановка у меня здесь домашняя, надоела до тоски-кручинушки военщина, сердце просит простоты и уюта, – дружески отмахнулся от этикета князь Прозоровский, понимая всю серьёзность внутренней хвори боевого генерала.
Невольно подчиняясь приятельскому расположению духа князя Прозоровского, гоня прочь нерешительность, генерал-поручик Текели, тщательно подбирая нужные слова, принялся излагать свои давно наболевшие мысли приготовившемуся слушать собеседнику.
– Александр Александрович, Светлейший князь Григорий Потёмкин возложил на меня нешуточное поручение, исходящее прежде из уст матушки-государыни. Дурное чувство гложет мою душу. Не по-христиански как-то над головами хохлов мечом махать.
Князь генерал-поручик Прозоровский не был жалован Светлейшим князем Григорием Потёмкиным, но был основательно согрет горячим доверием российской самодержицы. Поэтому, обладая трезвым умом и ясной самооценкой всего происходящего в России, имел на всё своё личное проницательное суждение, с которым многим современникам приходилось считаться.
– Дорогой мой, не изводитесь зря. Ещё в апреле, в докладе правительству, Потёмкин бесповоротно решил судьбу сечевиков. Вас же, дорогой мой, послали не рубить православные кресты, а донести непокорному товариществу единый закон российский. «Греческий проект» здравствует в умелых руках Светлейшего князя и, поверьте мне, изведёт на скорую смерть турок, а с непокорными «хохлами» российская власть, как с Емелькой, непременно расправится. Мне бы ваши заботы, Пётр Аврамович. Я вчера барону Розену двадцать рублей в карты спустил. Фарт подчиняться мне перестал. Сегодня жажда отмщения рубликов на пятьдесят ему встанет. Поверьте моему слову, дорогой, и непременно приходите вечером в собрание. Нынче там шумно будет, – заметно прихрамывая на левую ногу, будущий фельдмаршал, не прощаясь, удалился.
Оставшись один, приняв, как успокоительное снадобье, убедительные доводы князя Прозоровского, генерал-поручик Текели склонился над полевой картой. Запорожская Сечь выглядела на ней неправильным многоугольником, размером чуть больше сорока тысяч квадратных саженей. За рекой Подпильной с востока её надёжно прикрывали «великие плавни». Многочисленные ерики выводили на реку Сандальку, а там рукой подать до Днепра. Казаки, бесспорно, обладали выгодой манёвра. Слева – высокие валы с пушками крупного калибра Новосеченского ретраншемента выгодно возвышались над спрятавшейся за глубоким рвом и дубовым частоколом Сечи. Скрытое передвижение царского войска в отдалённые места и местечки вызывало болезненную улыбку. Остро понимая, что дороги назад нет, помня строгое указание Императрицы провести операцию «спокойно и без крови», подчиняясь приказу, генерал Текели уповал на волю Божию и свою военную хитрость.
Густое молоко тумана растворилось, наконец, в воздухе, оставив после себя на траве крупную росу. От изобилия тепла и яркого света распустились всякого рода деревья. Особенно пышно зацвела нынче липа. За сладким взятком нескончаемо спешили со всех сторон в липовую рощу пчёлы. К Спасу мёд обещал быть ароматным.
Царская гвардия смело приближалась. Уже никто не сомневался в решительности мер Её Императорского Величества. Потревоженное смелым маршем доблестного русского войска разноликое зверьё отовсюду бежало к частоколу Запорожской Сечи. Слухи ходили разные, отчего с каждым прожитым днём единство между товарищами пропадало. Вместо того чтобы покаяться в своих грехах, самостийное казачье войско раскололось на две непримиримые части, но понимая, что ждать хорошего в создавшейся ситуации от московской власти было бы глупо, все вместе старались половчее использовать оставшееся время в свою пользу.
Кошевой атаман Пётр Иванович Калнышевский и священник отец Серафим вышли к Запорожскому войску, собравшемуся на площади внутреннего Коша возле деревянной Покровской церкви. Несмотря на свои восемьдесят лет жизни, кошевой атаман сечевиков выглядел молодцевато. Серое лицо не поддающегося годам кошевого атамана хранило в это непростое утро не печать сомнительного порока, а нервное переживание дурных мыслей, свалившихся на его седую голову в последнее время. С особенной любовью поправив на груди золотую медаль, восхитительно поблескивающую чистой воды брильянтами, Кошевой атаман тяжёлым взглядом смерил своё грозное войско, в необузданности которого уже более не сомневался. Уверенной рукой подал знак, и галдёж среди крайне возбуждённого воинства мигом прекратился.
– Товарищи мои верные! – стараясь произвести неизгладимое впечатление, произнёс уверенный в своей власти Калнышевский. – Пришло вновь на нашу многострадальную днепровскую землю время страшного суда. Однажды великий «Байда» сплотил нас всех здесь, на берегах священного Днепра в единое непобедимое войско. Поныне жив между нас неписаный закон, по которому защита народа для казака есть правое дело. Но сегодня мы напрочь забыли, чьё подданство наш православный народ носит. Прошу вас, товарищи верные мои, покориться государыне Екатерине Алексеевне, ибо смирение есть сегодня наше верное лекарство.
Не желая далее слушать кошевого атамана, недовольные казаки громко воспротивились. От недоверия товарищей кошевой атаман обидно скривился. Громкие слова никак не действовали сегодня на запорожских казаков. Замах московского самодержавия на сформировавшийся за многие десятки лет уклад жизни свободолюбивого казачества расценивался последними никак не меньше, чем предательство. Пропасть между разошедшимися во взглядах братьями по оружию после очередного постановления Рады становилась глубже и опаснее. Болезненная гордыня пьянила буйные головы бесстрашных вояк. Крепкая горилка не приносила веселья в их сердца, а данная им от природы национальная упёртость делала днепровских хохлов и вовсе неуправляемыми. Поэтому они назло зажравшимся москалям ратовали только за переселение всего товарищества на Дунай. Уговаривать набыченных бунтарей становилось уже делом безнадёжным и оборачивалось для потерявшего управление над толпой кошевого атамана личным унижением. Он стоял молча, опустив безвольно плечи, время от времени поворачивая голову навстречу горластым крикунам, которые, вконец осмелев, уже беззастенчиво оскорбляли его, не боясь последствий. Чтобы прекратить срамное посмешище над кошевым атаманом, отец Серафим поднял вверх руку. Внешне он смотрелся неважно. Бесконечные посты иссушили плоть праведника настолько, что даже свободная ряса не могла скрыть его костлявые мощи. Грозно замахнулся на непокорных товарищей клюкой, которая в этот миг выглядела намного страшнее острой сабли кошевого атамана. Толпа, подчиняясь воле божьего человека, сразу замолкла. Многие, вдруг осознав непристойность своего поведения, кротко уткнувшись глазами в землю, уже сожалели наперёд о своём малодушии.
– Братья! – сверкая широко открытыми глазищами, властным голосом возопил к притихшей толпе отец Серафим. – Опомнитесь! Как вы могли усомниться в славе Господней на остриях ваших сабель! Вы, несгибаемые православные рыцари, презревшие смерть, избравшие Всевышнего прибежищем своим! Вы, истинные слуги Господни, страждущие только Царствия Небесного для себя и своих близких! Сегодня многие из Вас лишь разбойники с большой дороги, променявшие священное дело свободы на сомнительное ремесло, за которое бес расплачивается с вами проклятыми иудиными медяками. Вы слепцы, примкнувшие к изменнику Мазепе! В блудливом Емельке признали для себя «царя». За ваши мерзости ваши горячо любимые жёны будут вечно рожать «христопродавцев». От грехов сгинет род казачий с земли, и наш малороссийский народ, осквернённый и униженный вашей дьявольской похотью, навсегда увязнет в рабстве басурманском. Все, кто сегодня искренне покается и изберёт для себя искус, айда со мной на берега Кубани. Старообрядцы и некрасовцы приютят нас там в первое время. Одному же Богу служим. Укротите выю, доверьтесь, глупцы, Господу, и воздано вам будет через очищение в новых богатых землях великое благо!
Жуткая тишина возникла среди пристыженного войска. Многие серьёзно задумались. Стыд охватил усомнившихся в правом деле казаков. Дух искренности щедро пролил свет на лица уверовавших, удесятеряя их силы. Непримиримые погрязли злобой во тьму. Собравшись в стаю, по-волчьи озираясь, страшились они сейчас Суда Господня.
Ударили барабаны, заставив содрогнуться сердца взволнованных сечевиков. Первым уверенно подошёл к Знамени Запорожского Войска Никита Скиба, совсем недавно оправившийся от басурманских ран. Славный казак преклонил колено перед священным стягом и решительно поцеловал полотнище. За ним шустро последовал стриженый под скобку ладный хлопчик Андрийка Бульбанюк, сын погибшего на турецкой войне старшего урядника Тараса Митрофановича Бульбанюка. Мать Андрийки, после гибели мужа подбросив сына в семью своей сестры, сбежала из Сечи вместе с вышедшим в отставку русским фейерверкером. Приёмная семья в это смутное время приняла решение уходить на Дунай. Детский ум Андрийки воспротивился этому бегству на чужбину, и он тайно сбежал из двинувшейся в дорогу семьи и вернулся в родную Сечь. Вслед за ними к знамени без сомнения пошли все те, кто совесть свою перед Господом и товарищами посчитал незапятнанной.
Тонкая стратегия генерал-поручика Текели против Запорожского Войска сводилась к силовому выдавливанию непокорных хохлов с насиженных мест. Ослушаться непреклонной воли Императрицы генерал-поручик никак не мог, но и первым открывать огонь по запорожским казакам не собирался. Ничем не оправданная резня, в его понимании сложившегося момента, влекла за собой море православной крови. Пётр Аврамович не без основания опасался, что коварные воины Запорожской Сечи, разбившись на мелкие отряды, умно используя дерзкий маневр на родной земле, решительно поведут против царской армии затяжную партизанскую войну. Недооценивать боевое искусство опытных в ратном деле товарищей было смерти подобно. Поэтому попавшихся на пути лазутчиков принимали в гости с радостью. Щедро поили и кормили до отвала и, пояснив своё истинное намерение, отпускали на все четыре стороны. Российское войско, совсем ещё недавно героически громившее ненавистных турок, медленно, но верно продвигалось вперёд, не встречая на пути своём заслона, и этот фактор радовал генерал-поручика.
На Троицу, четвёртого июня тысяча семьсот семьдесят пятого года, когда на востоке в тиши тёплой летней ночи нежно забрезжил рассвет, передовые русские отряды с ходу, малой силой предприняли разведывательную вылазку в Запорожскую Сечь. Решительность Григория Потёмкина, одобренная правительством, во вверенном генералу Текели корпусе не обсуждалась. Остановить продвижение вперёд лучших в мире боевых порядков правительственной армии не мог никто. Пролитие капли крови русского солдата нарушало мир Отечества, а за это верные присяге воины самодержавия карали строго. Поставленная не совсем простая задача исполнялась достаточно строго, что особенно чувствовалось во взаимодействии родов войск. Артиллеристы, соблюдая меры предосторожности, решительно выкатывали на выгодные позиции орудия, но поджигать фитили не спешили. Фланги Орловского пехотного полка в случае внезапной атаки конницы сечевиков прикрывала кавалерия барона Розена. Боевая машина, поставленная на боевой взвод своим благоразумным воеводой, замерла, ожидая последнего приказа.
Растворившись на незнакомой местности, ушла вперёд разведка капитана Листьева. К удивлению многое повидавшего на турецком фронте офицера, в округе стояла жуткая тишина. Звёзды, отстоявшие последнюю стражу ночи, безудержно таяли в набирающем свет утреннем небе. Восток окрашивался берёзою. Сладкий запах травы и нескончаемая песнь соловушки тревожили солдатские сердца, наполняли их жизненной силой. Верный присяге молодой капитан умирать от руки православного брата сегодня вовсе не собирался.
Выполняя поставленную перед отрядом задачу, стараясь не привлекать к себе внимания, разведка незаметно прошмыгнула слободу. Когда возле колодезя, спрятавшегося среди высоких орехов, неожиданно наткнулись на казачку, проявлять себя раньше времени не стали, замерли на местности, плотно прижавшись к земле. Время превратилось для разведчиков в вечность. Ни о чём не подозревая, с наполненными до краёв вёдрами, статная молодица наконец не спеша направилась к своей хате. Округа уже просыпалась. Отдохнувшие за ночь казаки отходили от сна, гнали прочь со двора скотину. Сгоняя вредную мошкару с огромных цветов высокого подсолнуха, ловкие солдаты разведки скрытно подтянулись к редутам, где за добротными укреплениями мирно встречали утро спящие хохлы. Разбившись на группы, осторожно занялись сменой караула при артиллерии. Беспечность охраны внешнего коша поражала. Нынешняя ситуация явно играла на руку разведчикам, которые удачно брали врасплох расслабившихся на утренней зорьке горе-часовых. Через раз дыша, словно приведения, просочились-таки в караульное помещение. На столе ярко горела свеча, вокруг пламени которой кружил ночной мотылёк. Дюжий казачище, облокотившись спиной о стену, сладко спал. Испугавшись внезапного вторжения, изжарившись в открытом пламени свечи, мотылёк рухнул на стол. Разведчик Лёвушкин бесшумно отстранил ружьё от спящего запорожца. Листьев тем временем осторожно вытягивал из-за пояса верзилы тяжёлый пистоль. Длинный ствол нагретого телом оружия лишь слегка задел люльку, спрятанную за тем же широким поясом, отчего сладко спящий казак мгновенно открыл глаза. Не обращая внимания на нацелившегося в него из карабина Лёвушкина, запорожец спокойно достал, а затем раскурил огромную, похожую на лягушку, трубку. После нескольких добрых затяжек табачным дымом, украинский богатырь простодушно улыбнулся, хитро сощурил василькового цвета глаза и громко молвил:
– Дивись, хлопцы, в нашем полку прибыло.
В нише тотчас на широком топчане зашевелились товарищи. Потревоженные внезапным вторжением непрошеных гостей, запорожцы без всякой паники рассаживались по всему лежаку. Важно расправляли длиннющие усы, по-детски сопели, подобно ленивцам почёсывались. Казалось, что они давно ждали этого момента, отчего с нескрываемым интересом разглядывали хитрющими глазищами переодетых в запорожцев разведчиков.
У ворот внутреннего коша разведка, наконец, раскрыла себя. Служба при входе в столицу Запорожского Войска неслась исправно. Поднимая лай местной злобной псарни, в слободу беспрепятственно входили лихие егеря полковника Языкова. Кавалер полковник Розен, сомкнув ряды своих доблестных всадников, опасаясь подвоха, предусмотрительно схоронился в ближайшей роще, готовый отразить любую вылазку конницы Войска Запорожского. Полковник Мисюрев, с белым флагом и парламентёрами, спешно прибыл к дубовому частоколу с внешней стороны рва и не очень убедительно потребовал препроводить себя к кошевому атаману.
Военная баталия, вопреки всякого рода кривотолкам, окончилась мирным путём. Молоденькое солнышко уверенно отрывалось на востоке от макушек вековых деревьев, когда капитан Листьев привёл своих разведчиков к уже знакомому колодезю. Лёвушкин одолжил ведро у подошедшей к колодезю сухой казачки. При помощи скрипучего журавля поднял из глубокого выложенного камнем горла колодезя полное ведро воды. Разведчики с удовольствием утолили жажду. Затем, выстроившись в шеренгу по одному, быстро наполнили ведром смастерённое из единого камня корыто и с задорными криками да детскими шалостями принялись плескаться в нём, словно утки. Казачка подняла из колодезя ведро воды и заботливо предложила слить воду на руки сиротливо стоящему в стороне военному. Листьев от своевременного предложения отказываться не стал. Охотно освободился от амуниции. Стянул через голову ещё не успевшую просохнуть от пота рубаху. Студеная вода несла молодому жилистому телу чудотворную бодрость, хорошо смывала вместе с липким потом раздражение от укусов мошкары и крапивы. Словоохотливая казачка, умело смешивая украинскую мову с русской речью, не забывая исправно сливать воду из ведра в подставляемые пригоршни рук русского солдата, ни на секунду не умолкая, достаточно полно освещала все новости последнего времени. Занятый купанием, капитан в суть селянских новостей глубоко не вникал, но из уважения к рассказчице время от времени разгибался, энергично растирая воду на волосатой груди, утвердительно кивал головой, простодушно в знак благодарности улыбался.
– Молодец, Олеся, всё обо всех успела рассказать, как та сорока. Шустрая ты, как я посмотрю, за тобой нам, молодым, не угнаться. Только, наверное, забыла поведать пану военному, что твой Осип на Дунай под крыло к турецкому султану сбежал, – спокойно произнёс сзади женский голос.
От неожиданности Листьев непроизвольно сжался. Олеся запнулась на полуслове. Капитан медленно развернул голову. Когда повстречался глазами с миловидным лицом тридцатилетней хохлушки, сердце его быстро забилось в груди. Стройная селянка, ловко управляясь сильными руками с колодезным журавлём, легко и быстро наполнила до самых краёв воду в свои вёдра. Управившись с работой, с вызовом глянула на притихшую Олесю. Та, задетая за живое, понимая своим бабьим сердцем смутное время, при представителях власти благоразумно помалкивала. Так и не дождавшись ответа, милая хохлушка высвободила из-под платка тугую русую косу. Перебросила её из-за спины на пышную грудь. Заученными движениями пальцев неспешно принялась сплетать её распушившийся кончик. Используя своё неотразимое оружие, улыбалась до ямочек на румяных щеках, черными, как смоль, глазами пытливо оценивала кротко притихших солдат. Долго смущать взглядом неотразимой чаровницы растерявшихся русских парней не стала. Кокетливо одёрнула цветастую юбку и, подхватив на крючья коромысла жестяные вёдра, двинулась по тропинке, ведущей от колодезя в сторону основной дороги. Ожившие чувствами мужики, жадно впившись глазами в её плавно движущиеся под тонкой юбкой крутые бедра, восхищённо провожали вожделенными взглядами уплывающую прочь забаву.
Олеся молча доделала своё дело. В зелёных глазах её бесновались недобрые огоньки. Сдерживая крайние эмоции, она зло выплеснула остатки воды из ведра на крупные листья бурьяна возле колодца. Пока доставала из колодезя воду, негромко, но так, чтобы слышали все, начала рассуждать вслух.
– Мой Осип Емельянович с турецкой войны с медалью на груди вернулся. А что с товарищами ушёл новую Сечь строить, так он вольный казак. Чуток обживётся на Дунае, раз здесь на родной земле места для запорожских казаков совсем не осталось, и я с детишками к нему переберусь. Такая, видно, нам горькая доля на судьбу выпала. А Гелька пускай идёт на свою Кубань, комарьё кормить.
Олеся с поклоном попрощалась с военными и, схватив правой рукой сплетённую из суровой верёвки ручку тяжёлого деревянного ведра, расплёскивая воду на босые ноги, живо понеслась вслед за скрывшейся за поворотом Гелькой в надежде перехватить её у ворот хаты и высказать всё, что она сейчас в своём уме про неё надумала.
В сутолоке движения на дороге Листьев приметил однополчан, сопровождавших верхом на лошадях дымящую трубой полковую кухню. Все быстро привели себя в порядок и, построившись в колонну по двое, не упуская из обоняния дух жареного лука, сала и гречки, двинулись вслед за полковой кухней.
Утро следующего дня выдалось весьма скверным. Непроглядный туман, выпавший по всей округе, ещё до полуночи начал редеть, но лишь с рассветом и только после боя главного колокола на звоннице Покровской церкви наконец рассеялся. Держа парадный строй, не жалея густой травы-муравы, браво вышло в широкое поле доблестное российское войско. Бесформенной лавой вслед за русской гвардией подтянулись чуть позже на место сбора запорожские казаки. Крупные капли слепого дождика сорвались с небес. Генерал-поручик Текели, не обращая внимания на начавшийся ливень, на белом коне принимал парад у двух собравшихся вместе войск. Российские солдаты, глазами пожирая своего полководца, на приветствие последнего ответили во всю силу своих лужёных глоток. Казаки отвечали московскому воеводе неохотно, да и невпопад. При объявлении высочайшего соизволения Ея Императорского Величества, над головой оратора в густой кроне стоящего между войсками векового дуба затеяли не на жизнь, а на смерть кровавую драку две сварливые сороки. Сдерживая темперамент арабского скакуна, барон Розен лихо выдвинулся из строя и метким выстрелом из пистоля разрешил неуместную скандальную распрю. Сквозь огромное грозовое облако, почти касающееся креста местной церкви, внезапно пролился с небесной тверди яркий свет. В тот же час родившаяся в пасмурном небе сочная радуга, на удивление всем, восстала одним основанием на Сечь, другим же уверенно оперлась на Новосечинский ретраншемент. После оглашения строжайшего повеления Российской Государыни, освобождённые от присяги сечевики неохотно сложили ружья. Под треск барабанов парадным маршем уходило с поля хорошо организованное русское войско, унося в свой лагерь ценные трофеи. Только что упразднённое Запорожское войско в смятении своём разбегалось в разные стороны. Честно отслужившие ветераны и горемычные калеки громко сетовали на судьбу-кручинушку, не стыдились в горький час своих слёз. Основательно вытоптанное поле вскоре опустело. Разбитая пулей сорока покоилась в неглубокой яме подрытого корня дуба. Чудом уцелевший кое-где травяной стебелёк упрямо тянулся к небу. Основная же масса травы безжалостно погибла от солдатских сапог.
Испугавшись большого количества народа, забравшегося на крышу церкви, голубиная стая шумно поднялась на крыло. Ещё некоторое время потревоженные голуби безнадёжно кружились над головами серьёзно взявшихся за дело людей. Кровля храма на глазах меняла свои привычные формы, а из-под отрываемых досок крыши, словно горох, высыпались на землю не досиженные голубиные яйца. Прогоняемые диким свистом, навсегда теряя некогда обжитый кров, птицы стремительно взмыли в небо и за считанные мгновения стали ничтожно малы под облаками.
Суета-сует овладела всей Запорожской Сечью. Всё в округе кружилось дьявольским хороводом. Взятые ещё вчера после полудня в плен кошевой атаман, писарь и войсковой судья были немедленно выпущены сегодня на свободу под честное слово. Разобраться без них что к чему в товарищеском ордене было просто невозможно. Правда, Пётр Иванович Калнышевский, принявший обет покаяния, от всех насущных дел самоустранился. Он спокойно сидел дома и на все многочисленные вопросы простецки пожимал плечами, отхлёбывал из блюдечка чай, хитро улыбаясь в седые усищи. Писарь Глоба и войсковой судья Головатый сами, как могли, отдувались от дотошного московского начальства.
Охотников разбирать Тело Христово вызвалось немало. Работа исправно кипела кругом. Отец Серафим скорбно сидел на камне возле красных дверей церкви, время от времени тяжело в сердцах вздыхал, неустанно читал себе под нос молитвы и широко крестился. Лучший плотник на Сечи Остап Головченко, гонимый любовью Христовой и личным состраданием к уважаемому всеми священнику, решительно приблизился к погружённому в сокровенные таинства отцу Серафиму и, боясь прогневить его, трижды перекрестившись, клятвенно заверил, упав на колени перед упавшим духом батюшкой:
– Не горюй, отче. На радость небесам, если жив буду, воздвигну в новых землях твою красавицу! – Священник в ответ грустно улыбнулся.
К закату, как и обещали мастера, добрались-таки до пола церкви, из-под которого метнулись в разные стороны тараканы да крысы. Только одна, огромная, белая церковная крыса бежать прочь от людей не стала. Важно усевшись на задние лапки, отбросив длинный хвост, щурясь от яркого света, крысиная королева розовым носиком тянула дух улицы с разных сторон. Никита Скиба ловко накрыл её корзиной, а всегда присутствующий при нём Андрийка пересадил несопротивляющуюся пленницу в железную клетку.
К сумеркам во внешнем коше столы ломились от закусок. Выкатывались из винных погребов закупоренные бочки с горилкой. Празднично одетые, русские и сечевики чинно выпивали и не спеша закусывали. Кому не велено было ходить на праздник, шли в гостеприимную слободу украдкой. Такие незаконные компании располагались повсюду на укромных полянках, которые строгий патруль стороной обходил. Изрядно причастившись и не имея времени засиживаться долго, на неуверенных ногах возвращались солдаты из гостей в свой лагерь, неся с собой товарищам закуску и выпивку.
Прохладный ночной воздух содрогался от песен. Пускались в перепляс казаки и солдаты. Наиболее удалым аплодировали, но там, где силы зла были сильнее, пускались в ход и кулаки. Ветерок временами громко рылся в загривках огромных деревьев. Полная луна пробивалась ярким светом сквозь жидкие облака, гонимые на восток. В рваных дырах мерцали яркие звёзды. Жадный кровосос лютовал в округе и, упившись пьяной людской кровью, валился замертво под ноги веселящихся сердцем православных людей.
Григорий Потёмкин, удобно упершись широченной спиной в высокую спинку кресла, заложив руки за голову, единственным глазом своим придирчиво осматривал углы своего кабинета. Иногда отрывал взгляд от стен и, пристально уставившись в потолок, замирал на некоторое время. Спешно вызванный в кабинет Светлейшего князя, начальник канцелярии Василий Попов застыл в ожидании. Его присутствие никогда не мешало Потёмкину думать. В такие минуты он просто не замечал его и спокойно разбирался со своими мыслями, зная наперёд, что никто более не сможет придать им ясность на деле. Наконец, всемогущий «король юга» опустил руки на край письменного стола, навалившись на него всем своим могучим телом. Повернул голову в сторону покорно ожидающего своей участи Попова, посверлил всевидящим оком умное лицо исполнительного секретаря. Попова это вовсе не смутило, ибо в налитом кровью и тоской глазе хозяина он чётко видел необузданную мысль, которая требовала воплощения.
– Ну что, Василий, – без всякого гнева и радости обратился сильно озабоченный Светлейший князь к своему незаменимому помощнику, – обвёл-таки нас, наивных, хохол Калнышевский вокруг своего пальца. Захваченный в Сечи архив – пустая трата времени. Смешно поверить, но в запорожской казне наличность составила на сегодня три рубля шестьдесят две копейки. Пушки все негодные, а порох к ним изгажен водой. Гребной флот как бы не существовал там вовсе. Пять тысяч сабель, предав государыню, как некогда Петра Великого, сбежало за Дунай, и только совсем немного преданного России малороссийского народа потащило Покровскую церковь к старообрядцам и некрасовцам на Кубань. Вот теперь и объясни мне, непонятливому, дорогой мой Василий Степанович: за чей счёт мне придётся строить деревни для хохлов в Новороссии?
Крепко раздосадованный нищетой малороссов Потёмкин живо подскочил с кресла и нервно заходил взад-вперёд по просторному кабинету, цепляясь полами широкого халата за что ни попадя. Не обращая внимания на создаваемый неуклюжестью своей хаос вокруг себя, зло ворча себе под нос, очень долго собирался с мыслями и только после того, как негативные эмоции покинули его разбушевавшееся сердце, далее уже совершенно спокойно начал излагать давно вызревшие в нём мысли.
– Пётр Великий непокорным людишкам бороды рубил, а я милую их бороды пышные, а вот чубы непокорные начисто с их непутёвых голов сбрею! По монастырям смутьянов распихаю! В Сибири выю горячим товарищам остужу! Кроткими враз станут! Правдой и верой Отечеству служить заставлю!
После эмоциональной речи Потёмкин впал в буйство, но скоро овладел собой и, уткнувшись лбом в прохладное оконное стекло, заставил, наконец, себя успокоиться. Как никто иной зная крутой нрав своего хозяина, всё это время терпеливо хранивший молчание сметливый секретарь осторожно попытался покинуть кабинет.
– Да, вот ещё что, Василь Петрович! Чуть было не упустил… проследи лично сам, голубчик, чтобы этого хохла войскового судью Антона Головатого не упекли далеко. Думаю, что он ещё скоро нам пригодится.
Всегда готовый исполнить волю хозяина, расторопный начальник канцелярии проворно обернулся и, не успевшим ещё обсохнуть пером, быстро пометил в своих бумагах последнее распоряжение Светлейшего князя. После чего, почувствовав себя здесь лишним, сохраняя собственное достоинство, секретарь скромно покинул кабинет, аккуратно затворив за собой двери.
Оставшись один, «вице-король юга» вновь занял своё место за письменным столом. После пережитого только что эмоционального всплеска неотложные дела государственной важности безнадежно потеряли свою злободневную остроту. Непреодолимая рассеянность прочно завладела умом Потёмкина. Чёрная бездна пустоты нагоняла жуткую леность в членах, мешала как следует сосредоточиться на далеко идущих мыслях. Горькая обида за наивную доверчивость начисто уничтожила в умном фаворите всё благое. Ответное коварство самодержавного «вице-короля юга» рождало в его изворотливой душе месть расчётливого злодея. Одно лишь только было сегодня понятно: заслужить кому-либо привилегию жить на земле Новороссии, щедро окроплённой кровью русских солдат, у казака из Кущевского куреня Грицька Нечёсы, то есть самого Потёмкина, будет теперь непросто.
Знакомая боль неожиданно пронзила позвоночник. Светлейший страдальчески поморщился, но превозмочь волей всемогущего сановника наступление подлого недуга было не в его человеческих силах. Тайная болезнь уверенно перешла под левую лопатку, отчего дышать становилось с каждой минутой всё труднее. Нестерпимо заныли зубы на нижней челюсти, справа, возле жевательной мышцы. Изощрённые муки быстро завладели всей плотью Григория Александровича. Он смиренно сник и, читая про себя молитву Божию, приготовился к смертному часу. Как можно осторожнее, превозмогая невыносимые страдания, бледный как мел Светлейший князь осторожно перебрался на диван. Умостившись поудобнее среди мягких подушек, он, наконец, закрыл потяжелевшие веки и замер. Когда очнулся из забытья, солнышко за окном давно перевалило за полуденную отметку. Отдохнувший глаз безболезненно реагировал на свет. В кабинете царила привычная тишина. За окном беспечно ворковали голуби. Адовы муки отступили. Светлейший осторожно сел и опустил озябшие ноги на ковёр. И на этот раз вероломство смерти отступило. Лёгкий, а главное живой и невредимый, Григорий Александрович вышел в приёмную. Не читая бумагу, подписал челобитную вдове. Всегда исправно платящему налоги с прибыли в государственную казну знакомому купцу-малороссу подарил рыбный промысел. Долго широко открытым глазом рассматривал офицера, а когда налюбовался военной выправкой красавца, простецки поинтересовался:
– Кто таков?
– От его превосходительства генерала Суворова, Ваша Светлость, капитан Листьев с донесением, – отчеканил ничуть не смутившийся при виде большого начальства щеголеватый офицер. Достал спрятанный на груди пакет и уверенно протянул его адресату. Видно было со стороны, что суворовская депеша весьма заинтересовала Светлейшего князя. Потемкин тут же сделал решительный шаг в сторону своего кабинета, но вдруг остановился. Покрутил головой, ища в разноликой толпе народа в приёмной своего верного секретаря. Последний, приметя застывший вопрос на лице хозяина канцелярии, сам поспешил к нему навстречу.
– Ты здесь быстренько со всеми, Василий Степанович, разберись. Ни к чему нам по пустякам людей задерживать, – с заботой о собравшихся распорядился Потёмкин. Повернувшись и указывая пальцем на замершего по стойке смирно до особого распоряжения капитана, добавил: – Этого секунд-майора в мою гвардию, Василий Степанович, определи и проследи, чтобы он к своему Суворову на кордон не сбежал.
Должность офицера для поручений у самого Суворова капитан Листьев считал подарком судьбы, но только что произошедшее выглядело чудом. Не теряя самообладания, обескураженный избытком чувств, глядя в полные зависти глаза вытянувшегося в струнку как на параде морского офицера, новоиспечённый майор благодарно отчеканил:
– Служу Царю и Отечеству!
– Хорошо служишь, одобряю, – согласился со словами офицера довольный своим неожиданным решением Потёмкин и тут же добавил: – Только теперь мне верой и правдой послужить придётся. Через полчаса вели мою карету к непарадному крыльцу подать, – дружески попросил Попова Светлейший князь, а секунд-майору Листьеву строго приказал: – Жди меня возле неё, сопровождать будешь!
И, более не задерживаясь, скрылся за дверями своего кабинета.
Славный день победы над Мустафой праздновали по-русски широко и с размахом. Пышные страсти скоро улеглись, но к великому сожалению, число послевоенных калек на улицах северной столицы не убавилось. За ужасные увечья им щедро подавали, и они без всякой меры возливали на чудом теплящуюся в их жалких мощах жизнь. До умопомрачения веселились в бесконечном празднике, начисто спуская добропорядочную милостыню на треклятое вино, горьким похмельем понимая, что предстоящие лютые морозы нынешней зимы многим из них пережить уже не удастся.
Первый месяц осени в устье Невы выдался сухой и жаркий. В душных дворцовых стенах без всякой надобности уставшей от духоты Императрице сидеть не хотелось. После долгожданного кратковременного дождика духота отступала. Безудержно тянуло в тёмные прохладные аллеи парка за целительной бодростью. Избрав для себя верным поводырём Нарышкина, шурша дорогим платьем по выложенной цветной мозаикой дорожке, Российская Императрица чинно прохаживалась по саду. Неисправимый балагур, желая едкой сатирой расположить к себе сердце царицы, неустанно острил, но она, погружённая в мысли государственной важности, не поддавалась на тонкую уловку пустомели. Нарышкин так просто сдаваться не желал и, перевоплотившись в серьёзного человека, хитро сменил тему разговора:
– Матушка, грибов ныне в лесу после дождика – хоть косой коси.
– Ну и… – недоумённо вымолвила Екатерина Вторая. Решительно остановилась с намерением вступить в разговор.
– Старые люди поговаривают, что к войне всё это.
– Так войну я, милый мой, давно окончила полной победой русского оружия.
– А зачем, Матушка, Светлейший князь Григорий Потёмкин с генералом Суворовым в армии тогда реформу затевают?
– Да будет тебе, сударь, чужие сплетни разносить. Не твоего ума это дело.
Екатерина Вторая строго браниться не стала, но вопросительным взглядом умных глаз измерила всё знающего лицедея. Учуяв недоброе, Нарышкин сник, и лицо его сделалось робким. Откровенный разговор, к которому так стремился придворный шут, не состоялся, и чтобы напрасно не гневить не поддавшуюся на расчётливую уловку государыню, раздосадованный в глубине души Нарышкин принялся оправдываться.
– Ты, Матушка, на глупца не серчай. Вижу, не до меня тебе. Лучше думай свои мысли праведные. Мешать тебе более неразумными вопросами не стану. Вот только рядышком на часы устроюсь и верой хранить твой покой буду. Врагов у России много, а ты у меня одна.
Императрица, подобрав подол длинного платья, смело уселась на обшитую бархатом и золочёной ниткой мягкую подушку качели. Налегая спиной на спинку сиденья, запрокидывая назад голову, энергично двигая ножками, обутыми в модные сапожки, государыня быстро раскачала качели. Листья на деревьях от жары пожухли. Трава же на коротко стриженых газонах держала цвет и свежесть. Вдруг неожиданно, сея страх и дрожь в душе Екатерины Второй, промелькнула за беседку одетая в новый гвардейский мундир спина Петра Великого. Царица, до смерти напугавшись, вздрогнула. Растерянно взглянула на Нарышкина, но верный Ея Величеству часовой спокойно нес службу на своём посту. Как всегда, приняв это мистическое видение за добрый знак, Императрица широко перекрестилась. Вновь недоверчиво покосилась на доблестного часового, бравый вид которого отогнал прочь её страх, и она, обретя привычный покой, принялась сочинять про себя будущее письмо Мари Франсуа Вольтеру:
«Милостивый государь, получила три недели назад ваши письма и вот только сегодня собралась мыслями сочинить, наконец, вам достойный ответ».
Первые строки ей удались, и она, окрылённая нежданно обретённым вдохновением, весьма довольная своей музой, более не заострялась на пустяках и продолжила свои умные мысли далее:
«Наши азиатские города состоят из населения более двадцати национальностей: это народы, быт и культура которых, вовсе не похожа друг на друга. Так вот, мне необходимо сегодня сшить такое удобное платье, которое современным кроем оказалось бы пригодным всем без исключения. Друг мой», – с особой нежностью обратилась Екатерина к далёкому Вольтеру, словно тот сейчас находился с ней рядом. Нервная дрожь охватила её, но она справилась с нею и вновь принялась излагать свои мысли.
«Не обращайте внимания на шумиху, поднятую парижскими и польскими газетами, которые давным-давно уморили моих доблестных солдат чумой, но найдите это весьма забавным, что русские воины, воскреснув для битвы, уже не интересуются о численности неприятеля, но только спрашивают: где он?»
Здесь государыня остановилась, чтобы перевести дух и, не сдерживая свои крайние эмоции, от которых порозовели уши, с жаром продолжила:
«Я очень дорожу дружбой короля прусского, но пятьдесят тысяч добровольцев, желающих бескорыстно служить православным народам в их справедливой войне, нам уже не понадобятся. Не знаю, насколько умён Мустафа, но затеяв беспричинную войну с Россией, потерпел в ней заслуженное и сокрушительное поражение. Мир – вещь прекрасная, но согласитесь, в войне есть место для особенного трепета. С тех пор, как победоносное счастье привалило ко мне, Европа находит у меня много ума. Россия вышла из войны более цветущей. Война сделала мою Империю известной всем и показала всему развитому миру русских людей высокого достоинства. Европа, наконец, увидела, что моя великая страна не нуждается в средствах, и что мы можем защищаться и энергично воевать, когда на нас несправедливо нападают».
Словесный запас исчерпал её сердце, и она даже почувствовала некоторую усталость, но вспомнив о приятном, захотела непременно поделится этим с Мари Франсуа.
«Какое счастье беседовать с философом Дидро, гостившим у меня. Я получила такой положительный заряд творчества, что почти закончила работу над новым Сводом законов», – здесь она вновь взяла передышку, прикинув в уме выплаченное материальное вознаграждение последнему за мудрость, оказавшую ей помощь в этом нелёгком деле, и осталась довольна своею щедростью.
«Вы давно просите меня, – начала она с сожалением, словно морщась от боли, – принять современное законодательство в сегодняшнюю российскую жизнь, чтобы поскорее сообщить об этом Петру Великому на том свете. Прошу Вас отложить скверное намерение на более далёкое время», – умозаключение ей показалось весьма убедительным и способным уберечь её друга от нелепой смерти, с которой Мари, по всей видимости, уже давно смирился.
Гоня прочь от себя дурные мысли, она заставила-таки себя переключиться на добрую ноту, чтобы закончить письмо не в мрачных тонах.
«Вы довольны моими подданными, посетившими Вас в Ферне? Когда Европа больше узнает нового о моём славном народе, то навсегда отбросит прочь неверные предубеждения и заблуждения, которые прежде составляла на счёт России.
Да, чуть было не забыла сообщить Вам о флоте российском. Теперь и в вечные времена Мудрая Европа будет судить о нём только по его героическим успехам.
Прощайте, милостивый государь! Будьте здоровы! Не лишайте меня Вашей дружбы и будьте уверены в моей…».
Сашко Масюк уверенно держал курс своей быстроходной «чайки». Основательно загруженная житейским скарбом переселенцев, лодка низко сидела в воде, но слушалась руля своего кормчего безупречно. Воспользовавшись помощью попутного ветра, уставшие от изнурительной работы на вёслах, гребцы крепко спали. Возбуждённый за трудный день, Андрийка заснуть никак не мог. Чтобы не разбудить чутко спящего Никиту, он осторожно развернулся на спину. Затекшее тело, наконец, блаженно вздохнуло. Низкие облака гнались за лодкой. Луна выглянула из-за тучи, отчего зловещая темень рассеялась. Стало светло и совершенно не страшно. Андрийка приподнялся на локте и осмотрелся. Масюк, надёжно прижав к себе древко руля, неподвижно сидел на своём месте под кормовым огнём лодки. Время от времени он подносил свободной рукой к губам длинный чубук люльки и выпускал изо рта огромное облако дыма. Ветер тут же подхватывал его, и до обоняния Андрия доносился приятный аромат зелёных яблок. Этим чудно пахнувшим табаком Масюк ни с кем не делился, потому что ходил за ним за Черное море и покупал его у турецкого султана. Среди огромных сундуков, прижавшись плотно спинами друг к другу, спали Панас и Оксана. Злые языки поговаривали, что Оксана водила тайную дружбу с нечистой силой, поэтому её красота к ней только прибывала. Лихой казак Панас влюбился в Оксану с первого взгляда. Сразу навечно присох к её красоте своим мужественным сердцем. Бросил саблю к её ногам. Навсегда забыл дорогу к своим боевым товарищам.
По лунной дорожке за «чайкой» Сашко, раскрыв паруса, словно гигантские птицы, неслись в ночи друг за дружкой остальные лодки. В ночной облачности над далёким Херсоном сверкали зарницы. Свежий ночной ветерок пронизывал холодом насквозь, брызгал в лицо Андрия скупыми дождевыми каплями. Порывы набирающего силу ветра громко трепали концы паруса. Вода за бортом весело плескалась. Луна вновь спряталась за облаками. Сразу стало темно, сыро и невыносимо зябко. Кошмарная темень нагоняла страх на Андрийку. Он спрятался с головой под овечью шкуру. Прижался к горячему телу Никиты и скоро согрелся. Прогоняя прочь тревожные мысли, принялся вспоминать светлый образ матери. На сердце постепенно становилось легче. Он, наконец, совсем успокоился и не заметил, как уснул.
Когда Андрийка проснулся, солнышко уже успело высоко подняться над горизонтом. Улыбающийся Никита сразу же подсунул ему чистую тряпицу со снедью. Проголодавшийся за долгую ночь юнец жадно набросился на еду. Ночное ненастье бесследно исчезло. Дивное летнее утро уверенно набирало силу. В попутном ветре на Днепро-Бугском лимане никто не сомневался. Свежий ветерок, ничуть не изменившийся в направлении, влёк своей силой лодку с переселенцами вперёд по лиману, на новые земли. Панас, опершись спиной на кованый сундук, беспечно крутил на пальце свой длинный ус. Заспанные глаза его щурились от ярких лучей солнца, но он упрямо всматривался в пустынный горизонт на востоке. Раз за разом зевал, широко раскрывая рот, суетно крестил его, растирая широкой ладонью по давно не бритым щекам горькие слёзы. Оксана, отложив гребень, ловко заплетала смоляные волосы в тугую косу. Андрийка широко раскрытыми, по-детски наивными глазами пристально уставился в её премилый профиль и заворожено застыл. Красавица, почувствовав на себе чей-то пристальный взгляд, обернулась. Озорные огоньки вспыхнули в её очах, и она, зная свою чарующую власть над мужской половиной, лукаво улыбнулась. От неожиданности Андрийка густо залился краской. В смятении отвёл в сторону глаза и, подавляя в себе противное смущение, исходящее из больно кольнувшего сердца, стыдливо потупил глаза. Страшась вновь повстречаться с шальными глазами Оксаны, Андрийка лишь только раз волчонком взглянул на неё, поражаясь её неписаной красе. Тут же, вспомнив о еде, ожесточённо заработал зубами, уткнувшись взглядом в днище лодки, стараясь во что бы то ни стало подавить острое желание ещё хотя бы разок полюбоваться светлым образом прекрасной девы. Через силу преодолевая свою робость и скованность, всё-таки глянул на Оксану, и она, словно чувствуя его вожделение, встретила его глаза взглядом. От неожиданности Андрийка неловко вздохнул и поперхнулся плохо разжёванной во рту пищей, вконец смутился и громко раскашлялся. Испуганный Никита торопливо постучал его по спине. Андрийка скоро справился с недугом и теперь тупо смотрел перед собой, а в сторону Оксаны уж более глядеть не решался.
Между далёким берегом и лодкой кружила в суматохе огромная стая горластых чаек. Глазастые морские птицы стремительно пикировали во вспученное ветром воды лимана и, подхватив из мутной воды добычу, резво взмывали в искрящееся чистотой небо.
Отдохнувшие за ночь гребцы, разбившись по интересам в компании, коротали своё свободное время как могли. Слывший среди казаков скандальным характером Иван Жмых надолго ни в одной из них не задерживался. После последнего своего изгнания из компании товарищей, обидевшийся на весь белый свет Иван перебрался поближе к Масюку и там ещё долго выслушивал спиной язвительные подковырки задетых за живое приятелей. Одиночество убивало Ивана. Он с нескрываемым интересом заглядывал в лицо Сашку, всем своим видом предлагая ему дружбу, но начать разговор первым не решался. Важно вытащил из-за пояса люльку и долго крутил её без всякой надобности в руках. Смекал про себя, как бы помудрее выпросить турецкого табачка у жадного Масюка. Прикидывал со всех сторон, как это лучше сделать, загадочно улыбался и упорно ждал подходящего момента. Мысли хитрющей так и не пришло ему в голову, а случай подходящий можно было ожидать вечно.
«Не попросить ли у Сашко табачка взаймы», – подумал невзначай Иван, и эта зацепка сразу понравилась ему. Пристально разглядывая приближающуюся чайку Степана Тригуба, Жмых принялся сочинять про себя свою будущую просьбу.
«Уважаемый пан Масюк», – шевеля губами, сложил в уме первую фразу Иван. От неимоверного умственного труда Жмых весь покрылся испариной. Обращение «уважаемый» он тут же заменил на «ясновельможный» и это ему очень понравилось.
В это время, поймав парусом поток попутного ветра, Тригуб решил на шальной удаче во что бы то ни стало обойти самую быстроходную на Сечи «чайку».
– Вот бесовская душа, – негромким голосом произнес Сашко и, принимая вызов Тригуба, резко вскочил на ноги. Мгновенно оценив обстановку, уверенный в своём мастерстве Масюк, чтобы слышали все, громко добавил: – Битому неймётся, – и тут же ухватился жилистыми руками за верёвки своего паруса.
«Чайка» Тригуба стремительно неслась вперёд и, казалось, никакая сила уже не остановит её. Предвкушая лидерство, подхлёстываемые куражом, крайне возбуждённые казаки на тригубовской лодке улюлюкали безнадёжно отстающему Масюку. Бледный Сашко, так и не потерявший присутствия духа в этой непредсказуемой ситуации, в последний момент сумел-таки перехватить ветер удачи. «Чайка» Степана на какое-то мгновение вдруг потеряла управление и, опасно накренившись на левый борт, сбилась с курса. Победное настроение враз затихло. Испугавшиеся гребцы схватились за вёсла.
Василь Дорошенко чуть не опрокинул за борт клетку с белой крысой. Взлетел на самый верхний кованый сундук Оксаны и Панаса, где неистово принялся крутить над головой двумя саблями. Оксана с визгом бросилась на шею Панасу. Иван Жмых, зарабатывая себе жменьку масючинского ароматного табачка, бесстыже показал свой голый зад всей тригубовской компании, на которой со страху уже спустили парус. Полковник Поддубный светился от радости, сдерживая свои эмоции, хитро утирал усы. Достал пляшку с горилкой и собственноручно поднес до краёв полный михалик непревзойдённому кормчему. Затем причастил доброй чаркой всю ликующую братию.
Раскалённое добела дневное светило скрылось, наконец, за западным небосклоном. Летние сумерки быстро сгущались. Долгожданная прохлада после захода солнца на ночлег так и не наступила. Заметно увеличившаяся влажность окружающего воздуха после полного исчезновения ветра превратила дневной зной в невыносимую ночную духоту. Паруса на «чайках» беспомощно обвисли. Потерявшие ход лодки более не слушались руля. Теперь, полностью зависимые от течения лимана, они бестолково расходились в разные стороны. Непроглядная темень и полное отсутствие привычного движения вперёд наводили в сердцах присмиревших переселенцев труднообъяснимую тревогу. Семён Дрозд, больше жизни любящий своих пчёл, долго тянул со стороны призрачной суши длинным, похожим на пчелиный хоботок носом воздух, желая учуять в нём сладкий дух скоро приближающегося медового Спаса. По всей видимости, Семён что-то унюхал. После весьма долгих сборов, похожих прежде на конвульсии больного человека, смачно чихнул, тем самым обращая на себя внимание.
– Будь здоров, пан Дрозд, – первым отреагировал на свершившееся, наконец, облегчение Семёна Сашко Масюк. Дрозд же, не обращая внимания на некоторое оживление вокруг его имени, важно достал из кармана белый платок. Вначале промокнул слёзы, выступившие на глазах, и только затем высморкался в него. Тщательно утерев короткие усы под своим необычным носом, благодарно склонив голову в сторону Масюка, чеканя каждое слово, достойно отблагодарил своего доброжелательного товарища.
– Спасибо, пан Масюк. Дай и тебе Бог здоровья! – Затем вдруг спохватился и, обращаясь вроде бы ко всем, но глядя почему-то с учительским укором в глаза глупо улыбающемуся Ивану Жмыху, повелительно гаркнул: – Ну что расселись, милейшие, или уже не спешим никуда?
Он первым решительно схватился за весло. Его примеру тут же последовали все остальные.
«Чайки» со спущенными парусами, наконец, ожили и, подчиняясь воле гребцов, вновь выстроились в прежнюю линию, упрямо двигаясь дальше. Низкие завитки млечного пути яркими россыпями звёзд почти касались верхушек высоких мачт набирающей скорость маломерной флотилии, рассеивая над головами жилистых гребцов бездонный мрак ночного неба. Прямо по курсу идущих вперёд лодок, над самой кромкой воды далёкого горизонта, в пепельной купели кровавого пожарища рождалась луна. Морские чайки, громко хохоча, садились на зеркальную поверхность спокойного лимана, усугубляя душераздирающими воплями картину недоброго знамения.
Прекрасно ориентируясь на местности, главарь шайки разбойников Митя Борода быстро взбирался на гору. Принятый недавно в разбойники, бывший запорожский казак Хома Окунь едва поспевал за своим шустрым товарищем. Прошлогодняя листва, щедро смоченная недавно прошедшим дождиком, наполняла свежий лесной воздух пряным запахом. Увлажнённый лист не шуршал под ногами, а легко проседал под тяжестью тела. Корявые следы, оставленные на воздушном ковре из листьев, приметны были издалека. Осторожный Борода то и дело расчётливо сворачивал в разные стороны, ловко заметал следы, умело используя для этого плотные островки из намытой сели. Наконец, густой лес закончился, и они, тяжело дыша, вышли на открытую со всех сторон макушку горы. Схоронившись в густой траве южного склона, прикрывшись ладонями от яркого света полуденного солнца, с высоты птичьего полёта внимательно оглядели бескрайнюю гладь равнины лимана. Стая дельфинов, недалеко от берега взяв в плотное кольцо косяк рыбы, не спеша, по очереди, утоляла голод. На пиршество со всех сторон спешили прожорливые чайки. Не найдя глазами предмета своего долгожданного вожделения, Митя смутился. Его злые глаза прямо-таки буравили наивные очи не на шутку испугавшегося Окуня.
– Не серчай, атаман. Обожди чуток. Близко они уже. Сердцем чую, – с жаром заговорил Хома и, зарабатывая расположение у своего грозного товарища, попытался простодушно улыбнуться.
Оценивая неестественную гримасу как издёвку, Митя опустил руку на рукоять дорогого пистоля демидовской работы. На широком лбу Окуня выступил крупными каплями пот. Аккуратно скрывая своё внутреннее напряжение, Хома продолжал глупо улыбаться. Митя тяжело вздохнул. Убрал руку с оружия и, зарывшись ею в густых космах своей бороды, задумался. Постепенно гнев в его глазах сменился на милость.
– Ты покарауль их, Хома, – незло распорядился Митя, – а я пока поразмыслю чуток, как жить дальше будем.
И он тут же беспечно растянулся на успевшей уже подсохнуть траве. Пред глазами, в глубине тёмно-голубого неба, парил орёл. В последнее время Митя Борода всё чаще и чаще анализировал свою прошедшую жизнь, и то, что в ней было больше дурного, чем хорошего, очень удручало его. По зову своего сердца присягнул он чудесно спасшемуся царю Петру Фёдоровичу. В составе отряда Наумова командовал сотней. При штурме города Оренбурга одним из первых вскарабкался на крепостную стену. Одержимый яростью и кровью, увлекая своих людей за собой, крушил саблей всех попадавшихся под руку, пока не нарвался на бравого гвардейца. Тот оказался не из робкого десятка, быстро охладил пыл разбушевавшегося Мити. Не без труда оттеснил своей стремительной атакой его обратно, на край стены и, бесстрашно глядя в глаза растерявшемуся пугачёвцу, прохрипел:
– Куда прёшь, сволочь! – И, вкладываясь всем телом в свой резкий удар, плашмя ударил саблей по горячей Митиной голове. Падение со стены смягчили ещё не успевшие закоченеть тела убитых товарищей. Упорно цеплялся за свою жизнь Митя, а когда встал на ноги, братоубийственная бойня Емельяна Пугачёва потерпела от московской власти сокрушительное поражение. Мелкие отряды отступников зверски мародёрничали в округе, не жалея при этом ни старого, ни малого. Это была агония загнанных правосудием в угол бродяг. Глаза изнасилованной крепостной девки ни днём, ни ночью не давали покоя истерзанному угрызениями совести сердцу Мити, постоянно требуя покаяния за грех душегубства.
– Вон они, голубочки! – радостно завопил Хома.
Борода, стряхнув чёрные мысли, резко повернулся на живот. Достал из-за пазухи подзорную трубу и навёл её на лиман. Из-за мыска медленно выплывали лодки. В «чайках» царил закон и порядок. Одни гребцы отдыхали, другие, что есть силы, налегали на вёсла.
«Таких голыми руками не возьмёшь», – горько подумал про себя Митя, Хоме же сказал:
– Знать бы, в какой из них казна припрятана…
– Узнаем, атаман. Дай только срок. Возьмём её, родимую, тёпленькой, – живо заверил ликующий Окунь.
Уверенность Хомы нравилась Бороде. Располагая новоиспечённого разбойника к себе ещё больше, доброжелательно бросил ему в руки полную фляжку водки. Высоко задрав голову, Окунь жадно глотал обжигающую горло жидкость. Под натянувшейся на пузе его рубахой отчётливо видны были латы брони.
Возвращались в своё логово, довольные друг другом. Хома Окунь хитро улыбался в ответ на серьёзные взгляды Мити Бороды. Это не смущало главаря шайки разбойников. Он ясно понимал, что сейчас брать казну хохлов был совсем не тот случай, но упускать из поля своего зрения запорожцев было, по его мнению, смерти подобно.
В лесу было тихо и уютно. Листва на деревьях держалась крепко, но пора листопада была уже не за горами. Сбросивший листву лес становился плохим убежищем для разбойников. Внезапные облавы на лихой люд приносили успех лишь властям, поэтому многим лихим людям из-за участившихся облав дожить на воле до следующей весны было не так просто.
Границы Российской Империи неудержимо расширялись. Созданное Петром Великим войско утверждалось в битвах как самая лучшая армия в мире. Москва на присоединённых к России землях насаждала свой строгий закон. Российское православие разрасталось на все четыре стороны света, достойно претендуя Святым Духом своих церквей на мировое господство.
Когда дневная жара начала постепенно ослабевать, с виднеющейся кромки берега взметнулась ввысь фигура из дыма. Утомлённые длинным переходом гребцы, заметив долгожданный знак, что есть силы налегли на вёсла. Народ в «чайках» ликовал. Масюк, зная коварность здешних вод, зорко высматривал на берегу заблаговременно расставленные вехи.
– Не налегай, – строго осадил пыл гребцов Сашко, – ухо держать востро. Мели кругом.
Тригуб самовольно покинул своё место в кильватере, бесшабашно рванул к близкому берегу. Сашко не спешил. Умело используя специально установленные указатели на берегу, время от времени тщательно промерял глубину под килем лотом, и поэтому благополучно пристал первым к берегу лимана. За ним пристали все остальные. Встречающих было много. Истосковавшиеся мужья ласково обнимали своих жён. Соскучившиеся отцы крепко жали руки своим сыновьям, предлагали чарку водки с устатку. Выпивать за здоровье матерей, жён и детей не оказывались, но при этом не забывали о мере. Необходимо было тотчас разгружать лодки. Затем найти время, чтобы привести себя в порядок и уж точно не опоздать на вечернюю службу к отцу Серафиму. Когда берег Кинбурской косы почти опустел, проклиная всё на свете, а особенно своего кормчего, причалили, наконец, к берегу мокрые и дюже злые тригубцы.
Заботы на будущее не давали запорожцам расслабиться, и после трёхдневного отдыха с первыми признаками рассвета провожали Масюка и Тригуба с товарищами к татарам за солью. На берегу в ранний час остро пахло рыбой и водорослями. У готовых к отплытию лодок сновала разновозрастная толпа. Жёны прижимались к мужам и пускали слезы. В такие непростые житейские минуты проверялись на прочность истинные чувства. Здоровенные мужики прижимали к себе малых детей. С нежностью заглядывали в детские, ещё несмышленые глазки. Звонко чмокали в пахнущие материнским молочком пухлые щёчки. Со старшими прощались по-взрослому, при этом обязательно что-то строго наказывали.
– Возьми меня с собой, Сашко, к басурманам. Не мужское это дело в обозе плестись, – упрашивал Иван Жмых Масюка, но Сашко делал вид, что ничего не слышит.
Страшный гнев охватил Ивана, от чего лицо его стало пунцовым. С нервно дрожащих его губ вот-вот должна была сорваться ярая матерщина. Товарищи Масюка зароптали. Жмых как-то сразу сник. Завертел бритой головой по сторонам, явно ища поддержки. Вдруг наткнулся взглядом на приятельски улыбающегося Тригуба.
– Ну и чёрт с вами! Пожалеете ещё, но уже поздно будет, – смело бросил команде Масюка Иван и, не теряя достоинства, шустро метнулся к лодке Степана.
На его пути неожиданно вырос Ефим Бык. Большим пальцем пудового кулака неопределённо указывая через правое своё плечо, недобро поблескивая чёрными глазами, убедительно посоветовал резко остановившемуся Жмыху:
– Иди, Ваня, туда… У нас своё чудо есть.
Злые языки тут же развили мысль Ефима дальше. Иван явно понимал, что обойти громилу Быка ему не представлялось возможным. Обида и унижение захватили его сердце, и он, безнадежно махнув рукой, наконец, смирился. Отошёл в сторону и сквозь горькие слёзы долго искал, у кого бы разжиться табачком. Выпитая ранее чарка водки более угнетала Ивана, чем радовала весельем его сердце. Нестерпимо хотелось курить. Сгорая от собственной жадности, Жмых достал свой кисет. Лодки одна за другой начали отходить от берега. В море уходил лёгкий заработок, а на берегу Ивану оставалась лишь только чёрная зависть.
С первыми лучами солнышка разбитый месяц назад в неприметном месте Кинбурнской косы лагерь пришёл в беспорядочное движение. Заливались водой ставшие ненужными очаги. Снимались со своих мест шатры. Запрягались в повозки пригнанные сюда из Сечи вьючные животные. Всё грузилось на возы. Спрятав наконец в камышах плавней до лучших времён ставшие пока не нужными шесть лодок, немного приуставшие переселенцы, как повелось от предков, присели на дорожку. По команде полковника Поддубного Гаврилы Степановича дружно поднялись на ноги и, ещё раз оглядевшись, начали грузиться на свои повозки. Возницы громко покрикивали на животных. Быки, тужась, разгоняли повозки. Скрип колёс слышен был далеко. Утренний ветерок лениво трепал густые кроны придорожных деревьев. Острый запах дегтя подхватывал свежий поток воздуха с востока и уносил его вместе с собой на запад. Растянувшийся по дороге, обоз взял курс на Азов.
Иван Жмых брёл по дороге налегке. Все его нехитрые пожитки не занимали много места в повозке Панаса и Оксаны и катились в самом хвосте обоза. Скверные мысли более не тревожили сознание Ивана. Теперь затея заработать копейку на басурманской соли казалась успокоившемуся Жмыху совершенно нелепой. Он нежно тронул пальцами правой руки золотые монеты, аккуратно зашитые в жилете на всякий случай, опасливо оглянулся и, не заметив ничего подозрительного, хитро улыбнулся.
«Главное, не продешевить при разделе землицы на новом месте», – подумал Иван и прибавил шагу.
Шустрая Дорошенчиха обгоняла Жмыха и, не поздоровавшись, озабоченная чем-то важным, поспешила дальше. Бесстрашно подминая босыми ногами придорожные колючки, поджарая старушка с лозиной в руке кинулась к приотставшей козочке. Крепко стеганула непокорное животное, которое, взбрыкнув задними ногами, стремительно понеслось догонять свое козлиное стадо. Жмых хотел было подколоть беззубую повитуху, но сдержался. Побоялся её сынов. Правда, не этих шестерых, мирно идущих в обозе за своими повозками, а самого младшего, седьмого по счёту, который гарцевал на арабском скакуне в вооружённом отряде Никиты Скибы во главе колонны. Не спеша, с достоинством на лоснившемся лице, приблизился Иван к повозкам братьев Дорошенко. Жмых сгорал от зависти. Богатство Дорошенков на повозках было несметным. С особенным интересом Иван рассматривал бочки на телегах, в которых, по его убеждению, была запечатана солонина и сало. На некоторых из них сквозь клёпки проступал топлёный жир. Чесночный запах залитых смальцем колбасок нагонял во рту вдруг проголодавшегося Жмыха слюну. Громко сглотнув, Иван почувствовал страшный приступ голода. Поравнявшись с крепко стоящими на ногах пановьями из полтавского куреня, Жмых учтиво поздоровался. За всех ответил старший брат Андрон. Разговор с панами как-то сразу не завязался. Иван переступать через своё самолюбие не стал и, сохраняя важность достойного человека, с озабоченным видом двинулся к повозке Семёна Дрозда. Не утруждая себя на приветствие, Жмых по-деловому осведомился:
– Ты, пан Дрозд, хорошо ли своих тварей в уликах залепил? А то, не ровен час, вылетит твоё ястребиное племя и задаст жару твоим ленивым быкам. Батюшку Серафима не смети на пути. Бери чуточку правее… Когда Гаврилу Степановича на повороте обходить станешь, то не забудь ему честь отдать. Он это любит.
Семён заёрзал на своём месте, с недоверием заглянул в лукавые глаза Ивана и на плоскую шутку злиться не стал.
– Своих пчёлы не тронут, – простецки рассудил он. – Но вот тебе, пан Жмых, точно жару поддадут. Пыль до небес поднимешь и первым в новые земли с докладом явишься. Времени на низкие поклоны у тебя точно не будет. Поверь мне на слово, я-то своих ястребков знаю.
Мужики подхватили эту тему со всех сторон. Издёвки и хохот посыпались на оторопевшего Ивана. Отец Серафим, видно, представил несущегося в пчелином рое Жмыха, просветлел лицом и улыбнулся. Остап Головченко предложил растерявшемуся Ивану табачку на дорожку, и тот, подавляя в себе смущение, загоготал вместе со всеми, принимая колкие остроты в свой адрес как должное. Затем забрался на облучок к Остапу, разжился у него обещанным табачком и ехал спокойно с ним, пока колонна не остановилась перед крутым спуском.
Первым решил испытать спуск с кручи сам Гаврила Степанович. Он предусмотрительно ссадил с повозки жену с годовалым сыном и дочку. Лёгкий возок, подпрыгивая и опасно кренясь, стремительно понёсся вниз, за ним следом бросилась дочь Марийка. Жена Евдокия, крепко прижав к груди сына, оцепенев от страха, шептала молитву Богородице. Мужики неодобрительно зашумели. Всё закончилось бы плачевно, если бы не послушные кони. С бледным, как мел, лицом лихой возница неловко спрыгнул с облучка на землю и, подавляя противную дрожь в коленях, успокаивал поочерёдно то громко ревущую дочь, то нервно храпящих коней с пеной на губах.
Перед спуском тяжёлых повозок опытные в этом деле казаки мостили проезжую часть камнями и припасёнными для этого случая брёвнами. Буквально на руках спускали осторожно с кручи тяжеленные телеги. Незло бранились. От женской помощи наотрез отказывались, а когда усталость брала верх, садились в тесный круг на перекур. Но долго не засиживались и дружно брались вновь за работу.
Наконец и похожая на кибитку скоморохов повозка Панаса и Оксаны легко и торжественно скатилась вниз. Умаявшиеся мужики, наконец, удовлетворённо вздохнули, и колонна переселенцев благополучно двинулась дальше по степи Черномории.
В пятидесяти верстах южнее Азова, понадёжнее укрывшись в плавнях, Митя Борода и Хома Окунь принялись наблюдать за армейским постом расположимся с левой стороны военного тракта. Со стороны непроходимых плавней небольшая пограничная застава меньше всего ожидала неприятеля, поэтому в тылу сторожевого поста царила настоящая мирная жизнь. Возле родника, бьющего прямо из-под земли, дымила солдатская кухня. Бравый повар в белом колпаке и переднике время от времени огромным ковшом на длинной деревянной ручке мешал в котлах приготовляемую им пищу. Его помощник, обнажённый по пояс, не спеша носил вёдрами воду, рубил топором пиленые чурки. Справа от полевой кухни, возле почти зарытой в землю бани, была сооружена запруда, куда весело стекала вода резвого родника. На пологой стороне вымощенного камнем искусственного водоёма несколько солдат стирали свои одежды. Постирушки сохли тут же, на натянутых меж деревьями верёвках.
Хоме быстро наскучило никому не нужное наблюдение. Ему до смерти хотелось курить. Он с нескрываемой завистью смотрел на бронзового от загара кухонного работника, беззаботно пускающего дым цигарки, и сгорал от распалённой внутри себя страсти. Окунь жадно сосал свою пустую люльку, отчего острое желание подымить становилось меньше. Стараясь не думать о заветном табачке в его кисете, Хома переключил своё внимание на уже знакомую фляжку на Митином поясе, и от этого ему сразу стало легче.
«Сейчас глоточек горилочки совсем не помешал бы», – подумал Окунь и громко сглотнул. Митя, впившись глазами в свою подзорную трубу, не замечал вокруг себя ничего. Хома обиженно надул губы и некоторое время сидел неподвижно, уставившись в одну точку. Селезень и шесть уточек подплыли к засаде. Окунь заинтересовался наглой дичью и даже подумал, как бы смастерить кое-какие силки, но шум подымать из-за нескольких тварей смысла не было. Добрая затея не состоялась по ряду причин, и он ещё разок жадно полюбовался доброй фляжечкой, и в пустом желудке его невыносимо засосало. Дальнейшая жизнь для Хомы стала хуже горькой редьки. И он, не придумав ничего лучшего, чем поудобнее прилечь, удовлетворённо закрыл глаза. Вредный гнус наседал на затихшего Окуня, и тот лениво отбивался от него своей огромной ладонью.
После обеда на укреплении вновь воцарилась тишина. Часа через два вдруг всё пришло в движение, и Митя Борода понял, что обоз с переселенцами уже недалеко. Вскоре, поднимая придорожную пыль, голова колонны показалась на дороге. Упершись в приграничный шлагбаум, остановилась. Злые собаки казаков не подпускали близко любопытных военных, их злобный лай слышен был далеко. Старшина переселенцев поздоровался за руку со старшим офицером заставы. Они отошли в сторону и долго о чём-то толковали. Затем прошли в штабной шатёр, вслед за ними туда же занесли подарки. Шустрые служивые тайком от глаз начальства разживались у переселенцев водкой и салом. Митя поддал кулачищем под бок Окуню. Тот от неожиданности громко охнул и подскочил, глупо моргая глазами. Стая уток кинулась в испуге врассыпную. В недрах встревоженного грубым способом сердца перепуганного не на шутку Окуня вспыхнула ответная ярость. Гнев на какое-то мгновение перекосил лицо Хомы, но опомнившись, он решительно взял себя в руки, и животная злоба тут же изменилась на лице на льстивую улыбку.
– Видишь при обозе вооружённых людей? – строго спросил Окуня Митя и сунул в руки Хоме подзорную трубу. – Возьмёшь Ваньку Палицу с его дружиной и избавьтесь от них как можно скорее. Лишние свидетели нам ни к чему.
Хома неловко водил оптическим прибором в разные стороны. От зоркого глаза Бороды не ускользнуло, что один из казаков, привстав в стременах, стал внимательно смотреть в сторону вспорхнувших с воды уток.
«Ещё не хватало, чтобы этот недотёпа по солнечным зайчикам раскрыл нашу неплохо организованную засаду», – с ужасом подумал умеющий всё предугадывать наперёд Митя и резко вырвал из рук Хомы подзорную трубу. На последующие возмущения Окуня разъярённый не на шутку Митя пригрозил кулаком. Остро понимая опасность своего шаткого положения в шайке, Хома, тяжело дыша, покорно затих.
После улаживания некоторых формальностей переселенцы двинулись через заставу дальше, по своему строго обозначенному маршруту.
Жажда лёгкой наживы и собачье чутьё помогли Хоме выследить отряд Никиты Скибы. Затаившись в засаде, разбойники терпеливо ждали, когда казаки спешатся. Никита неловко соскочил с коня на землю. Невыносимой болью отозвалась старая рана в правой ноге. Ничуть не изменившись в лице, Скиба молча сунул поводок уздечки в руки Андрийки. Заметно прихрамывая, Никита двинулся было к воде лесного озера, но не найдя глазами подходящего места, чтобы присесть, резко развернулся на девяносто градусов и пошёл вглубь поляны к поваленному дереву. Там присел, умостив, наконец, разболевшуюся ногу поудобнее. Место для большого привала выглядело неплохо. Густой лес надёжно прикрывал бы уставших людей от палящих лучей солнца. Кругом сухого валежника полно. Пресной воды в озере было немерено. Правда, в верстах семидесяти на восток, возле села отставных военных, поблизости леса не было, но зато подножного корма для животных на заливных лугах имелось предостаточно. Никита бережно поправил почти успокоившуюся ногу. Возле голенища сапога орава муравьёв тащила в муравейник растерзанного, но ещё живого богомола. Подошва стопы ноги, раненной ещё в турецкую кампанию, горела огнём. Преодолевая острое желание тотчас разуться, Скиба невольно глянул в сторону оставленных коней. Незнакомый казак уверенной походкой подошёл к размечтавшемуся Андрийке и резким ударом кулака сшиб его с ног. Тут же, отрезая все пути к отступлению, вынырнули из-за кустов вооружённые люди. Впереди всех с огромной дубиной в руках смело шёл вперёд Ванька Палица. Тут же забыв про боль в ноге Никита, словно ужаленный, вскочил на ноги.
– Хлопцы, к нам гости, – плохо подчиняющимся голосом прохрипел Скиба.
Казаки мгновенно собрались возле своего командира и, обнажив оружие, изготовились к предстоящей сечи. Не упуская из глаз здоровенного Ваньку, Никита принялся вслух оценивать сложившуюся обстановку.
– Грамотно заперли нас со всех сторон эти черти. Без хитрого манёвра вряд ли обойдёмся. Действовать, хлопцы, будем как в прошлой турецкой войне. Помнишь, Василь Петрович, мы тогда важного эфенди в плен взяли. Сегодня, правда, не тот день. Действовать будем как тогда, но брать в плен уже никого не станем.
После этих рассуждений Скиба опустился на колено. Василь зашёл сзади и замер. Когда до верзилы-разбойника оставались считанные метры, Дорошенко легко заскочил на скибины плечи. Тот словно пружина, распрямился во весь свой рост и Василь птицей взмыл в небо. Верзила с огромной дубиной в руках инстинктивно присел, и в тот же миг сабля перевернувшегося в воздухе Дорошенко раскроила ему незащищённый затылок. Рванувшийся вперёд Никита сокрушил противника справа. Приземлившийся на землю Василь срубил разбойника слева. В образовавшуюся брешь молнией прошмыгнули стоящие наготове остальные казаки. Лишившись богатыря-главаря, разбойники ещё некоторое время ожесточённо боролись за свою жизнь, но сечевики владели военным искусством намного выше, чем душегубы, поэтому через несколько минут всё было кончено.
Василь подошёл к человеку, одетому как запорожский казак, лежащему вниз лицом на земле и хотел за плечо развернуть его на спину, но тут неожиданно мертвец ожил. Резко ударил растерявшегося Дорошенко кинжалом в грудь. Василь запоздало отреагировал на молниеносное движение руки разбойника. Лезвие острого клинка вскользь прошло по броне под рубахой. Распороло вдоль широкий рукав и на излёте задело не защищённую ничем руку выше локтя. Василь отпрянул в сторону, зажав правой рукой глубокую рану. Хома проворно вскочил на ноги и огромными прыжками бросился в сторону коней. Никита в это время приводил в чувство Андрийку. Преследовать самозванца не стал, а выстрелил в него из пистоля. От громкого выстрела Андрийка открыл глаза. Подоспевший Дорошенко подмигнул ему озорно глазом. Разорванный рукав его рубахи быстро напитывался кровью.
– Вспомнил я его, атаман, – Василь кивнул в сторону только что убитого Хомы. – С Яика он. У нас в Сечи у Осипчуков в Васюринском курене квартировал. Сам Тарас ушёл за Дунай, а этот гад в лихие люди подался.
Никита в ответ лишь безразлично махнул рукой. С отеческой нежностью заглянул в глаза поднявшемуся на ноги Андрийке, и только затем пересчитал всех своих людей.
– Слава Богу, все целы, – с нескрываемой гордостью произнёс Скиба.
– Клим, – обратился Никита к пожилому казаку, заботливо поправляющему подпругу на своём коне. Сдерживая улыбку, глянул в полные слёз глаза Андрийки и, сделавшись вдруг серьёзным, продолжил свою прерванную мысль: – Посылай почтарём донесение. Пускай наши в сторону Гвардейского села немедля направляются. Там место получше будет. Сейчас только Петровича перевяжем и по коням, хлопцы.
Голубь взвился в небо. Казаки вскочили на своих коней. Некоторое время расчётливо поплутали по лесу и только перед самой дорогой остановились, чтобы снять с копыт разгорячённых животных кожаные мешочки. Вскочили вновь в сёдла и, прижавшись к гривам своих скакунов, понеслись во весь дух в сторону села.
Митя всё видел. Именно такой исход разбойничьей вылазки он себе заранее представлял. Смерть лесных дружков, с которыми ещё совсем недавно делил хлеб насущный, он воспринял без всякого потрясения. И только распластанное тело Хомы Окуня, с груди которого его бывшие товарищи сорвали крест Господень, вызвало на слегка побледневшем чисто выбритом лице Мити что-то вроде горькой усмешки. Совладав со своими совсем не православными чувствами, приняв на лицо смирение, Митя трижды перекрестился.
«Многим сегодня уже не суждено будет собраться к ужину в нашем логове», – с сожалением подумал он. «Да и оно всё к лучшему», – успокоил себя Митя.
Ловко подхватил с земли котомку и уверенно зашагал в сторону плавней, в густых камышах которых ждала его лодка. Решительно оттолкнулся от берега и, налегая на весла, направил свою небольшую плоскодонную посудину в сторону нужной протоки. На полпути остановился. Перевёл дух. Внимательно осмотрелся по сторонам. На некоторое время замер, внимательно прислушиваясь ко всяким подозрительным звукам. Но вокруг было тихо и спокойно. Только неугомонный гнус, жаждущий человеческой крови, пролетая рядом с Митиным ухом, звоном малюсеньких крылышек изредка нарушал устоявшуюся в плавнях тишину.
Не теряя времени напрасно, Митя быстро сменил одежду. Поверх старой аккуратно положил подзорную трубу и пистолеты. С кинжалом старинной работы расставаться не пожелал. Спрятал его за портянкой на правой ноге. После тесных сапог ноги в просторных чунях просто блаженствовали, придавая всему телу необычную лёгкость. Достал из котомки зеркальце на длинной ручке и долго изучал своё лицо. К чисто выбритым щекам своим привыкал постепенно. Открывшиеся свету родные черты лица всё больше и больше нравились ему. Насмотревшись в зеркальце, безжалостно бросил его на пистолеты. Всё увязал в тугой узел и без всякого сожаления бросил за борт лодки. Задержал пристальный взгляд на пузырьках воздуха, подымающихся из толщи чёрной воды. Непроизвольно задумался. Светлый образ матушки согрел его сердце. Вспомнил и отца, преуспевающего купца, да непоседливых сестрёнок-близняшек. Расплывшись доброй улыбкой, вдруг неожиданно для самого себя подумал, а кого из девчонок всё же больше любил. Оказалось, что старшенькую. Спохватился. Без всякого желания прогнал прочь сокровенные мысли. Злое раздражение вызвало у Мити гримасу. Искоса глянул на солнце, перевалившее на небосклоне за полдень и, развернувшись лицом на запад, прямо в лодке принялся усердно молиться, раскачивая её поклонами. После молитвы порылся в котомке и извлёк оттуда тряпицу. Бережно развернул её. Нашёл глазами подходящий засушенный ядовитый грибок и сунул его в рот. Остальные равнодушно стряхнул в воду. Схватил в руки весло и яростно заработал им. Вскоре пристал к берегу. Прихватив котомку, ловко спрыгнул на землю. Бросил уже ненужное весло в медленно отходящую от берега лодку. Быстро взбежал на пригорок. Разгоняя птиц, ос и ящериц, утопая подошвами чуней в мягком чернозёме, пересёк вдоль поле, засеянное подсолнечником. Срывая на пути липкую паутину свободной рукой, прошёл сквозь густую лесополосу и вышел, наконец, на дорогу. Прилёг на её обочине. Съеденный часом раньше ядовитый грибок начал действовать. Митя закрыл глаза и в позе рухнувшего на землю от изнеможения человека замер. Вскоре до его слуха донёсся лай собак и скрип колёс. Как только вокруг него засуетились люди, сознание оставило его.
Не доезжая по ходу дороги полторы версты до села Гвардейское, обоз переселенцев остановился возле озера. Живо распрягали утомлённых длинным переходом животных и щедро поили их водой. Затем, надёжно спутав им передние ноги, отпускали пастись на никем ещё не топтаный луг. Внутри огромного круга, выстроенного из многочисленных повозок, словно грибы после слепого дождика, вырастали разноцветные шатры. Дым костров возле них струился в небо. Людские голоса, стук топоров слышны были издалека. В этом разумном человеческом муравейнике всем находилось посильное дело.
Безусые юнцы под присмотром Андрийки купали в неглубокой заводи боевых коней. Сам он не принимал в этом деле участия. Сильно болела голова. Заплывший огромным синяком глаз иногда дёргался. Онемевшая левая часть лица казалась чужой. Он с трудом вертел в разные стороны головой, стараясь не упустить здоровым глазом протекающую возле себя картину жизни. Иногда строго прикрикивал на расшалившихся пацанов, и те, тут же присмирев, ещё яростнее принимались тереть щётками бока фыркающих от удовольствия коней. Через силу отхлёбывая из крынки отвар терпких целебных трав, Андрийка с отвращением кривился, словно пил отраву. Головная боль постепенно отступала, но настроение по-прежнему оставалось весьма скверным.
Со стороны села Гвардейское по озеру подплыли на лодке два местных мужика. Держались они перед пришлыми людьми с достоинством. На правах знатоков здешних мест указали Дорошенкам, притащившим на берег лимана волокушу, рыбное место. Сами завезли на своей лодке рыболовную снасть, правда, тащить сеть из пучины вместе со всеми не стали. Присели в сторонке, чинно курили и о чём-то негромко перешёптывались. Вскоре волокуша вышла на мелководье, в её мотне от обилия рыбы вскипела вода. Огромные рыбные чушки, спасая свои жизни, перепрыгивали через поплавки. Рыбаков, тянущих верёвки, охватила неистовая страсть. Хуторяне, поддавшись всеобщему азарту, бросили на землю недокуренные цигарки и тоже схватились за верёвки.
Когда богатый улов оказался на берегу, сразу разбирать его не стали. Довольные удачно сотворённым делом рыбаки присели тесным кругом и под острое словцо дружно закурили. Как всегда, на общий перекур прибежал запыхавшийся Иван Жмых. Правда, на удивление многих, курить табак вместе со всеми не пожелал. На заманчивые предложения курящих лишь отмахнулся рукой. По-приятельски кивнул полковнику Поддубному и, не спрашивая разрешения у оторопевших товарищей, принялся по-хамски рыться в куче живой рыбы. На глазах приумолкших казаков Жмых нагло оттянул в сторону огромного сома. Затем, важно надув давно не бритые щёки, преспокойно стал нанизывать на заранее приготовленную ветку плакучей ивы добрых судаков. Страсти возле неисправимого наглеца накалялись. Иван, понимая, что более медлить нельзя, отложил почти законченное дело и, хитро поблёскивая глазами, как ни в чём не бывало оглядел приумолкших казаков. На суровых лицах товарищей застыл нескрываемый упрёк. Поддубный наивно улыбался и выглядел со стороны не совсем серьёзно. А вот в глазах Семёна Дрозда сверкало лютое раздражение. Иван далее испытывать судьбу не стал, но за счёт упёртости своего характера решил-таки ещё несколько мгновений поводить за нос притихший народ. Для этого вытащил из тины лягушку за заднюю лапку, и когда та принялась яростно сопротивляться, швырнул её через левое плечо. Доведённая до крайности толпа нервно засверкала глазищами. Жмых расценил этот недобрый знак как призыв к действию. Резко повернулся в сторону Остапа Головченко, загадочно сощурил глаза. Поправил для солидности тыльной стороной ладони свои пышные усы и тоном главного заговорщика, наконец, заговорил:
– У вашего кума Вареника, пан Головченко, сегодня случилась великая радость.
Пока Остап судорожно соображал, что могло важное произойти у кума, Жмых уже более времени напрасно не терял. Преданно заглядывая в глаза старшего Дорошенко, чеканя каждое слово, смело доложил: – Андрон Петрович, ваша матушка только что приняла у сношки пана Вареника казачка!
– Повезло же куму! – в сердцах произнёс совершенно не обрадовавшийся Головченко, немного помолчал и растерянно добавил: – Мне же шестерых девок Бог послал…
Младший Дорошенко – Василь, глядя в сторону, негромко, но внятно, так, чтобы расслышал раздосадованный Остап, уверенно произнёс:
– Одна краше другой…
Поддубный, сразу став серьёзным, тут же распорядился:
– Дуй, Иван, к Вареникам. Пускай готовятся гостей принимать.
Чувствуя себя на высоте, Жмых принялся объяснять Семёну Дрозду, зачем он сюда вообще явился.
– С пустыми руками, пан Дрозд, к Вареникам не сунешься. Сома тащить одному весь перепачкаешься. А вот судачка – милое дело! – Иван даже громко сглотнул слюну, представив запечённые в сметане куски рыбы.
– Вы тут управляйтесь побыстрее, а я к Никанору Сидоровичу поспешу. У меня в запасе для его внучка имеется хорошее имя.
Семён без злобы смотрел на суетившегося возле рыбы Жмыха и соглашался с ним, одобрительно кивая головой. Казаки воспрянули духом. Зашевелились. Хитро перемаргиваясь, закадычные приятели тут же оговаривали время, чтобы вместе нагрянуть к Вареникам. Новость, принесённая Иваном Жмыхом, была хорошим поводом. Теперь надо было быстрее заканчивать с рыбалкой, чтобы не опоздать на праздник.
Никанор Сидорович Вареник принимал активное участие в последней военной кампании под знаменем Войска Запорожского. За личную отвагу и мужество был особо отмечен российским командованием и награждён самим Суворовым медалью, которой дорожил больше всего на свете. Упразднение Сечи воспринял болезненно, и свой запорожский чуб сбривал со слезами на глазах. Теперь, когда видел своё отображение в зеркале, в сердцах плевался.
Когда Иван Жмых с важным поручением от товарищей подбежал к шатру Вареников, Никанор Сидорович, одетый по-праздничному, цедил горилку из бочки в стеклянную четверть. Он так был увлечён этим тонким делом, что ничего вокруг себя не замечал. Пока настраивал желаемый процесс, не отказал себе в добром глоточке. Хорошая водка мягко провалилась в его утробу, и теперь живительным теплом растекалась по всем членам его тела, отчего на сердце с каждой последующей минутой становилось веселее. Очень довольный своим хорошо выдержанным детищем, Вареник пристально всматривался в кристально чистую струйку, свободно падающую в бутыль, и под приятное журчание чудотворной жидкости усиленно допытывался у самого себя, когда же он закупорил этот заветный бочонок.
– В тот год ещё слив было видимо-невидимо, свиней ими вдоволь кормили. Вместе с кумом тогда мешками таскали на свои дворы спелые ягоды…
Никанор Сидорович закрыл глаза. Задумался.
– Точно! – хлопнул себя по лбу ладонью правой руки и громко воскликнул осенённый правдой того времени Вареник. Открыл глаза, хитро улыбнулся и уверенно продолжил свою только что прерванную мысль дальше. – Тогда ещё жена Остапа Григорьевича брюхатой ходила. Кумовья страсть как ждали сыночка… А родилась Стешка, шестая по счёту дочка. Ей на нынешнее Преображение как раз десять лет стукнуло. Отсюда, значит, и бочоночку моему десять лет исполнилось тоже.
Переполненный радостными чувствами, Вареник удовлетворённо утёр усы и нежно погладил ладонью шершавые клёпки старой бочки. Вдруг спохватился, решительно перекрыл струйку и заткнул наполнившуюся четверть очищенной кукурузной кочерыжкой, чтобы сливовый дух горилки впустую в воздух не улетучивался.
Жмых кротко ожидал, переминаясь с ноги на ногу, жадно потягивая своим похожим на картошку носом идущий из-за шатра аромат дыма шкварки и жареного лука. Видя, что Никанор Сидорович, наконец, покончил со своим делом, Иван негромко кашлянул, таким доступным образом пытаясь ненавязчиво обратить на себя внимание. В тот же миг из-за шатра выскочила Ганна – младшая сестра пана Вареника. Жмых от неожиданности вздрогнул. Сердце его учащённо забилось. Он посмотрел на Ганну и сразу смутился. Она была для него уж очень хороша. Даже по-старушечьи повязанный на голове платок не мог скрыть милых черт её смуглого лица. Ганна увидела Ивана, робко застывшего на месте, и, понимая, что она значит для его мужского сердца, необузданно поблёскивая чёрными жгучими глазами, незло забранилась:
– Что это вам тут, пан Жмых, мёдом намазано?
Иван совсем растерялся, покорно потупил взгляд, потеряв дар речи навсегда.
Ганна напротив, остро чувствуя над ним своё женское превосходство, властно шагнула навстречу и, прилагая определённое усилие, отняла-таки из цепких ручищ Ивана вязку отборных судаков. Вызывающе глянула в глаза Жмыху и, звонко смеясь, плавно покачивая бёдрами, достойно удалилась с глаз долой.
«Голубка моя ненаглядная», – переполненный чувствами к Ганне, вдруг запричитал в сердце осмелевший Жмых. Но вместо ласковых слов в адрес удалившейся зазнобы, Иван лишь приятельски улыбнулся Никанору Сидоровичу. Мгновенно сорвав шапку с головы, Жмых хотел было молвить слово, но вновь появилась Ганна. Вдовьего покрова уже не было на её милой головке. Тугая, цвета смоли коса, украшенная ярко-красным бантом, с вызовом спускалась на высокую грудь. Она широко улыбалась, вгоняя в краску неуклюжего гостя. Ямочки на спелых щеках делали личико Ганны ещё желаннее. В одной руке она держала глиняную миску с прошлогодними солёными грибами, в другой – миску с дымящейся картошкой, щедро присыпанной сверху жареным салом с луком. Прекрасная и серьёзная Ганна низко поклонилась опешившему вконец Ивану и ангельским голоском начала зазывать застывшего с глупым выражением лица растерявшегося Жмыха в гости:
– Проходите, гости дорогие. Не стесняйтесь. Выпивайте и закусывайте на здоровье. Радость у нас великая. Казак в семье родился.
Сгорая от нежности, Иван посмотрел на искренне кланяющуюся Ганну, твёрдо решая для себя, что вдовий век для неё уже закончился.
Никанор Сидорович давно приметил великое смущение гостя и, разряжая обстановку, ласково распорядился:
– Иди, Ганночка. Помоги лучше Екатерине Ивановне. Спроси там, может, что Дуняшке нужно… А у нас с паном Жмыхом мужской разговор будет.
Беспрекословно подчиняясь старшему брату, кротко потупив в землю свои беснующиеся озорными огоньками глаза, Ганна покорно удалилась. Вареник, утерев своей широкой ладонью усы, щедро разлил по стаканам горилку. Иван взял свой налитый до краёв михалик и, глядя в голубые глаза Никанора Сидоровича, предложил:
– Богдан – хорошее имя.
Вареник в ответ помрачнел, отрицательно покачал головой и, чтобы не обижать гостя, тщательно подбирая слова, принялся объяснять Ивану, почему этим именем назвать внучка невозможно.
– Имя Богдан в нашем народе знатное. Только вот сношка моя Дуняшка настояла Егором сыночка назвать, в честь его папаши непутёвого. Может быть, с Божией помощью ещё одумается. Там, за Дунаем, православному люду несладко.
После этих, весьма тяжёлых для себя слов, Никанор Сидорович сник. Опустил переполненные слезами глаза.
– Грех-то какой, – со вздохом выдавил он из груди.
Иван, понимая, что попал в живое уважаемому человеку, и заглаживая свою промашку, решительно прибегнул к мудрости древних.
– Храни, Господи, новорожденного казака Егора! – уверенно заговорил Жмых, а далее они уже произносили вместе:
– От сглаза, зависти, соблазна и предательства! От шальной пули и острой сабли!
После этого заклинания поднялись на ноги. Трижды перекрестившись, выпили горилки.
Вареник бросил в рот грибочек, Иван же, довольный собой, закусывать не спешил. Достал люльку и принялся набивать её табачком из предложенного Никанором Сидоровичем кисета. Со всех сторон к шатру Вареников уже спешили гости.
День великого равноденствия медленно завершался. Пушистые стрелки нежно-белых перистых облаков на чистой лазури неба и великая сила живительного света тонко играли сейчас с человеческим воображением. Поэтому живописную картину на мгновение замершей во времени вечерней зорьки потерявшее от доброй чарки чувство времени человеческое сознание могло легко воспринять за ранний час рассвета. И только точно знающие свой срок комары кружили над прибрежным камышом огромный хоровод. Осмелевшие в сгущающихся сумерках лягушки орали свою дикую песню на все просторы плавней. С востока решительно надвигались на засыпающую до утра землю чёрный мрак и прохлада.
К этому часу добрый повод у Вареников обернулся для всех переселенцев во всеобщий праздник. Щедро накрытый стол ломился от еды и выпивки. Наскоро утолив голод, резвая молодёжь за праздничным столом долго не засиживалась. Весело суетилась на просторной поляне. Одни стаскивали всё, что горит, для костра. Другие, собравшись тесно в круг, соревновались в танцах. Степенные ветераны, напротив, из-за стола выходить не спешили. Веселили доброй горилкой сердца, основательно ублажали жирным кусочком ненасытное чрево. Охотно судачили на древние темы, настырно спорили, а то и вовсе громко ругались.
Подвыпивший Иван Жмых, видя, как возле Ганны увивается Федька, сын хуторского старосты, быстро потерял всякий интерес и к еде, и к выпивке. Чтобы хоть как-то подавить в себе коварные мысли, Иван, не раздумывая, вышел на круг к молодым и что есть мочи принялся на зависть всем отплясывать гопак. Так увлёкся неистовым задором танца, что дед Федос не выдержал, ворвался в круг, чтобы противостоять Ивану. Вначале даже на какой-то миг превзошёл Жмыха, но после сложного движения сник от острой боли в пояснице. Его жена, тётка Приска, мигом пришла ему на помощь. Бережно подняла с земли любимого мужа и под обидное улюлюканье бесстыжего молодняка увела горе-танцора на место за столом. Федос даже не расстроился, выпил горилки и простодушно улыбался в свои густые усы. Приска, жалея мужа, грозила кулаком в сторону распоясавшейся молодёжи. Иван, поймав кураж, зашёлся в танце еще быстрее, а Ганна, видя на лице его бесовскую усмешку, невольно подумала о человеке, найденном на обочине дороги. Сердце её дрогнуло и, гонимая нежными чувствами влюбившейся с первого взгляда женщины, поспешила к своему шатру.
Семён Дрозд, отведав чарку горилки, сильно раздобрел сердцем и во хмелю лез ко всем целоваться. Когда он столкнулся со Жмыхом, оба обрадовались друг другу и тут же крепко облобызались, целуясь как добрые верные товарищи. Теперь, обнявшись, шлялись вокруг ещё не зажженного костра. Иван жадно искал глазами куда-то исчезнувшую Ганну, но взглядом как назло натыкался на ненавистного Федьку. Когда они с Семёном проходили мимо Фёдора, Иван ткнул его крепко кулаком под бок, расчётливо подтолкнув Семёна вперёд. Ни о чём не подозревающий Дрозд полез к разъяренному Федьке целоваться, но получив ответный удар в лицо, шлёпнулся на задницу. Горячие дружки Фёдора дружно набросились на пытающегося встать на ноги Семёна, но очень ловкий в кулачном бою Жмых легко разделался с ними.
Чужак лежал на лавке под открытым небом, уткнувшись широко открытыми глазами в ночные звёзды, укрытый овечьим одеялом. Сердце Ганны трепетно забилось в груди. Не испытывая робости, она подошла к очнувшемуся мужчине. Приподняла рукой его голову и напоила полюбившегося с первого взгляда мужчину из заранее приготовленной крынки терпким отваром целебных трав.
– Вы спите и ни о чём не думайте, – нежным голосом произнесла Ганна. – Мы, казаки, никого в беде не бросаем. Вы, милый человек, в бреду имя своё постоянно произносили, поэтому наш полковник Гаврила Степанович Поддубный, дай ему Бог здоровья, записал вас в казённую книгу как Дмитрия Найденого. Теперь вы наш казак, – после последних слов, не скрывая своих истинных чувств, зардевшаяся щеками Ганна открыто улыбнулась. Правда, став сразу серьёзной осторожно добавила: – Захотите, у нас в товарищах будете жить, не захотите, пойдёте своей дорогой.
Последние слова Ганна произнесла с явным сожалением. Дмитрий в ответ лишь тяжело вздохнул и закрыл глаза. Ганна невольно прислушалась к его ровному дыханию и успокоилась. Заботливо поправила на больном покрывало. Крики заставили её оглянуться в сторону озера, и она, гонимая уже женским любопытством, кинулась туда, где что-то бедовое, по её мнению, произошло.
Как взбесившегося быка, мужики сдерживали Ивана, но тот, видя бегущую в его сторону Ганну, вырываясь из цепких рук мужиков, набивая себе цену, громко твердил:
– Моих товарищей обижать не позволю!
Дрозда подняли с земли. Пытали вопросами, но он, зажав ладонью глаз, ответить что-то внятное не мог.
Крайне раздражённый дерзким поведением сына и его дружков, хуторской староста, резко высказываясь, отправил зачинщиков драки на хутор и теперь извинялся перед Гаврилой Степановичем, как мог.
Наконец на поляне разожгли костёр. Яркие языки жаркого пламени лизали ночное небо. Тысячи мелких искр неслись ввысь к ярким низким звёздам. Страсти быстро улеглись, и праздник пошёл опять своим чередом.
За несколько верст до поселения Старо-Редутска все переселенцы воспрянули духом. Почувствовав конец тяжёлому переходу, вьючные животные прибавили ходу. Вооружённый отряд Никиты Скибы, чинно держа строй, двигался во главе колонны. Только один возок Оксаны и Панаса из-за разболтавшегося колеса начал безнадежно отставать.
Клим Борщ открыл клетку на своей повозке и громким свистом поднял в небо голубиную стаю. Через мгновение со стороны старой крепости, южнее поселения, взмыл ввысь одинокий голубок. Стремительно догнал стаю и возглавил её. Переселенцы упрямо двигались вперёд, а когда вся колонна подвод открылась виду, на звоннице Старо-Редутской церкви дружно ударили разноголосые колокола. Голубки в небе вздрогнули и, так и не завершив огромного круга над некрасовским хуторским поселением, резко ушли в сторону крепости, где и приземлились на жерди, установленные на восточной башне. Казаки в обозе, обнажив головы, размашисто крестились. Переселенческие собаки держались ближе к своим хозяевам, нервно тянули увлажнёнными носами чужой воздух, злобно скалились. Справа от дороги, по которой упрямо двигался вперёд обоз с переселенцами, крутя водовороты, несла своё неукротимое течение река Кубань. Жёлтая листва засыпающих плакучих ив щедро сыпалась во вспученные пеной воды. С высоты естественной дамбы хорошо просматривалась всё хуторское поселений некрасовцев. В диковинные краски кубанской осени сказочно вписывались крытые чаканом казачьи хаты. Поля в округе были убраны, и в стерне рылась бесчисленная свора прожорливого воронья. Сизый дым из многочисленных крестьянских кухонь струился в небо. Колонна, не снижая набранного темпа, прошла на своём пути разъезд, одна дорога которого спускалась в обжитую низину и делила казачье поселение на две равные части. Идеальным кругом оборачивалась вокруг церкви, стоящей на каменном фундаменте, и точно таким же изгибом, как русло Кубани, убегала за дубовую рощу. Вторая дорога шла поверху насыпи и уходила крутым подъёмом в огромный зев главного входа старой крепости. Драчливый кобель семьи «гетманов» смело бросился на местного пса, но тот оказался не из робкого десятка, и если бы не местные сорванцы, пришедшие поглазеть на пришлый издалека люд, то смертельная схватка между злобными кобелями плачевно закончилась бы для обеих собак. Скрипя колёсами, не обращая ни на что внимания, обоз уверенно пошёл на штурм последнего на своём пути подъёма. У подножья земляного вала крепости, заросшего низкой акацией, тожественно застыли все те, кто обязан был обеспечить вновь прибывшим первую зимовку. Колонна, сходу преодолев подъём, наконец, остановилась. Старший строитель Пантелеймон Галушко и его жена с караваем, испечённым из здешней пшеницы, первыми двинулись навстречу только что прибывшим родственникам, за ними, радостно улыбаясь своим родным и близким, последовали все остальные. Отряд верховых казаков-некрасовцев терпеливо дождался конца торжественной встречи. Когда первые повозки начали заезжать по вновь наведённому мосту на территорию крепости, старший из местных казаков спешился и запросто подошёл к полковнику Поддубному, и они, горячо пожимая друг другу руки, познакомились.
– Мы вас, если честно, просто заждались, – обрадованно говорил поджарый некрасовец.
Ему тут же поднесли чарку горилки. Он, не раздумывая, одним глотком осушил её. Закусывать не стал. Раздобрев от выпитой чарки, открыто глядя в глаза Поддубному, гостеприимно предложил:
– Давай-ка ко мне на постой, Гаврила Степанович.
Жена полковника Евдокия сразу обрадовалась и, подхватив на руки сына Мишутку, засуетилась, но вдруг опомнилась, робко взглянула на мужа, за которым оставалось последнее слово.
– Да нет, Аким Федотыч, спасибо тебе за приглашение, но стеснять до вешних дней твою семью не стану. Перезимуем здесь, как и все остальные.
Некрасовец уговаривать более не стал. Ему вновь поднесли чарку водки. Он лихо выпил и, хитро поблёскивая глазами, пошутил:
– Оглоблю в наших краях весной посади, а осенью уздечки собирать станешь.
Шутка явно удалась. Верховые заразительно засмеялись. Запорожцы дружно поддержали всеобщий смех. Вокруг воцарилось приятельское оживление.
Акиму Федотовичу вновь поднесли полную до краёв чарку, он выпил, оторвал сверху предложенного каравая подгорелую корочку, бросил её в рот. Пока медленно пережёвывал хрустящий на зубах хлеб, мучительно ждал, когда же, наконец, эта лишняя водка приживётся в его утробе.
Ему явно нравились эти простые люди. А в глазах украинцев светилась взаимная симпатия. Им тоже нравилось, как местный казак-некрасовец умело разбавлял украинскую мову и понятно для всех балакал, как лихо пил водку и с достоинством при этом держался. Они даже завидовали его мягким, блестящим, с обрубленными носками чёрным сапогам, его бешмету, пошитому из добротного сукна, кинжалу искусной работы в богато украшенных серебром ножнах, папахе с красным верхом, на край которой с вызовом для всех закручивался чуб.
– Спасибо, братцы, – с поклоном произнёс поймавший, наконец, кураж некрасовец, тем самым благородно отвергая следующую чарку, и легко вскочил на своего боевого коня. – От баньки не откажи, – придерживая горячего скакуна, на прощание попросил он Поддубного. – Много вопросов нам сегодня решить надобно. Тарантас к вечеру пришлю…
Обнадёживая всех остальных на будущее, поделился далеко идущими планами:
– Обоз с хлебом к Рождеству к нам на Кубань прибудет. Солдат из Копыла весной в помощь выделят. Сам Суворов Александр Васильевич обещал мне лично. Саман вместе мешать будем. К следующей осени всем вам хаты обязательно поставим.
И они, со стороны больше похожие на свирепых черкесов, прижавшись к гривам своих скакунов, понеслись в сторону своего села.
Тотчас прибежал из некрасовского поселения звонарь и упал в ноги отцу Серафиму.
– Батюшка, принимай церковь нашу, – громко взмолился звонарь: – Наш-то антихрист тайно сбежал куда-то. Дьякона Илью три месяца назад похоронили. Мне по сану не положено службу в церкви править.
Отец Серафим бережно поднял с земли на ноги звонаря, и они пошли по направлению к церкви. Звонарь эмоционально размахивал руками, продолжая, по всей видимости, горько жаловаться на судьбу.
К сумеркам въехала в крепость починенная кибитка Панаса и Оксаны. Вопросительным кивком головы полковник поинтересовался у перепачканного липким чернозёмом Панаса как дела. После положительного ответного кивка хранителя казны криво улыбнулся. Слово казна никак не подходила к зарытому в землю добру. Мешочек с мелкими турецкими алмазами да полтора фунта золотого песка больше походили на тёщину заначку, спрятанную на чёрный день.
– Ну и добре, верные мои хранители, – негромко произнёс полковник Поддубный и после тяжёлого вздоха добавил: – Отдыхайте, утро вечера мудренее.
И непроизвольно повернул голову на звон колокольчика. По дороге к старой крепости из Старо-Редутского поселения мчался обещанный Акимом Федотовичем тарантас.
Молодой воин Нарым примкнул к знамёнам «развратников» из джамбулуцкой орды. Высокий, ловкий в джигитовке татарин сразу приобрёл расположение у военачальников войска и тут же был зачислен в сотню личных телохранителей Батыр-Гирея. Родом из простой семьи, Нарым не понаслышке знал житейскую нужду, а теперь, видя своими глазами роскошь, в которой жил крымский хан, в глубине своего сердца тайно завидовал ему.
В последнее время в гости к Батыр-Гирею зачастили посланники из Турции. Мелик своим красноречием и щедрыми обещаниями ничем не отличался от многих своих предшественников. А вот размерами своего тела с ним никто не смог бы сравниться. Даже широченная одежда не могла скрыть с глаз его полноты. Расплывшись в кресле, жирный Мелик жадно разглядывал на праздничном столе, давясь слюною, всевозможные яства и, не в силах более сдерживать в себе внутриутробный позыв, впился зубами в лакомый кусочек.
После того как внутреннее пространство турецкого посланника заполнилось едой, он удовлетворённо откинулся от стола с объедками на спинку кресла. Батыр-Гирей, чтя гостеприимство, предложил насытившемуся гостю сыграть партию в нарды. За игрой Мелик впихивал в себя маленькими рюмочками анисовую водку. Хан курил кальян, отхлёбывая из фарфоровой чашечки ароматный кофе. К концу третьей партии жирный турок стал часто ошибаться. Его потерявшие осмысленность глаза сами по себе закрывались, и он на мгновение, сам не замечая того, проваливался в глубокий сон, но от своего же громкого всхрапывания тут же испуганно просыпался. Чтобы избавить гостя от душевных мук, по знаку Батыр-Гирея охрана бережно взяла толстяка под руки и отвела в приготовленную для него комнату, где его уже ждала украденная три месяца назад у горцев очаровательная черкешенка.
Через три дня после отъезда Мелика Батыр-Гирей предпринял решительное наступление на русское войско, но отведав вдоволь пороха егерей и гренадеров графа Самойлова, татарские воины бесславно рассеялись, а сам предводитель «развратников» сдался в плен. Нарым чудом остался в живых; укрывшись в кубанских плавнях, он долго ждал своего часа.
Шагин-Гирей, с помощью Санкт-Петербурга утвердившись на троне крымского ханства, нескончаемыми гонениями и жестокими репрессиями нёс своим подданным беду вместо благосостояния. Хаос, постигший татарский народ, до смерти закусанный комарами, Нарым воспринял как долгожданный ветер удачи. С двумястами верными сторонниками он вскоре перебрался на Большой Шапсуг, где и провозгласил себя незаконнорожденным сыном побитого камнями Махмут-Гирея. Правда, ввязываться в боевые действия против русских войск у новоиспечённого хана не было желания. Разбив свой отряд на мелкие группы, Нарым принялся дерзко грабить царские обозы, воровать людей, торговать оружием. Самозванство не воспитывало в нём хорошие манеры, а лёгкая нажива делала из него среди таких же, как он, воинов удачи настоящего деспота.
Пышно зацвела акация. Из Босфора к северо-восточным берегам Чёрного моря пришла ставридка. От дивного аромата белых цветов колючих деревьев опьянённое сознание легко принимало дыхание дельфинов, лакомящихся где-то рядом сладкой рыбёшкой, за стоны уставших от одиночества морских русалок. Вглядываясь в кошмарную темень, замирающему от этих звуков сердцу становилось жутко. Нарушая тишину безлунной ночи, морская волна всё чаще и чаще набегала на береговую кромку. Начинался прилив.
Севернее Дооба с отвесной скалы настойчиво мигал в непроглядную темень открытого Чёрного моря яркий лучик света. С мрачного силуэта лёгшего в дрейф парусника бесшумно спустили на воду шлюпки. Когда на востоке чуть забрезжил рассвет, лодки как раз уткнулись острыми носами в кромку берега.
Мелик, несмотря на свои гигантские размеры, довольно легко спрыгнул с высокого борта лодки на землю.
– Здравствуй, Нарым-джан, – прижимая правую руку к сердцу, поздоровался первым турок и, считая, что этого достаточно для услужливо преклонившего голову татарина, громко шурша прибрежной галькой, живо направился смотреть живой товар.
Совсем юную черкешенку развязывать не стали. Она тихо лежала в стороне от остального живого товара без всяких признаков жизни. Торговцы не стали снимать с её головы мешок, скрывающий от посторонних глаз черты лица, и первой бережно уложили в лодку. Молоденький офицер сразу понравился турку, и он, заглядывая в васильковые глаза русского, предвкушая неплохую денежку за их благородие, с удовольствием причмокнул языком. Двух черкесов работорговец купил, немного поторговавшись, и те, давно покорившись судьбе, сами послушно залезли в лодку. За сильно избитого казака Мелик дал только пол суммы, и тот, понимая что теряет свободу навек, нашёл в себе силы предпринять попытку сопротивления ненавистным басурманам, но опытные чёрные торговцы быстро усмирили палками приобретённую собственность и, не портя по дешёвке приобретённый товар, аккуратно затащили потерявшего сознание казака в лодку. Последнего пленника Нарыма со следами проказы на лице испугавшийся неизлечимой заразы Мелик отказался брать даже даром.
Иван Жмых понял, что удача вновь улыбнулась ему. Он торжествовал в душе, предвкушая скорую свободу. Внешне эта радость никак не проявлялось. Серое измождённое лицо его, изуродованное гниющими ранами, вызывало животный страх перед страшной болезнью. Жить этому человеку по скорбной маске всей немощи его оставалось недолго. Покачнувшись на ногах, Жмых безвольно опустил свой тощий зад на огромный камень. Покосился на лодку, в которой бледный как мел пехотный офицер украдкой растирал грязными ладонями слёзы по щекам. Черкесы, учуяв чужую удачу, зло поглядывали на счастливчика.
«Завидуют мне, нехристи, – проливая елей на свое радостно бьющееся сердце, подумал Иван. – Чтобы уверенно в седле сидеть, надо свято помнить советы опытных товарищей», – добавил к мысли выше Жмых и брезгливо отвернулся от тупых черкесов, чтобы те не сглазили его многострадальный исход.
Чтобы не сглазить ухваченную за хвост удачу, Иван начал вспоминать и жалеть то злополучное время, когда подбил сына Семёна Дрозда осуществить набег на черкесский аул и украсть из него приглянувшуюся Константину девушку. Сработали чисто. Константин, вовремя почуяв опасность и не предупредив товарища, смылся с добычей, а вот он сам замешкался, роясь в чужом добре. Налетели со всех сторон черкесы и как петухи заклевали его.
«Если всё окончится миром, первым делом посчитаюсь с Константином. Затем уже убью своего ненавистного соперника – гада Митю Найденого. Потом отрою своё припрятанное в надёжном месте золотишко. Подлечусь у лекаря в каком-нибудь монастыре и только потом вернусь в Кулябку. Обласкаю Ганночку великой нежностью, а потом законно женюсь на ней. Заживу так, что все жители Кулябок от мала до велика завидовать станут!» – твёрдо решил для себя Жмых и криво улыбнулся.
– Нарым, я обязательно вернусь! – прорычал пришедший в себя казак. Он даже попытался вскочить на ноги, но его тут же угомонили ударом весла по голове.
Взбешённый дерзостью чуть живого казака, Нарым выхватил из-за пояса пистоль и решительно нацелил его в бездыханного наглеца. Все вокруг замерли, ожидая развязки, но жадный до злата татарин резко изменил направление своей руки и выстрелил в голову летающего в мечтах своих сладких грёз Ивана.
Оглушительный звук выстрела потряс тишину, и всё мгновенно пришло в движение. Бережно подхватив под руки своего тяжеленного хозяина, заботливые слуги подняли его на борт лодки и спешно отошли в море. Люди Нарыма, взвалив на плечи ящики с оружием, незамедлительно двинулись вглубь берега.
На востоке настойчиво разгорался восход. Чайки, почувствовав запах свежей крови, низко сновали над медленно коченеющим телом. Рокочущая волна решительно набегала на опустевший берег, крутя в своих вспученных пеной вихрах морские водоросли. В свежем воздухе уже более не чувствовался аромат цветов акации. Утро набирающего силу дня теперь остро пахло духом моря.
Время для нападения на малороссийских переселенцев с Днепра Нарым подбирал очень тщательно. Правый берег Кубани Россия обустраивала на века. Одно имя Александра Суворова на диком левом берегу реки наводило ужас. После провозглашения Тавриды на Керченском полуострове Джамбуйлуцкую орду переселяли волей Императрицы на исконную родину. Истинные мусульмане больше предпочитали Турцию, чем уральские степи, поэтому многие обиженные скверным решением российского правительства татары спешили в отряд «потомка Гиреев». Новоиспечённый вождь угнетённых ногайцев в последнее время сильно изменился. Уверовав в свою собственную непогрешимость, Нарым теперь жадно стремился к роскоши. Тесно окружив себя льстивыми людьми, он становился порой неизлечимо капризным и ранимым. Порта постепенно утрачивала свою власть над Черноморией, и Нарым чувствовал это своим сердцем. Междоусобные распри раздирали горские народы. Могущественная Россия уверенно осваивала присоединённые к Империи богатые земли на правом берегу Кубани. Аппетит приходил к ней после каждой убедительной победы над Османской империей. Плодородной земли для русских на правом берегу Кубани уже становилось недостаточно. Православный храм переселенцев из Запорожской Сечи выше Варениковской переправы позолоченными крестами подпирал небо на левом берегу реки, лишний раз доказывая всем, что освоенный клочок земли левобережья Кубани будет непременно расширяться в сторону Черного моря.
Нарым осознал, что время его прошло. Теперь необходимо было смело откусить для себя жирный кусочек, чтобы потом безбедно, но достойно дожить свой век за Чёрным морем. Нынешняя безлунная ночь подходила для коварных замыслов Нарыма как нельзя лучше. Лошадь под татарином, опустив голову почти до самой земли, уверенно ступала по бездорожью. Вооружённый отряд ногайцев за версту обходил все открытые места и проезжие части, страшась ненароком нарваться на казачий разъезд. Поэтому передвигались с большой осторожностью, словно призраки. Наконец достигли окраины скошенного луга и возле первых стогов молодого сена спешились. Разбившись на три отряда, нарымовские воины разошлись в темноте в разные стороны. Нарым со своими верными людьми осторожно двинулся вперёд в центральном направлении. Уже отчётливо слышался собачий лай. Ночной воздух пахнул дымом.
«Не все неверные ещё спят», – подумал Нарым.
Остановился. Подал знак, и воины за его спиной послушно залегли. Сам же, неподвижно застыв на месте, долго прислушивался к звукам ночи. Словно волк тянул ноздрями со всех сторон свежий ночной воздух. Подозрительный лай собаки в конце концов прекратился. Нарым успокоился. Нашёл для себя укромное местечко и, развернувшись лицом на восток, принялся усердно молиться.
Молитва убрала из его сердца дурное предчувствие, и он вновь обрёл уверенность. Бесстрашно двинулся вперёд, за ним покорно тронулись все остальные. На окраине малороссийской станицы отряд неожиданно наткнулся на стадо гусей, и те в ночной тиши подняли громкий галдёж. Через мгновение слева от Нарыма грохнул выстрел. На вышке возле переправы взметнулась в чёрное небо яркая фигура.
Когда татары мелкими группами соединились в большой отряд, передовой дозор черноморских казаков забил тревогу. На внезапный стук в запертую на ночь оконную ставню полковник Поддубный отреагировал мгновенно. Принял донесение и прямо с высокого порога своей хаты коротко и ясно отдал необходимые распоряжения запыхавшемуся вестовому. Когда посыльный казак растворился в темноте, Гаврила Степанович, зябко пожимая плечами, вернулся в хату. В просторных сенях было прохладно и остро пахло пряными травами. Зато внутри жилища тепло и уютно. Перед иконой святой Девы Марии, освещённой неярким светом лампады, опустился на колени. Доверчиво вглядываясь в чистый образ Заступницы рода христианского, полковник трепетно зашептал слова молитвы. Широко крестился Покровительнице и кланялся до самого пола. Как появилась за спиной жена Евдокия, не заметил. Поднявшись с колен, развернулся назад. От неожиданности даже вздрогнул, наткнувшись взглядом на кротко застывшую в белой ночной рубашке супругу. Тут же совладав с собой, радостно метнулся к ней и не совсем ещё проснувшуюся, разомлевшую от здорового сна, нежно прижал к себе. Заглянул в испуганные от ночного визита глаза и крепко поцеловал её в сладкие губы. Мужская сила взыграла в нём, но он тут же решительно подавил в себе вспыхнувшую страсть. Победив желание, решительно отстранил от себя всегда желанную Евдокию и тут же распорядился:
– Живо собирайся, родная. Хватай Мишутку и Марийку в охапку и мигом дуйте в подполье к отцу Серафиму. Басурмане идут. Сеча будет…
Не слукавил Остап Головченко отцу Серафиму и в новых землях сдержал данное ему слово. Хотя много спорили при строительстве церкви запорожские переселенцы и даже ругались, как заклятые враги, но гордо поднялось к солнцу Тело Христа на левом берегу Кубани. Небеса не гневились на мастеровых малороссов, ибо знали, что народ такой настырный и непокорный, да и дело они делали благое, богоугодное. Поэтому с хутора Кулябка запорожских переселенцев смело начала расширяться на левобережье Кубани Российская Империя, и вместе с ней – вера православная утверждалась навеки.
Спешно сходились под защиту церкви все те селяне, кому в плавни уйти было трудно. Отец Серафим спускаться в подполье решительно отказался.
Со словами «от всякого врага и супостата», он щепотью перекрестил проход в тайник. Затем, надежно притворив лаз и полагаясь на волю Всевышнего, остался один наверху, перед надвигающейся бедой.
В подземелье остро пахло мышами. Восковая свеча хорошо высвечивала лица затихших станичников. Белая сеченская церковная крыса высунулась из норки, осторожно потянула воздух широко открытыми ноздрями. Потом вышла на всеобщее обозрение и, не обращая внимания на любопытные взгляды людей, принялась намывать свою симпатичную мордашку. Мишутка Поддубный бросил ей корочку хлеба. В убежище от большого скопления народа становилось очень душно. У Ксении Дорошенко, старшей дочери Остапа Головченко, пронзительно заголосил грудничок. Крыса, испугавшись неожиданного вопля, схватив хлебушек, шустро исчезла в спасительной норке. Молодая мать раскрыла пелёнки и, нежно поддерживая взмокшую головку сына, сунула полную молока грудь совсем некстати разбушевавшемуся младенцу. Малыш жадно ухватил материнский сосок и громко зачмокал. Станичники понимающе заулыбались, глядя на кормящую мать и ребёнка. Старшая Дорошенчиха смерила тяжёлым взглядом тесное окружение и зашептала себе под нос слова мудреного заклинания, надёжно заслоняя молитвой от бесовского сглаза юную жену младшего сына и недавно родившегося внука.
Особенно яростная схватка между черноморскими казаками и татарами завязалась на Варениковской переправе через реку Кубань. Бесшумно устранив часовых и удачно используя предрассветный час, люди одноглазого Казбека, правой руки Нарыма, надёжно замкнули кольцо окружения и внезапно ударили с тыла. Опьянённые первой кровью татарские воины, позабыв о приказе Нарыма «брать живыми», безжалостно истребляли всех тех казаков, которые пытались оказывать им сопротивление.
Выронив свою саблю на землю, Остап Головченко беспомощно опустился на колено, в надежде унять хлеставшую ручьём кровь из правой руки. Страдальчески морщась от нестерпимой боли, спешно заматывал кусками ткани, оторванными от своей рубахи, серьёзно раненую руку. Всё время шептал себе под нос слова молитвы, а когда сабля врага высоко заносилась над головой, замирал, судорожно зажмуривая глаза. А когда вновь открывал их, то почему-то вначале безумным взглядом упирался в хорошо знакомые сапоги Никиты Скибы, нелепо торчащие рядом из-под груды басурманских тел. Понимал, что пронесло, забыв про кровь и боль раненой руки, вновь лихорадочно начинал читать слова прерванной молитвы, но Митя Найденов каждый раз успевал своей саблей отвести роковой удар татарина. Метался рядом и не собирался просто так отдавать жизнь своего раненого товарища. Ловко подхватив с земли левой рукой оброненную на землю саблю Остапа, прохрипел в ухо Головченко:
– Чего расселся! Давай мигом за мной. Выходить надо, а то сгинем здесь за просто так.
Унять кровь до конца Остапу так и не удалось, и она стекала на землю сквозь лоскуты рубахи. Поддержка товарища в трудную минуту благотворно подействовала на раненого казака. Остап уверенно поднялся на ноги. Умирать воспрянувшему духом Головченко сегодня никак не хотелось. Уверенный в своих силах, Митя Найдёнов шёл вперёд, напролом сквозь многочисленного врага, делая саблями невероятное. Остап, бережно прижав искалеченную руку к животу, мчался за Найдёновым сзади, боясь в этой дьявольской сутолоке потерять из виду спину боевого друга с болтающимся ружьём. Когда пуля расщепила ложе деревянного приклада найденовского ружья, Митя даже не обернулся. Головченко же, перепрыгивая через распластанные на земле тела, непроизвольно сжался в комок, ожидая незащищённой спиной поймать свою, тяжёлую пулю. Почти одновременно они свалились на дно покинутого окопа. Митя, в тот же миг припав щекой к испорченному только что врагом прикладу, ругался матом на весь белый свет и, прежде чем выстрелить, тщательно выцеливал басурманина. Остап, не веря в своё чудесное воскрешение, зажав меж колен пистоль, торопливо заряжал его трясущейся здоровой рукой, искоса поглядывая на Митю. Бледное лицо Найдёнова было забрызгано кровью. Глаза извергали ненависть, от которой по спине Головченко бежали противные мурашки. Весь бешмет Мити был иссечён саблями лютого врага. На малиновой рубахе, сквозь огромные дыры, виднелись бурые разводы. Поражали Остапа жилистые руки Найдёнова, в расчётливых движениях которых остро чувствовалась военная удача.
«Если всё уляжется, в кумовья обязательно напрошусь», – твёрдо решил наперёд для себя Головченко, и на его истерзанном от боли лице появилось что-то вроде улыбки.
Очнувшиеся, наконец, товарищи открыли ответный плотный огонь по наседающему со всех сторон врагу. Татары дрогнули и залегли на землю.
С громким свистом и диким улюлюканьем с восточной стороны насыпи переправы неожиданно ударила по татарам некрасовская рать. С белыми повязками на рукавах некрасовцы в полный рост смело пошли на врага ровной цепью. Поблёскивая сталью клинков в лучах разгорающегося рассвета, некрасовские казаки бесстрашно продвигались вперёд на помощь своим братьям и кланяться басурманским пулям вовсе не собирались. Татары мгновенно отреагировали, быстро разбившись на два отряда. Один отряд еще ожесточённее налёг на растерявшихся хохлов. Другой бросился на немногочисленных некрасовцев. Почти одновременно ударили с флангов пушки. Картечь сразу сделала своё кровавое дело.
Первым из некрасовцев принял удар басурманской сабли Лука Николаевич Шалый. Правда, отразил выпад врага как-то неловко и, ошеломлённый прытью неприятеля, попятился назад. Не упуская из поля своего зрения дюжего татарина, Лука Николаевич поискал глазами проклятое место, где он мог оступиться. Добрая часть его кубанки висела на кусте шиповника и наводила треклятый ужас на его душевное равновесие.
«Бес попутал», – твёрдо решил сильно расстроенный оказией Шалый. Наклонил низко свою широкую спину, через которую тут же легко перевалился его младший брат Фёдор. Обоерукий кузнец смело налетел на воспрянувшего духом татарина, но тот, грамотно защищаясь турецким ятаганом и длинным кинжалом, пятиться назад от насевшего на него гяура явно не хотел. Почувствовав достойного противника, Фёдор взвинтил темп и, качая маятник, уже с колен подрезал саблей левой руки ловкому нехристю икры ног. Затем, невероятно вывернувшись, подсел под тело на мгновение застывшего татарина и раскроил саблей правой руки через подбородок ему лицо.
– Что ты, Федька, с этим чучмеком так долго возишься! – заругался на брата пришедший наконец в себя Лука Николаевич. – Ты что, не видишь, вон там на переправе Головченко погибает! Всё кажись! – Шалый в сердцах бросил себе под ноги жалкие остатки кубанки, осквернённой саблей неприятеля, и только потом скорбным голосом разочаровано продолжил прерванную мысль: – Не уберёг мне будущего свата Митя Найденов.
После этих уж очень горьких слов Лука Николаевич стремительно бросился вперёд. С протяжкой, что есть силы в руке, рубанул первого попавшего на пути татарина. Острая сталь клинка старинной работы легко прошла от плеча басурманина до середины его груди. Шалый ногой оттолкнул прочь с пути уже бездыханное тело и, повернув голову назад, заорал своим товарищам:
– За мной, братцы! Православные на переправе погибают!
После боевого клича, обращённого к своим братьям-казакам, Шалый ещё быстрее помчался вперёд. За ним, подбодрённые дерзким кличем уважаемого вояки, принялись ломить врага все остальные. Фёдор не отставал от своего шустрого брата ни на шаг. Работал саблями за двоих и всё никак не мог взять в толк, как это в такой кутерьме глазастый Лука всё кругом замечает.
С правой стороны Кубани уже спешила помощь. Егеря полковника Листьева дружно тянули паром. Осознав, наконец, что дальнейшее сопротивление бесполезно, татары бросали на землю оружие и сдавались на милость победителя.
Антипушка Крапивин гордо держался в седле своего скакуна благородных кровей. Он часто поглядывал по сторонам в надежде скорее отыскать в окружающей людской суете своего закадычного приятеля Епифана Морошкина. Остро чувствуя на себе завистливые взгляды, Крапивин распрямил напоказ честному народу свою гвардейскую грудь, на которой тесным рядком висели наградные знаки, накопленные им за полные двадцать четыре года безупречной службы Царю и Отечеству. Чтобы выглядеть со стороны ещё великолепнее, Антипушка тщательно подкрутил гусарские усы, которыми он очень дорожил и гордился. Весьма довольный своим неотразимым видом, слившись воедино с седлом арабского скакуна, Крапивин свысока посматривал на окружающий его разночинный народец. Поэтому, наверное, многие с завистью смотревшие на него снизу селяне прежде отмечали для себя в его статном виде доблестную выправку суворовского ветерана.
На околице хуторского поселения Кулябка возле добротного сруба колодезя молоденькая хохлушка бойко поздоровалась с Крапивиным. Антипушка, польщённый дамским вниманием, придержал коня и, прижав руку к сердцу, нараспев ответил:
– Здравствуйте, девицы дорогие.
Молодая девка с восхищением смотрела на красавца, а вот вторая, постарше, лишь на мгновение оценивающе глянула на Крапивина и кротко опустила глаза. Свет, изошедший от лица зрелой женщины, обжёг сердце вздрогнувшего Антипушки. Противные мурашки пробежали по его спине, и румянец на гладко выбритых щеках важного седока от недавно выпитой рюмки водки стал вдвойне ярче. Казачки, пока Антипушка собирался с мыслями, ловко подхватив на коромысла полные вёдра, не спеша двинулись по дороге. Оторопевший Крапивин, подавляя в себе бурю чувств, тут же направил следом за очаровательными хохлушками своего коня. Молоденькая казачка часто оглядывалась, щедро проливая себе на босые ноги студеную воду, по-детски наивно заигрывая карими глазами с военным, а в смущении отвернувшись, заливалась громким смехом. А вот та зазноба, что постарше, молча, лебёдушкой шла вперёд, плавно, в такт грациозной походке, покачивая крутыми бёдрами. От неё исходила томительная сладость, от которой взыгравшая кровь Крапивина бушевала лютым огнём. Он смотрел ей в спину и не мог оторвать свой взгляд, заворожённый женской силой. Правда, вскоре сам очнулся, испугавшись своего бесовского желание. Изгоняя прочь дьявольское искушение, Антипушка строго напомнил себе: «Ох! Хороша Маша, но не наша»! Так рассудил Антипушка и, усмиряя вожделение, решительно отвёл свои глаза в сторону.
Стены замысловато крытых камышом хат, которые ещё совсем недавно полковые товарищи Крапивина охотно помогали ставить хлебосольным переселенцам с Днепра, были аккуратно побелены известью. Вокруг основательно вставших на земле хутора Кулябка жилищ сеченских переселенцев, на некогда дикой пустоши, чернозёмные наделы щедро плодоносили своим заботливым хозяевам. Православная церковь, смело утвердившаяся на левом берегу Кубани, стояла на каменном фундаменте, и кресты на золочёных куполах её все как один смотрели на восток. Дворовые псы злобно скалились из-за добротных плетней. Летние кухни, у которых суетились заботливые хозяюшки, дымили в лазурное небо сизым дымом.
«Хорошо, что не пустили сюда басурманина», – подумал Крапивин и, невольно предчувствуя беду, с ужасом глянул в сторону душераздирающего воя взбесившейся собаки. Посередине просторного двора, задрав волчью морду к небу, выла поджарая сука. Её ещё не совсем смышленый щенок тыкался в переполненные молоком соски. Возле дверей казачьей хаты стоял свежеизготовленный восьмисторонний православный крест. Чуть в стороне плотник рубанком строгал доски. Одна половина гроба была уже готова. Сострадание сжало сердце Антипушки, и он широко трижды перекрестился. Затем обернулся и, накрепко запомнив хату, куда юркнули забавы, тяжко вздохнул. В свежем воздухе остро присутствовал аромат естественной силы земли. Крапивин с определённым интересом покосился на котомку, в которой была припасена фляжка водки, дюжина отваренных яиц, кусок копчёного сала, лук, чеснок и каравай чёрного хлеба. Богатство снеди и даже водка не радовали. Невольно всплыли в памяти полные неуёмной скорби глаза беззубой старухи. Крапивин страдальчески поморщился и, чтобы оправдаться перед самим собой, твёрдо заверил себя:
– Живым – живое. Мигом отыщу Морошкина и вместе помянем всех преставившихся сегодня к Господу.
На северо-восточной стороне станицы Антипушка, наконец, наткнулся на расположение своего полка. Под огромным орехом дымила полевая кухня. Ни с чем несравнимый запах гречневой каши чувствовался здесь за версту. На открытое место Крапивин сразу высовываться не стал, привстав в стременах, живо высматривал глазами Морошкина. Из-за поворота, поднимая ногами придорожную пыль, шла ему навстречу колонна пленных татар.
Мурат правильно понял многозначительный взгляд своего хозяина и неожиданно бросился на конвоира. Нарым, воспользовавшись создавшейся суматохой, птицей взлетел на скакуна Крапивина. Выхватив из широкого рукава бешмета кинжал, хладнокровно перерезал горло замечтавшемуся Антипушке. Боевой конь, почувствовав на себе чужака, дико заржав, встал на дыбы. Мурата тут же подняли на штыки нерастерявшиеся солдаты охраны. Яростно сопротивляющегося, так и не сумевшего справиться с взбунтовавшимся конём Нарыма стащили на землю подоспевшие со всех сторон однополчане Крапивина. Любимчик полковника Листьева, Епифан Морошкин подоспел на место трагедии уже поздно. Собственноручно закрыл коченеющему другу глаза и, расстегивая на ходу мундир, безоружный, смело вошёл внутрь круга, которым толпа русских солдат тесно окружила шального басурманина.
Епифан Морошкин, как и его земляк Крапивин, был родом с Амура. Он очень рано лишился своих родителей. Его воспитывал монах из Тибета. Вместе с азбукой жизни святой человек научил Морошкина искусству рукопашного боя.
Епифан бесстрашно шёл на изготовившегося к схватке татарина, и когда до того оставалось несколько метров, неожиданно бросил ему в лицо снятую куртку мундира. Нарым словно ждал этого момента. Увернувшись, он сделал молниеносный выпад. Толпа ахнула, когда сталь клинка легко распорола нательную рубаху Епифана. Морошкин, не обращая внимания на порез на теле, резко ударил правой ногой в голову Нарыма. От удара потрясённый татарин попятился на несколько шагов назад. Несмотря на заплывший огромным синяком левый глаз, Нарым быстро восстановился и был для Морошкина ещё достаточно опасным. Епифан вновь пошёл вперёд. Теперь он только сделал вид, что вновь ударит правой ногой, но вместо этого резко ушёл влево, высоко прыгнул вверх, и надёжно удерживая руками голову басурманина, ударил его коленом в подбородок. Этот отлично исполненный приём Морошкина оказался для Нарыма роковым. Он, выронив кинжал, рухнул на спину. Зловеще притихшая толпа громко возликовала. Епифан, ловко подхватив стопой ноги с земли клинок, бросил его в сторону пытающегося встать на ноги татарина. Нарым, наконец, поднялся на непослушные ноги. Мутным взглядом здорового глаза посмотрел на беснующуюся вокруг толпу. Затем на этого русского, который сегодня оказался сильнее. С трудом удерживая равновесие, Нарым поднял-таки с земли свой клинок и ударил им себя в грудь. Сквозь пробитую острой сталью одежду вместе с каплями алой крови на зелёную траву посыпались под ноги душегуба золотые монеты. Из торжествующей толпы вдруг громко выкрикнули:
– Епифан Ильич, ротный бежит с караулом…
Свершивший возмездие Морошкин, подхватив свою куртку и зажимая кровоточащую рану на боку, смешался с толпой.
Братья Дорошенко, мстя басурманской нечисти за смерть брата Петра, принялись с лютой ненавистью рубить саблями пленных татар.
Нынешнее Рождество Христово Императрица Руси Екатерина Вторая ожидала как никогда прежде. В скромные постные дни она особенно прилежно молилась, а после страстных молитв старалась уединиться в каком-нибудь укромном местечке, где в упоительной тишине предавалась своим сокровенным мыслям. После смерти Мари Франсуа Вольтера в избранных обществах мудрой Европы её уже не воспринимали как просвещённого монарха, а всё громче величали, в результате подвигов армии и флота, хищным захватчиком. Рассуждали за границей на многие наболевшие темы российские, а уже в Санкт-Петербург приходили всевозможные слухи, которые с радостью принимали здешние неприятели государыни, придавая им в своих тайных кулуарах особенную остроту и силу. Весьма встревоженная кривотолками самодержавная царица в таких случаях спешно искала встречи с «вице-королём юга» Григорием Потёмкиным. В непринуждённой беседе, чувствуя сердцем патриотизм и преданность Российской Империи Светлейшего князя, она невольно подтверждала себе, что на освобождённых землях дела обстояли не так уж плохо. Давно позабытые чувства к своему единственному фавориту вспыхивали в ней с неудержимой силой, и она с детской покорностью заглядывала в глаза любимого мужчины в надежде отыскать там для себя ответные чувства. Но её бабье сердце на этот раз ошибалось, и она, к огорчению своему, видела лишь там непреклонное презрение к её плотскому греху. Утерянное ею навсегда женское счастье вызывало в ней горькую обиду, и на сердце у расстроенной государыни становилось весьма грустно.
С крещенскими морозами огромная свита во главе с Российской Императрицей отправилась из Санкт-Петербурга в Киев. Екатерину Вторую влекло в путешествие на новые земли юга не любопытство, а острое желание показать заморским гостям совершенно иную Россию. Дорога, по которой двигался царский эскорт, была украшена диковинными поделками изо льда и снега. Очарованная рукотворными творениями сметливого на выдумку народа, Императрица, где бы ни останавливалась, щедро одаривала денежкой своих подданных, чтобы праздник им запомнился надолго и вспоминался потом только добрым словом.
После прибытия царицы в Киев тихий до этого момента старый русский городище зашумел нескончаемым праздником. Отложив все государственные дела до поры схода льда с Днепра, Великая Государыня земли русской с головой ушла в шумное веселье.
Спускаясь по течению Днепра, верная своему слову Екатерина Вторая, наконец, серьёзно задумалась о делах государственной важности. Сославшись на головную боль, так и не окончив партию в карты, неожиданно захворавшая царица уединилась в своей роскошной каюте. С удовольствием облачившись в просторную ночную рубашку, довольная комфортом, Императрица свободно вздохнула. Гонимая женским любопытством, вышла на аккуратный судовой балкончик и внимательно осмотрелась по сторонам. Галера спокойно стояла на якоре. Украшенная разноцветными огнями флотилия сопровождения, развернувшись золочеными носами в истоки Днепра, держалась на крепких канатах рядом. На многих судёнышках громко играла музыка, слышались возбуждённые голоса. С разных сторон доносился задорный смех. Небо над головой государыни не было кошмарно чёрным. Пусть основное бесчисленное скопище небесного воинства и отсутствовало сейчас на тверди, но яркие крупные звёзды близких к земле созвездий исправно правили ночью. Где-то в слившейся с сумерками листве огромных деревьев на берегу, прямо по корме судна, сонно пела неизвестная пичуга. Екатерина глянула вниз и задержала свой взгляд на текущей в низовье реки вспененной воде. Покорённая неукротимым течением воды, прочитала выученный наизусть стих из Екклезиаста:
– Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь.
Ещё долгое время она не могла оторвать завороженного взгляда от стремительного движения мутной воды возле борта галеры, поражаясь мудрости мрачного Проповедника. Вскоре ей стало зябко, и она, страшась простудиться, вернулась в судовые покои. Удобно расположившись в кресле, Екатерина жадно впитывала озябшим телом живительное тепло уютной каюты. Брезгливо кривя губы, во всех мельчайших подробностях начала вспоминать так и не оконченную сегодня партию в карты. Чтобы подстегнуть интерес к игре, она специально, из хрустального лукошка, любимой золотой ложечкой поставила на кон десятка полтора отборных алмазов. У графа Сегёра тут же задёргался глаз. Смуглый красавец из Испании, горячий мужчина Миранда, изрядно побледнел. Австриец граф Фалькенштейн, друг самодержавной царицы, почувствовав проснувшейся вдруг интуицией силу своей карты, надменно смотрел на своих смутившихся партнёров. Один Шувалов безразлично сбросил карты на стол. Торговаться за несметный куш не стал, и теперь ценился коварным сердцем Российской Государыни за своё внутреннее благородство и достойный поступок истинного дворянина в десять раз дороже всех сидящих в тот момент за столом алчных прихлебателей.
«Клянутся в верности, а подленькую жадность свою унять не могут. Нет! С этими господами надо держать ухо востро», – строго заметила себе разочаровавшаяся в дружбе заморских гостей царица. Боковая дверь в её покои неслышно отворилась, и в императорские апартаменты прошмыгнул Дмитриев-Мамонтов. Заждавшаяся государыня живо подскочила с кресла, обрадовано рванулась навстречу. Фаворит, срывая с себя одежды, увлёк податливую женщину в постель. Но только всё делал как-то торопливо и неискренне. Взбешённая дерзостью плута, Екатерина ненавистно смахнула Сашеньку с себя и, захлёбываясь гневом, прошипела:
– Пошёл вон, пёс шелудивый!
Шустро подхватив в охапку свои разбросанные вещи, насмерть перепуганный любовник тут же выскочил за дверь.
Тяжело дыша, ещё некоторое время разгневанная, Государыня неподвижно лежала на смятой простыне. Затем села и только потом поднялась на ноги. Ощущая стопами босых ног нежный ворс персидского ковра, подошла к зеркалу. Долго и внимательно рассматривала отражение своего лица, тщательно отмытого от пудры. Представила вдруг голую задницу исчезнувшего за дверью любовника, коварно улыбнулась.
– Видно, шлюшку себе завел мой милый кавалер, – раздосадовано произнесла себе под нос государыня. Неудовлетворённость вновь начала гневить женщину. Чтобы не расстраиваться напрасно, она принялась вспоминать милые сердцу свои тайные киевские похождения. Прехорошенькое личико молоденького офицера и интимные мгновения заставили по-иному забиться её сердце. Как ласково и нежно брал её тогда Владимир. Как трепетно покрывал жаркими поцелуями. Через силу оторвала свои глаза от ожившего отражения. Дорогого стоило сейчас то мимолётное счастье. Уверенно ступая, решительно подошла царица к письменному столу. Открыла незаконченную страницу «Греческого проекта», но ей тут же стало скучно. Нужных мыслей в голове не нашлось, и вместо них в пустом, словно чужом сознании зиял кошмарный провал. Разочарованно закрыла проект до завтрашнего дня. Взяла в руку перо и, обмакнув его в чернила, на чистом листе бумаги пометила для себя:
«Капитану Владимиру Хрюкову по службе преград не чинить».
Несколько раз внимательно прочитала только что написанное. Поднятым ласковому мальчишке званием осталась довольна.
В Кременчуге в светлом и просторном дворце, специально возведённом Светлейшим князем Потёмкиным лично для Российской Императрицы, к Екатерине Второй неожиданно вернулось долгожданное вдохновение. Она даже сама удивлялась своей обретённой вновь работоспособности. Все наветы злых языков на «вице-короля юга» сами собой развеялись. Грамотное освоение Светлейшим князем присоединённых к Российской Империи новых земель уже приносило в казну весомые прибыли.
Леденящий спину холодок настиг Екатерину Вторую за работой над «Греческим проектом». На этот раз она даже не испугалась, а наоборот, обрадовалась прикосновению к ней духа Петра Великого. Теперь она уже точно знала, что скоро вновь придётся воевать со слабоумным султаном Абдул-Гамидом. Поэтому Потёмкин, опережая время, затеял сегодня крайне необходимую военную реформу.
На смотрины обновлённого войска российского взволнованная Императрица выехала заранее. Захваченная неукротимым любопытством, Екатерина Вторая ничем не могла успокоить свою душевную дрожь. Нервно сидя в карете, истязаемая нетерпением, она просто не знала, чем бы себя занять. Выглянула в заднее оконце кареты, через которое, с удивлением для себя, увидела следуемый за ней отряд черкесов. Дала знать на облучок, и шестёрка резвых коней понесла царскую колесницу быстрее. Но не совсем обычно одетые всадники не отставали. Тогда царица, озорства ради, выронила в щелочку приоткрытого оконца боковой двери кареты свой платочек.
Впереди небольшого отряда черноморских казаков летел на белом скакуне теперь уже не безусый запорожский сирота Андрийка, а красавиц сотник Андрий Тарасович Бульбанюк. Его зоркий глаз сразу заметил обронённый самодержавной царицей белоснежный платочек. Он легко поднял драгоценный подарок с придорожного куста терновника. Показывая преданность и любовь к Императрице, ловкий черноморский казак поцеловал шитую золотом дорогую ткань и надёжно схоронил нежно пахнущую духами драгоценную вещь у себя на груди.
Смотр обновлённой военной реформой российского войска начался строго в назначенный час. Время перестало существовать для припавшей всевидящим оком к подзорной трубе Императрицы. Русские воины в чёрных касках, необычно одетые в зелёные куртки и красные шаровары с кожаными ранцами за плечами, легко исполняли танцы с оружием. Не стесняющее движения удобное обмундирование делало русских бойцов быстрыми, а значит, и неуязвимыми для вероятного противника. Облегчённая конница вихрем носилась по полю, разя стремительностью своею врага, и казалось, нет на свете силы, которая сможет остановить её победоносный натиск. Ружейная пальба сливалась с барабанной дробью. Командирский голос золочёных труб не прекращался ни на минуту. Внимательно следя за военной баталией на поле, Екатерина Вторая понимала, что обученный полевому ремеслу патриотически настроенный русский солдат в тяжёлую для Империи минуту обязательно проявит стойкость и героизм. Преданные Царю и Отечеству офицеры, постигшие на деле тонкое военное искусство, во что бы то ни стало выполнят до конца полученный от главнокомандующего приказ. Государыня нехотя оторвалась от подзорной трубы, посмотрела на Григория Потёмкина. Лицо Светлейшего князя светилось радостью. Александр Суворов стоял рядом, был определённо сдержан и даже строг. Его непростое внутреннее состояние выдавали пальцы правой руки, время от времени нервно сжимающие старенькую табакерку. В стане «господ хороших» царило полное смятение. Французский посол громко икал, а все остальные, раздавленные силой и мощью русского оружия, желали быть лучше. Неожиданно ударили барабаны, и царица вновь вернула свой взор на поле брани. Разделившиеся на две равные части войска с криками «ура!» бросились со штыками наперевес в атаку. Невероятно, но они прошли сквозь плотные ряды друг друга и уже с противоположных сторон, взяв ружья на плечо, замерли. В тот же миг взметнулись к небу непобедимые российские знамёна, и оркестр заиграл победный марш. Это выглядело в глазах покорённой безупречной выучкой солдат Государыни как чудо.
Воспрянувшая духом, весьма удовлетворённая смотром военных действий, Императрица осталась довольна выправкой своего обновлённого войска. Аккуратно сложив уже ненужный оптический прибор, она несколько раз прошлась возле безмолвно застывших придворных и вместо слов заслуженного восхищения, глядя на медленно оседающую пыль после потрясающе сыгранного военного парада, строго поинтересовалась:
– Что это за татары осмелились преследовать меня сегодня?
– Это вовсе не татары, позволю себе заметить, Матушка Государыня, а Ея Императорского Величества войско верных Черноморских казаков! – гордо отрапортовал Григорий Потёмкин.
– Что-то я не припомню таких…
Табакерка не выдержала и развалилась в руке у Суворова. Стряхивая рассыпавшийся табак с куртки, генерал-аншеф, звякнув орденами, смачно чихнул.
– Будь здоров, Александр Васильевич…
– И тебе не хворать, Матушка Государыня.
Суворов многозначительно поглядел на умолкнувшего Потёмкина. Более сожалея о табаке, отбросил в сторону жалкие остатки табакерки. Измерив хитрющими глазами довольную от увиденного на поле Екатерину Вторую, продолжил прерванную на самом интересном месте мысль Григория Потёмкина:
– Светлейший Князь правильно задумал расселить на Кубани, по образцу войска Донского, охотников из бывшей Запорожской Сечи. Неверное войско при поддержке совсем обезумевшего турецкого султана безнаказанно дерзит в наших тылах. А встань служивый народ станицами позади нашего кордона, и этому форменному безобразию конец. Войска на марше – так казак тут же на службу на укреплениях встанет. Всё о выгоде печётся твой верный слуга. Дело верное и необходимое на благо Отечеству твоему.
– Вон как тонко всё к месту развернули. Выходит, что казнить нельзя, только миловать. После моего путешествия на юг всем нам придётся на север отправиться и молитвами в Соловецком монастыре горячие головы студить.
– Что это тебя, Ваше Величество, в холода вдруг потянуло? – не улавливая сразу тайный смысл слов царицы, удивлённо произнёс Потёмкин.
– А там на коленях у оговорённого Петра Ивановича Калнышевского будем все вместе прощение просить. Ну уж потом, чтобы другим неповадно было, за самоуправство генерала Петра Аврамовича Текели в Сибирь упечём.
– Грешно, Матушка, золочёные дела от тебя в суму прятать. Лукавым в твоём государстве лекарство одно: смирение, – ответил за изменившегося во взглядах на жизнь Потёмкина Суворов.
Екатерина смерила искренним взглядом милых её сердцу вельмож, которые сейчас так складно выгораживали друг друга, и, подавляя в себе невероятно острый приступ голода, вслух решила возникшую было заковырку:
– Гневаться на вас сегодня никак нельзя. Пускай Попов подготовит все необходимые бумаги по этому вопросу. Затем мы и соберёмся вместе, чтобы решить быть или не быть верному войску на Кубани. А сейчас, господа, душа праздника желает!
Видя, что важный разговор между государственными деятелями наконец закончился, все присутствующие на смотре российских войск бросились поздравлять Екатерину Великую.
Хлебушек на Кубани уродился богато. Плодородная земля благодатного южного края не скупилась на всякий урожай. Трудолюбивый черноморский крестьянин, навечно осевший на этой щедрой земле, быстро убрал хлеб с полей и, не теряя времени даром, начал спешно готовить чернозёмную ниву под озимое семя.
Настойчиво Лука Николаевич Шалый искал подходящего случая, чтобы серьёзно поговорить с Остапом Тарасовичем Головченко. Шалый в своих намерениях отступать не привык. Увидеть кабак на плетне у Головченко не входило в его далеко идущие планы. Проезжая вчера под вечер возле поля Остапа Тарасовича, Лука Николаевич обратил свое внимание на то, что не спорилась работа у уважаемого запорожца и была на это у него очень веская причина. Верная мысль тут же посетила разум Шалого, и он, с трудом дождавшись утра, вместе с сыном Антоном отправился в станицу к хохлам. Там он долго и горячо обсуждал с Гаврилой Степановичем, какие земли за Кубанью необходимо было в первую очередь осваивать под распашные поля. Спорили, переливая из пустого в порожнее, но так к единому мнению и не пришли. Чтобы не поругаться, решили оставить этот разговор на более подходящее время. На заманчивое предложение Поддубного выпить и закусить Лука Николаевич наотрез отказался. Возле тарантаса казаки крепко облобызались. На вопрос весьма удивлённого Гаврилы Степановича:
– Зачем это ты, Лука Николаевич, соху с собой возишь?
Шалый как-то болезненно скривился и неопределённо махнул рукой.
На бровке почти невспаханного своего поля одиноко сидел Остап Головченко и, одолеваемый горькой думой, курил пузатую люльку. Лука Николаевич остановил коней. Вместе с сыном шустро сгрузили прихваченную с собой соху на землю. Когда непрошеные гости схватили брошенную на меже соху Остапа Тарасовича, последний, сохраняя полное равнодушие, не проронил ни слова. Спокойно наблюдал за Шалыми, время от времени выпуская изо рта огромные клубы табачного дыма. Соху Головченко отец с сыном погрузили в свой тарантас, и только после этого Лука Николаевич громко, чтобы слышал Остап Тарасович, распорядился:
– Скачи, Антон, в нашу станицу! Пускай Фёдор Николаевич всё сделает так, как он мне вчера обещал! На вот, дашь на водку Митяю, паромщику, пускай там не мешкает. А я пока здесь подсоблю Остапу Тарасовичу.
Когда Антон вернулся, отец уже успел вспахать добрую часть чужого поля. Теперь они все вместе сгрузили привезённую обратно соху, а когда её прилаживали на место к лошади, отец ненароком назвал Головченко сватом. Бешено забилось сердце Антона. Он обрадовано заглянул в родные глаза отца, и в этот момент был готов исполнить его любую просьбу, совершить для него даже невозможное.
Подручник, сделанный кузнецом Фёдором, превзошёл все ожидания Головченко и оказался достаточно удобным. Мягкие кожаные ремешки, искусно приделанные к нему, были весьма кстати. Теперь довольный Остап мог легко управлять ею и без посторонней помощи. Он уверенно шел за сохой, не веря в происходившее сейчас с ним чудо, и слезы благодарности сами собой текли из его широко открытых глаз.
С поля Остап вернулся домой, когда уже совсем стемнело. Был как никогда весел. Доброта так и светилась в его глазах. Долго, с удовольствием смывал студеной водицей с лица следы липкого пота. В чистой рубахе сел, наконец, за стол. Мать тут же поставила на стол большую глиняную миску с супом. Глава семьи первым попробовал наваристые галушки и остался доволен вкусом ароматного супа. Хитро переглянувшись с матерью и пристально глядя на старшенькую дочку, Остап, наконец, объявил всем важную новость.
– Елена, засватали тебя нынче! Станешь после Рождества Антону Шалому женой! Когда вспашу до конца поле, тогда сваты обещали прийти к нам, чтобы помочь кинуть семя в землю.
Самая младшая, с завистью глядя чёрными глазищами на залитую краской сестру, поинтересовалась:
– Когда я ещё была маленькой, это он на масленицу Андрийке Кальмиусскому нос разбил?
Елена, счастливо улыбаясь, утвердительно кивнула. Младшая, преданно посмотрев на отца, добавила, тем самым подтверждая его достойный выбор: – Ох, гарный хлопец…
– Не задерживай, Стешка. Галушки стынут, – незло заругался Остап, легонько стукнув деревянной ложкой по лбу покорно зажмурившегося ребёнка. Семья тут же спохватилась и дружно заработала ложками.
Клим Борщ увлечённо кормил своих голубей, когда на пустующие жерди его голубятни неожиданно сел одинокий голубь. Сразу признав в нем долго отсутствующего своего пернатого товарища, голубиная семья дружно заворковала в просторной клетке. Очень нравился Борщу этот красавец, который, по его неоспоримому мнению, заметно выделялся среди всей голубиной братии. Бережно приняв с жерди на правую руку голубя, Клим с ладони левой руки кормил и поил своего великолепного любимца. И только после того как голубок насытился после дальней дороги, довольный Борщ снял с ножки крылатого почтаря принесённую издалека весточку. Чувствуя сердцем важность депеши, Борщ тотчас направился к Гавриле Степановичу Поддубному.
Полковник несколько раз, не веря глазам своим, прочитал донесение. Широко перекрестился и только затем поделился новостью с Борщом.
– Услышал наши молитвы Господь. Гетман наш, Грицько Нечёса – то есть почитаемый нами в миру Светлейший князь Григорий Александрович Потёмкин – решил-таки вернуть нам боевое знамя и статус казачества.
Об этом днём раньше бывшие запорожцы боялись даже думать. Их обоих затрясла лихоманка. Чтобы унять противную дрожь, они выпили по чарке горилки, а когда на пороге хаты баловались крепким табачком, наперебой делились далеко идущими за сногсшибательной новостью сокровенными думками. Долго засиживаться не стали. Гаврила Степанович поспешил в церковь к отцу Серафиму, а Клим, напустив на себя важности, пошёл по станице и каждому встречному толковал новость. К полудню он уже не держался на ногах, но у него всё-таки хватило сил добраться до поля Сашко Масюка и там он, наконец, рухнул, вцепившись мертвой хваткой в родную землю, сладко уснув на бровке поля среди густой травы богатырским сном.
На вечернюю молитву в церковь набилось много возбуждённого новостью православного народа. Помолодевший лет на двадцать отец Серафим, окрыленный Духом Святым, ладно правил службой. После вечери вышел из Храма к казакам, тесно собравшимся на церковной площади.
– Братья и сестры! – уверенным голосом обратился священник к застывшему народу: – Смирением и покорностью вы заслужили сегодня доверие Царя и Отечества! За преданность и трудолюбие Императрица Российская Екатерина Вторая жалует вас землями на веки вечные! Возвращаются к нам на Кубань заблудшие наши товарищи! Но вы пришли сюда первыми, а значит, на вас лежит нелёгкая ответственность защитить от сатанинской скверны эту обетованную землю! Верность и стойкость наша от Господа, в праведности сила Духа!
После такого напутствия отец Серафим благословил притихших казаков крестным знамением.
– Идите с миром по домам и подумайте там хорошенько, как дальше жить будете, – с искренней любовью добавил к сказанному отец Серафим и удалился.
Долго ещё стоял неподвижно народ возле церкви, усваивая в своих сердцах услышанную от священника истину, и только потом, светлея лицами, все начали расходиться в разные стороны.
Отец Серафим не дожил до того времени, когда черноморские казаки высадились на берегу Тамани. Его похоронили невдалеке от церкви, на берегу Кубани. Часто можно было видеть казаков, молящихся на его ухоженной могиле. Многим православным за искреннюю молитву являлось в миру чудо. После изменения русла реки Кубань хуторское поселение запорожских казаков, Кулябка, начало часто страдать от паводка. Наведённая неутомимыми тружениками высокая дамба не давала доброго результата. Разочарованные, но не сдающие просто так позиции, настырные в жизни сечевики по воле стихии начали медленно вместе с церковью Христовой отступать в сторону Варениковской переправы, пока не прилепились к Варениковскому хуторскому поселению. Затем незаметно для себя слились воедино с будущей казачьей станицей. Такое слияние русского и украинского народа на берегах реки Кубани достойно пополнило культурное наследие Отечества культурой Кубанского края.