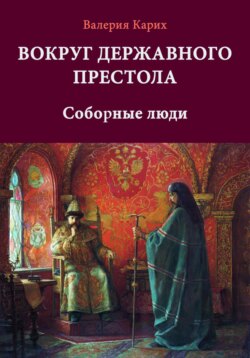Читать книгу Вокруг державного престола. Соборные люди - Валерия Евгеньевна Карих - Страница 2
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 5
ОглавлениеВ середине декабря в Москве ударили первые морозы. За слюдяным окошком в жилых монастырских хоромах стремительно и таинственно сгущались вечерние синие сумерки. Свеча неровно мигала в стоявшем на тяжелом дубовом столе витиеватом серебряном подсвечнике.
Пора бы уже помолиться на сон грядущий, задуть толстую восковую свечу, тонкий огонек которой криво и лукаво ему подмигивал, да и лечь на постель, забывшись обрывочным старческим сном. Да разве уснешь, когда в голову, то и дело лезут тревожные и многотрудные мысли…Занятому составлением важных депеш протопопу Стефану Вонифатьеву не спалось.
Сегодня утром через верного ему человека, думного дьяка Посольского приказа Михаила Дмитриевича Волошенинова он получил донесение, что в Москву приехали и поселились в палатах Чудова монастыря трое монахов с Афонской горы. И что, дескать, они желают встретиться с патриархом Иосифом и потолковать с ним.
Стефан устало вздохнул и привстал с укрытого мягкой подушкой стула. С неохотой взял со стола полученное донесение и, озабоченно нахмурив лоб, перечитал в который уж раз: «А еще сообщают мне, что те попы эти между собой в разговорах якобы произносили имя патриарха Иерусалимского Паисия, говоря, что тот скоро собирается приехать в Москву по какому-то поручению, да еще и не один, а в сопровождении незнакомого полковника гетмана Хмельницкого. И совсем уже непонятно, с какой целью приезжает в Москву патриарх Иерусалимский: то ли для милостыни, то ли для каких-то иных дел.… Засим, прощаюсь с тобой, батюшка, и с надеждой прошу, моли Бога за нас всех, и меня не забудь…» На этом письмо думного дьяка и заканчивалось.
«Знать бы точно, зачем приехали», – подумал протопоп и озабоченно вздохнул. Небрежно повертел письмо в руках, разгладил аккуратно бумагу, даже поднес поближе к горящей свече, чтобы как следует рассмотреть. Внимательно вгляделся: нет ли где между строк еще тайной прописи? Но ничего такого не было: письмо, как письмо, самое обычное. Да и мало ли что могло послышаться со стороны из чужого разговора. Однако смысл последних слов в письме «для каких-то иных дел…» был хорошо понятен, более всего смущал и настораживал Стефана.
Волошенинов в последнее десятилетие вплотную занимался делами Польши и поддерживал примирительную линию самого протопопа Вонифатьева, направленную на установление мира и противодействию боярину Морозову в подготовке к войне с Речью Посполитой.
Нет, не зря прислал Волошенинов свою срочную депешу про визит афонских попов! Особенно Стефана заинтересовала личность уставщика Арсения Грека, сопровождавшего Паисия. До него и ранее доходили слухи об удивительной учености его в языках и врачебных науках, как будто бы Арсений Грек смог излечить от припадка каменной болезни самого польского короля Владислава IV,за что и был направлен в Киев под крыло киевского митрополита Сильвестра Коссова. И вот теперь он оказался в свите иерусалимского патриарха… «Нет ли здесь связи и целей, и не может ли быть он чьим-то шпионом.… Если так, то и нечего ему у нас тут делать при московском дворе», – с легким раздражением и неудовольствием думал Стефан.
Когда Арсений Грек приедет, надо к нему хорошенько присмотреться. Стефан доверял тонкому чутью и уму Волошенинова, помня его опыт в дипломатии и личный вклад в заключении Поляновского мира с Речью Посполитой. И наконец, их обоих связывало давнее знакомство и одинаковые полонофильские взгляды в отношении дружбы с Европой и замирения с Речью Посполитой. Можно только догадываться, что именно представлялось Волошенинову особенно тревожным фактом.
Он медленно поднялся со стула, набросил на свои острые озябшие плечи стеганое ватное одеяло, укутался и, волоча длинными концами одеяла по полу, сгорбившись, подошел к черному, разукрашенному морозным узором окну.
В последнее время он сильно замерзал, даже летом, или же дома, сидя перед дышащей жаром раскаленной печью. Все чаще, с каким-то расслабленным и старческим удовольствием пил горячие сбитни и травяные с малиной и медом отвары, которые разливали блаженство по всему телу, а потом вызывали слабость и обильный пот в теле. Он не хотел болеть и берегся, и даже по дому ходил в толстых валенках. «Старый я стал, скоро придет конец моему земному пути. Дожить бы до задуманного,… Что же оставлю я после себя, какие дела? Чем меня вспомнят, хорошим ли, плохим ли словом? Пора, пора и мне собираться в дальнюю дорогу. Но сначала придется исполнить мое обещание Господу», – с отрешенной философской грустью думал он, пристально вглядываясь в морозную темноту за окном. На дворе ни зги не видать! Пока он стоял возле заледеневшего окна и слушал, как потрескивает на улице набирающий силу декабрьский мороз, продолжал размышлять, что уже завтра ему надо сделать, чтобы опередить боярина Морозова. Тот поддерживал его в затеянном ими на заседаниях кружка ревнителей благочестия деле возрождения нравственности в простом народе: холопах, чернецах, да боярах, и воспитании уважительного отношения к церкви и священникам. Но в то же время боярин постоянно плел у него за спиной свои дипломатические интриги, противодействовал мирным начинаниям и яростно разжигал войну с Речью Посполитой… Стефан недовольно и брезгливо поморщился: «Главное, удалить Морозова из дворца и ослабить его влияние на государя», – решил он.
На следующее утро, приказав своему келейнику Савватию подать к крыльцу после заутрени сани, Стефан отслужил заутреню, откушал завтрак и, надев на каждодневную рясу длиннополую тяжелую медвежью шубу, вышел во двор.
Легкий и редкий снежок тихо падал с серого неба на забеленную землю. Давно не проглядывало солнце. И Стефан, подняв вверх свою остренькую седую бородку, стал отыскивать взглядом на густом сером небе хотя бы малейший ясный проблеск солнечного света: «Плохо, что зимою так мало солнышка, а как было бы хорошо: и телу, да и душе. Чего-то я опять разворчался, совсем стал старый», – горестно подумал он и вздохнул.
Запахнувшись еще плотней в свою длинную шубу и вжав голову в высокий воротник, он с каким-то несвойственным ему раньше стариковским кряхтеньем полез в свои крытые меховыми шкурами сани. Поелозил на сиденье, устраиваясь поудобней, и приказал ямщику ехать на Ильинку в Посольский приказ. В Кремль, куда он обычно ездил в эти часы, чтобы вести с государем беседы, решил не ехать, отправив келейника с запиской еще вовремя завтрака: доложить царю, что приедет к вечеру.
Когда сани протопопа остановились возле крыльца приказа, из дверей с угодливой улыбкой вышел его встречать старший посольский подьячий Дмитрий Скороходов.
– Позволь тебя довести, батюшка, – торопливо проговорил он, распахивая перед важным гостем дверь.
– Не нужно, голубчик. Возьми шубу, – сказал Стефан, на ходу скидывая тяжелое одеяние на руки спешившему за ним следом подьячему.
Войдя, Стефан пошарил глазами по стенам. Нашел образа, выпрямил затвердевшую спину, степенно перекрестился. И только потом перевел свой умный проницательный взгляд на привставшего из-за стола при его появлении хозяина кабинета.
У сорокалетнего дипломата Михаила Дмитриевича Волошенинова было приятное, округлое и холеное лицо с рыжеватой, аккуратно постриженной бородкой и усами. Его умные ироничные глаза понимающе и весело блеснули при виде возникшего на пороге его кабинета протопопа, а губы моментально растянулись в дежурной почтительной улыбке, которую он по долгу дипломатического этикета своевременно дарил всякому важному дворцовому сановному лицу.
Возле стола стояло удобное кожаное кресло для приема визитеров. На полу лежал золотистый с бежево коричневыми разводами персидский ковер. И хотя никакой больше мебели в кабинете не было, у всякого, кто впервые попадал сюда, сразу же создавалось впечатление хотя и простой, приятной глазу, но все же чуждой русскому духу европейской роскоши.
– Добро пожаловать, батюшка. Ждал тебя и догадывался, что почтишь ты меня своим высоким присутствием, – рассыпался Волошенинов в любезностях, позволив себе некоторую вольность в обращении к такому высокому духовному лицу, как протопоп.
Приблизившись к протопопу, он заботливо поддерживая гостя под локоть, проводил его к креслу и бережно усадил. Потом отбежал и с ловкостью фокусника вытащил с нижней полки своего стола плоскую атласную подушечку. Почтительно передал через стол, чтобы протопоп сам подложил себе ее под спину для удобства. Но Стефан подушечку не принял. Важно кивнув, он демонстративно отодвинулся от спинки своего кресла. Пришлось Михаилу Дмитриевичу самому обходить стол и подкладывать под спину гостя подушечку, аккуратно ее расправляя. Затем он вернулся на место и сел, внимательно поглядев на протопопа.
– Ну, сын мой, как семейство, как дети? – расспрашивал протопоп.
– Всё, слава Богу, батюшка, всё, слава Богу… Твоими молитвами только и здравствуем. Благодарю за то, что не устаешь нас поминать за здравие, – довольный отвечал Волошенинов.
– Молюсь, всякий раз молюсь, как не молиться, голубчик! Я вот что пришел спросить у тебя. Про письмо твое. Ты ведь, давеча, поди, неспроста его мне прислал?
– Неспроста, батюшка, ох неспроста, – согласился Волошенинов.
– Вот и я так тоже подумал. Ну тебе-то, голубчик, видней, что там у этих поляков на уме твориться. Но все же ты мне поясни, а хорошо ли выйдет, если мы с тобой вот сейчас пошлем в Чудов монастырь человека, да попросим его привезти к нам афонских священников сюда на допрос?
Волошенинов подумал и согласно кивнул.
– Как тебе угодно, батюшка. Честно говоря, желаю того же самого. Для этого и послал письмо.
– До чего же хорошо, голубчик, что мы с тобой вот так влет друг друга понимаем. Как же мне это нравится, – похвалил протопоп. И взгляд у него потеплел.
– Помогать церкви и тебе – моя первейшая обязанность. Ввек не забуду, кому обязан тем, что служу на благо отечества в посольском приказе.
– Да уж пора и забыть, – усмехнулся довольный протопоп. – А монахов мы хорошенько расспросим, с какой целью собирается приехать в Москву патриарх Иерусалимский Паисий, и кто его будет сопровождать, – рассуждал Вонифатьев.
Волошенинов кивал, внимательно слушая и всем видом показывая готовность согласиться с каждым словом протопопа, свое одобрение и искреннюю заинтересованность.
Афонских старцев доставили в приказ на допрос в тот же день. Уединившись в специально отведенной для этих целей рабочей горнице, протопоп Вонифатьев и Волошенинов с горячим пристрастием расспрашивали старцев, задавая по очереди каверзные и наводящие вопросы. Однако приезжие отцы то ли и, правда, ничего не знали об истинных причинах, то ли прикидывались, но выведать у них что-то толком не удалось. Раздосадованный Вонифатьев, не скрывая разочарования, распрощался с Волошениновым и старцами и, покинув приказ, поспешил в Кремль на беседу с царем.
Следующий допрос тех же афонских отцов произошел уже через несколько дней в том же Посольском приказе. И снова он не принес результатов. Единственное, в чем убедился протопоп, что в Москву, действительно, приезжает патриарх Иерусалимский Паисий.
Январским днем, как только ударил первый час, и восходящее солнце осветило башни и золотоверхие купола колоколен Чудова монастыря в восточном крыле Кремля, к широкому готическому крыльцу хозяйственного монастырского корпуса со стройными белоснежными колоннами, подпирающими входной свод, подъехали богатые сани, в верхних ободьях крытые тяжелой медвежьей шкурой. Из саней торопливо вылез посольский дьяк Михаил Дмитриевич Волошенинов в роскошной шубе из куницы с опушкой из рыжей лисы. На голове у него красовалась украшенная золотым шитьем шапка камилавка из такой же рыжей лисицы.
Войдя в трапезную палату, он первым делом отыскал глазами в правом углу внушительный позолоченный иконостас и помолился, размашисто перекрестившись. Потом внимательно оглядел сидевших за столом, одетых в черные одинаковые рясы монахов, среди которых в царившем полумраке не сразу и заметил Вонифатьева.
Тот сидел, ссутулившись и низко опустив голову, внимательно слушая, что рассказывает ему сидящий рядом монах. Все монахи уже закончили трапезу и теперь просто вполголоса разговаривали. Некоторые братья поворачивали головы к стоявшему возле дверей Волошенинову и с любопытством придирчиво разглядывали его, потом снова отворачивались, погружаясь в свои думы или же перешептываясь с соседями. Волошенинов ждал, когда Вонифатьев обратит на него внимание. Наконец Стефан повернулся к дверям и махнул ему рукой, приглашая подойти.
Михаил Дмитриевич присел возле протопопа на лавку и заговорил о чем-то несущественном. Вонифатьев подвинул к нему чай и блюдо с булочками, а сам прихлебывал чай с вареньем, внимательно слушая и иногда вставляя замечания. Когда Волошенинов закончил, протопоп мягко и сокрушенно посетовал:
– А я вот, голубчик Михаил Дмитриевич, вижу, что ты так и не притронулся к нашему угощению. Сделай уж, батюшка мой, одолжение, отведай скромной монастырской пищи. Калачи-то здесь уж больно вкусные, во рту тают будто мед. Порадуй старика.
Наевшись и чувствуя приятную сытую тяжесть в желудке, Волошенинов пришел в благодушное расположение духа, неспешно поднялся и последовал за Стефаном. Они поднялись по лестнице на второй этаж и вошли в узкую с высоким потолком келью, выходящую окнами во внутренний монастырский двор.
В келье кроме стоявшей у стены скамьи и старого сундука, никакой мебели больше не было. Вонифатьев закрыл дверь на ключ, перекрестился на иконы и промолвил, кивая на скамью:
– Устроим сиденье, Михаил Дмитриевич. Не удивляйся, что принимаю столько предосторожностей. Монастырские стены всюду имеют чуткие уши. Говори, что тебя привело ко мне, голубчик. Вижу, что опять неспроста ты приехал ко мне с вестями.
– Истинная правда, – согласился Волошенинов. – Дело касается известного вам визита Иерусалимского патриарха…
– Я так и знал, что продолженье последует, – оживился Стефан. – Что известно, поведай.
– Получил сегодня депешу от путивленского воеводы Никифора Плещеева. Паисия сопровождает в Москву от запорожского казачества полковник Мужиловский и как будто бы везет он с собой важную грамоту для государя российского Алексея Михайловича от гетмана Хмельницкого.
– А что в той грамоте написано, знаешь? – спросил Стефан.
Волошенинов с сожалением покачал головой.
– О том, батюшка мой, не могу сказать. В полученной мной депеше ничего не прописано.
– А хорошо бы узнать, – лукаво прищурился Стефан. Подумал и прибавил: – Как будто нам знак сверху ниспослан, чтобы мы про это еще изведали.
Он в сомнении опустил голову и умолк. Волошенинов тоже молчал.
Слышно было, как по коридору внизу кто-то тяжело и поспешно прошел. Потом заскрипели половицы уже возле их двери, и кто-то осторожно постучался.
Волошенинов вопросительно взглянул на Стефана. Но тот приложил палец к губам и предостерегающе покачал головой. Человек за дверью потоптался немного и ушел.
– От царя, наверно, гонца прислали, – объяснил он. – Вот что я думаю, Михаил Дмитриевич. Как приедет Паисий в Москву, нам надо упредить людей Морозова и первыми патриарха повидать да расспросить. А если все сможем выведать, то сразу понятно станет, кто за всем этим стоит, и что все это значит.
– Так это известно, боярин Морозов да дьяк Алмаз Ерофеев воду мутят. Еще, может, и боярин Львов, – откликнулся Волошенинов.
– Возможно, они, а может, и нет. Ну да ладно. Даст Бог, разведаем. А ты, я вижу, Михаил Дмитриевич хорошо разбираешься, что к чему, – и протопоп хитро улыбнулся.
– Так у меня и учителя-то какие, – ответил Волошенинов. – Я должен уже завтра передать в Разрядный приказ донесение Плещеева. Тот интересуется, каким порядком принимать в Путивле иерусалимского патриарха Паисия.
– Докладывай выше по чину, как и положено. А я как буду у государя, всё разузнаю, – сказал Вонифатьев.
На следующий день в пятницу на заседании кружка ревнителей благочестия Алексей Михайлович стал расспрашивать у Вонифатьева и Никона, что те думают о визите патриарха Паисия.
– Этот визит святейшего патриарха иерусалимского в Москву – добрый знак для нас. С ним едет от запорожского гетмана Хмельницкого и полковник Силуян Мужиловский. Они наверно, будут говорить с тобой, государь, о восстании запорожцев против Речи Посполитой. Но в этом деле нужно помнить, что прежде, чем вступать в войну с Речью Посполитой на стороне запорожцев, не следует ли нам сначала попытаться их примирить? – уклончиво отвечал Стефан на вопрос царя.
– А я думаю, что надо послушать, что иерусалимский патриарх расскажет, – ответил Никон.
– Тоже так думаю. Дождемся патриарха Паисия и послушаем, что скажет, – согласился с ним Алексей Михайлович.
Двадцать первого января тысяча шестьсот сорок девятого года в Калугу, куда уже добрались патриарх Паисий и запорожский полковник Силуян Мужиловский в сопровождении казацкой свиты, от царя приехал гонец, доставив грамоту, в которой предписывалось «патриарха поставить на добром дворе», обеспечить его «кормом и дать подводы». А также были высланы богато украшенные и утепленные сани для патриарха, стряпчие и конюхи в помощь, а также две шубы в подарок: одна соболья, другая – песцовая, вкусный мед и вяленое мясо с рыбой к столу.
* * *
Уже двадцать седьмого января тысяча шестьсот сорок девятого года в солнечный и искрящийся легким морозцем день санный кортеж иерусалимского патриарха Паисия в сопровождении почетного стрелецкого эскорта во главе с князем Ефимием Мышецким, пересек заставу и оказался у ворот Чудова монастыря.
Москва встречала гостей редким пушистым снежком, мягко падающим на землю. Всё вокруг дышало тихим покоем и чистотой, зимней прелестью.
Как только сани подъехали к монастырским воротам, на колокольне приветственно и громко зазвонили колокола.
Паисий вылез из саней и направился вместе со свитой к воротам. Навстречу к нему вышли в парчовых с золотом парадных ризах, с крестами, кадилами в руках архимандрит Чудова монастыря Кирилл и священники.
Приняв из рук архимандрита крест, иерусалимский патриарх с особенным чувством приложился к нему. Потом поднял крест и торжественно осенил им стоящих рядом священников. После чего пышная процессия потянулась к соборной церкви Михаила. Войдя, святые отцы долго стояли на Литургии, которую служил архимандрит Кирилл. После службы Паисия проводили в предназначенную для него келью.
– Позволь молвить, отец Кирилл, – обратился к архимандриту Кириллу князь Ефимий Мышецкий, когда они шествовали в трапезную, в которой рассаживались за обеденные столы его стрельцы.
– Слушаю тебя, сын мой, – наклонил на правое плечо свою седую и благородную голову архимандрит.
– Отец Кирилл, где можно встать на постой моим солдатам?
– А нужно ли, чадо? – удивился тот.
– Приказ государя, – коротко ответил Мышецкий.
Архимандрит Кирилл замедлил шаги:
– Так у тебя чаю, и грамота есть, сын мой? – поинтересовался с легкой иронией архимандрит.
– Не без этого, батюшка, не без этого. Да вы и сами извольте взглянуть, – Мышецкий достал из-за пазухи скрепленный печатью свиток и протянул его архимандриту.
– Пойдем в мои покои, сын мой, я почитаю ее, а после уже и отобедаете в монастырской трапезной. Тебе, сын Ефимий, самому-то известно, что в царском документе прописано?
Мышецкий утвердительно кивнул.
Служебные покои архимандрита напоминали хорошо и со вкусом обставленную европейскую библиотеку. Здесь царили изящество, роскошь и уют. Все предметы интерьера гармонировали друг с другом, подчеркивая требовательность ее обитателя к комфорту и его высокую культуру. Мягкий и теплый полумрак, разрывается тусклым красным светом, льющимся от старинной бронзовой лампы в виде изящной свечи, стоящей на столе. Вдоль стен от пола до потолка возвышались добротные резные стеллажи из красного дерева со старинными фолиантами и рукописями.
В правом углу у окна стояла большая русская печь, красиво выложенная разноцветной яркой мозаикой. У окна – массивный письменный стол со стопками книг, письменным малахитовым прибором с двумя чернильницами.
Слева – красивая резная деревянная кровать с высокой спинкой.
Шаркая ногами и потирая поясницу, архимандрит подошел к столу и прибавил свет в лампе. Потом аккуратно надломил печать и развернул указ. Отодвинув от глаз бумагу, прищурил глаза и замер, вчитавшись:
«Никого из иноземцев не следует допускать до патриарха, и также никого без лишней надобности и росписи не допускать… А на стол ему подавать каждый день семгу, белую рыбу, икру паюсную и осетровую, блюда из осетрины и белужины, по два блюда пирогов, щуки и по две ухи разных переменяясь, калач крупитчатой, а из питья выдавать на день кружку меду вишневого или малинового, кружку меду боярского, кружку квасу медового, полведра меду паточного, ведро меду княжьего…»
Архимандрит Кирилл задумчиво хмыкнул. Потом обернулся к Мышецкому.
– Государь как будто считает иерусалимского патриарха дитем малым, требующим за ним строгого пригляда. Но царский указ – закон. Будь спокоен, Ефимий, исполним все, как велено, – он взял со стола колокольчик и позвонил.
Спустя несколько мгновений за дверью послышалось выжидательное, и нетерпеливое постукивание.
– Войди, Терёнушка, – ласково проговорил Кирилл своему келейнику и верному помощнику в монастырских хозяйственных делах. Дверная створка приотворилась, и в неё юрко просунулась черноволосая и аккуратно прилизанная голова Терентия Благого.
– Чего изволишь, батюшка наш?
– Распорядись от моего имени келарю, выдать для стрельцов постели в количестве… – архимандрит запнулся и вопросительно поглядел на Мышецкого.
– Тридцати штук, – подсказал тот.
Кирилл согласно кивнул головой и продолжил:
– Тридцати штук. А дальше вели пекарю увеличить блюда в таком же количестве. Проследи, чтобы это меню подали мне на утверждение. И отведи князя Мышецкого в келью в половине для гостей, чтобы он мог отдохнуть, – распорядившись, архимандрит вежливо и учтиво улыбнулся Мышецкому.
Вечером нарочный привез в монастырь депешу, в которой было велено почитать патриарха Паисия с великими почестями так же, как и патриарха московского, для чего ему определялось государево жалованье и привозное кушанье с царского стола.
И уже на следующий день под вечер к иерусалимскому патриарху Паисию наведался дипломат Михаил Дмитриевич Волошенинов.
Паисий занимал большую и хорошо натопленную комнату. Горящая перед образами лампада освещала ее. Посередине стоял стол, у восточной стены – аналой, возле стен – деревянные скамьи, накрытые вышитыми золотом покрывалами. Невысокого роста, крепкий плечистый человек в священнической рясе с черной без проседи бородой стоял перед образами и усердно молился. Отбив несколько земных поклонов, патриарх поднялся и подошел к Волошенинову. Без лишних слов протянул ему свою крепкую жилистую руку для поцелуя. Устремив быстрый и испытующий взгляд на Волошенинова, Паисий строго спросил:
– Как зовут тебя, господин честной? Лицо твое мне как будто знакомо, но не помню, доводилось ли раньше встречать.
– Зовут меня Михаил сын Дмитриев Волошенинов дьяк посольский. Великий государь и царь Алексей Михайлович, всей России самодержец воздает тебе честь, святейшему Паисию, Патриарху Святого Града Иерусалима и всей Палестины, и прислал меня, думного дьяка Михаила Волошенинова, спросить о твоем здоровье: хорошо ли доехал и во здравии ли пребываешь? А встречались мы с тобой на Афоне пять лет назад, – прибавил с поклоном дьяк.
– А, теперь-то я тебя припоминаю. И вижу, что прибыл ко мне неспроста.
Умные черные глаза патриарха проницательно блеснули из-под лохматых нависающих бровей. Волошенинов пришел в замешательство от его искренней прямоты и невольно отвел свой взгляд.
– Эх, чадо, – укоризненно покачал головой патриарх, – нехорошо. У кого перед Богом открыта душа, тому и скрывать-то ведь нечего. Тому же, кто ослеплен земными нескромными помыслами, все то приходится лукавить. Но разве же можно человеку укрыться от мысленных очей нашего Отца за свои какие-то прегрешения и тайные дела? Нет. А уж если человек слезами покаяния и искренними молитвами омоет их, то и Господом ему за это воздастся, и к нему снизойдет милость Божья и благодать.
Волошенинов в смущении хотел было возразить, что у него как раз и имеются самые, что ни на есть чистые искренние помыслы, но Паисий жестом остановил его.
– Не утруждай себя, чадо. Когда вернешься домой, то и покайся искренне перед Господом. Что до меня, то я охотно отвечу на все твои вопросы. За тем и прибыл сюда с назначенной мне самим Господом миссией, – высокопарно пояснил Паисий и указал посохом на скамью: – Присядем же, чадо Михаил. И можешь меня расспросить, о чем пожелаешь.
– Визит твой в Москву – большая честь для российского государства и нашей церкви. Но тебя сопровождает запорожский полковник Мужиловский, который утверждает, что прислан к великому государю от запорожского гетмана Богдана Хмельницкого и от всего войска Запорожского с важным делом. Зачем он пожаловал с визитом к государю, святейший владыка? – Волошенинов обрадовался, что можно говорить искренне и открыто, не прибегая к дипломатическим правилам и уловкам.
– Нечего тут и скрывать, сын мой. Первым делом приехал я к великому государю Алексею Михайловичу, чтобы бить ему челом о помощи: в Иерусалиме Гроб Господень в великом долгу, а нам платить нечем, – просто ответил Паисий.
Волошенинов согласно кивнул, давая понять, что передаст государю сказанное.
– Еще приехал, чтобы передать, что я и запорожский полковник Мужиловский сильно заинтересованы, чтобы важное дело, ради которого мы и прибыли в Москву, как можно скорей стало бы известно великому государю Алексею Михайловичу, – заключил Паисий.
– Известно ли вам, что это за важное дело? – Волошенинов был слегка раздосадован, что до сути дела они никак не доберутся.
– Об этом, сын мой, мне как раз и не известно, – уклончиво отвечал Паисий. Но по движению его пальцев, которыми он в этот момент непроизвольно дотронулся до висящего на груди золотого креста, Волошенинов догадался, что тот все знает, но скрывает правду. – Зато мне известно, что запорожское войско в одиночку борется против польской шляхты во имя укрепления православной веры. И эта борьба поспособствует освобождению православных народов от Оттоманской империи. Запорожский гетман Хмельницкий просил российского государя, чтобы помощь против шляхты ему учинил и войной бы на тех пошел, и чтобы и свои бы города у поляков отнял. А Хмельницкий бы со своим войском на шляхтичей пошел, и так одолели бы вместе врагов. И если бы государь российский изволил, то и все города под государеву руку бы отданы были. Ваш государь помощь запорожцам учиняет, а городов у ляхов пока взять не изволил.
Паисий сокрушенно вздохнул. Волошенинов выдержал паузу и произнес, тщательно подбирая слова:
– Не в моей воле выносить суждение по делу и решениям великого государя. Но обещаю, что без промедления доведу твою просьбу об аудиенции до государя Алексея Михайловича.
– Спасибо, сын мой. А большего мне и не нужно, – мягко улыбнулся старец. Он поднял голову и устремил понимающий и внимательный взгляд на дипломата. – В тебе я вижу начитанного и образованного государева мужа, не понаслышке знающего о тяготах жизни южных славянских народов, искренне болеющего за российскую державу, процветание которой во благо всех христианских народов. Благовещенский протопоп Стефан Вонифатьев также хорошо известен на Афоне нашей священнической братии, как высокий покровитель взглядов нашей греческой богословской школы. Греческие книжники с надеждой глядят на Российское государство. Москва – третий Рим, опора и последнее хранилище христианской истины. И будет стоять Москва воедино и нерушимо до самого прихода страшного судного дня. И разве не российскому ли государю быть тогда покровителем и заступником всех малых и обиженных на Востоке христианских народов? Не Москве ли предсказано быть впереди и вести за собой в Божье царство другие народы? Но прежде надо восстановить отношения с восточной вселенской церковью.
«Он знает, что его слова буду переданы Вонифатьеву, а тот в свою очередь постарается убедить государя. Но он мог бы и сам при встрече сказать это протопопу. Однако говорит это мне, потому что не уверен в протопопе. И надеется, что я передам это тем, кто заинтересован в развязывании войны с Речью Посполитой. В уме старику не откажешь. А мне только на руку, что он не догадывается, что я на стороне Вонифатьева и тоже против войны. Но пока он это не знает, я смогу у него и в будущем попытаться что-то выведать», – раздумывал Волошенинов, стараясь тщательно запомнить каждое слово.
– Бью челом великому государю, чтоб государь меня пожаловал и велел быть у себя, государя, и видеть его царского величества очи. А еще прошу перевести меня из Чудова монастыря, где я угораю и где мне и свите тесно, на Кирилловское подворье. Изволь же, сын Михаил, передать государю Алексею Михайловичу за радушие и теплоту мою благодарность, – с этими словами Паисий степенно поднялся, давая понять, что аудиенция окончена.
В тот же день в Посольский приказ приехал запорожский полковник Силуян Мужиловский. Волошенинов и Алмаз Иванов приняли его и долго расспрашивали, пытаясь выведать, о чем же тот желает подать челобитную на имя царя.
Но хитрый и умный Мужиловский, будучи опытным дипломатом, уклонился от прямого ответа, заявив, что сопровождает иерусалимского патриарха, потому что запорожское войско воюет с поляками и, дескать, патриарху Паисию угрожала в дороге опасность. Его же долг был защитить патриарха. Также он рассказал Волошенинову и Иванову о том, что запорожцы отвоевали у поляков воеводства Киевское, Брацлавское, Подольское, Черниговское со всеми уездами и много поляков в тех местах побили. «Их побито было такое количество, что трупы их звери не успевали поедать», – рассказывал он.
Выйдя из Посольского приказа, Силуян Мужиловский велел ямщику ехать к Чудову монастырю к иерусалимскому патриарху Паисию. По дороге он собирался с мыслями и размышлял о том, что заметил во время допроса.
Паисий как будто ожидал его. Величественным жестом подал руку для поцелуя, перекрестил и испытующе поглядел на Мужиловского.
– Чует мое сердце, что те, кто меня сегодня расспрашивали, не хотят войны с Речью Посполитой. Поэтому среди них наверно не найдем мы себе сторонников. Гетман просил повидать боярина Морозова. Через боярина к царю шли от нас депеши и челобитные, – сокрушенно поделился Мужиловский своими впечатлениями от визита в Посольский приказ.
– Я знаю. Но боярин Морозов совсем недавно вернулся из ссылки и вряд ли сейчас нам поможет. К тому же приказы, которыми он заведовал, сейчас подчиняются царскому тестю Милославскому. Я слышал, что он не сторонник идеи начала военных действий с Речью Посполитой, – ответил Паисий.
– Верные сведения?
Паисий утвердительно кивнул.
– Думаю, что пока мы здесь, не следует терять время и нужно попытаться найти кого-то из приближенных к российскому царю, чтобы потом через него и действовать в нашем деле, – предложил Мужиловский.
– Я тоже так думаю. Когда будет нам велено быть на приеме у государя, тогда и поглядим, что скажут московские бояре.
* * *
Московское утро четвертого февраля выдалось пасмурным, холодным и ветреным. Священники подъезжали к Кремлю на укрытых разноцветными пологами санях, укутанные поверх облачений в теплые долгополые соболиные или черно-бурые шубы. Митрополиты, архиепископы, епископ, архимандриты, игумены и протопопы вылезали из саней и проходили во дворец, где рассаживались на своих местах на скамьях в Средней палате. Ждали выхода царя и начало думского заседания по случаю приезда высокого иерусалимского гостя.
За ним в Чудов монастырь из дворца отправили утепленные сани: для патриарха Паисия – крытые вишневым сукном, для запорожского полковника Мужиловского – черным.
Когда санный патриарший обоз подъехал к Боровицким воротам, до слуха патриарха Паисия долетел шум и крики толпы, сопровождаемые выстрелами из пушек и торжественно-гулким перезвоном колоколов на всех колокольнях московских соборов: Успенского, Архангельского и Благовещенского. За санями Паисия, не отставая, мерно покачиваясь в седле, следовал верхом пристав Посольского приказа, князь Ефим Мышецкий. За ним шли пешим ходом московские архимандриты и келарь, казначей, архидиакон, черные попы и дьякон, простые старцы и приехавшие вместе с патриархом служебники.
Возле Благовещенской церкви Паисия встречал патриарх московский Иосиф, облаченный в золоченую ризу, в руке его был жезл, на голове – богато украшенная митра. За ним стояли митрополиты и архимандриты, среди которых выделялся высоким ростом и мрачной статью архимандрит Никон.
В Благовещенском соборе отслужили праздничный молебен в честь приезжего знатного гостя. И снова торжественно и гулко звонили колокола на всех кремлевских звонницах. После молебна обоз с сидящими в санях обоими патриархами иерусалимским и московским, звеня сотнями серебряных бубенчиков на конных сбруях, двинулся к царскому дворцу. Остановились на Патриаршем дворе. Оба патриарха шествовали пешком к крыльцу Благовещенского собора, по которому обычно всходили высокие послы и делегации христианских государств.
– Святейшего патриарха святого града Иерусалима и всея Палестины Паисия милости просим пройти в Золотую палату, – кланяясь, густым баритоном почти пробасил, будто дьякон на службе, князь Ахамашуков-Черкасский.
Иерусалимский патриарх и следовавшие за ним запорожские послы были с первых же минут поражены роскошью и великолепием царского дворца. С восхищением и беспрерывно оглядываясь по сторонам, стараясь хорошенько разглядеть изысканную роскошь убранства, шествовали они по ярко и торжественно освещенным коридорным переходам к Золотой палате, минуя рослых молодцов внутренней охраны, наряженных по случаю их приема в парадную белую форму.
Князь Ефим Мышецкий вошел первым в палату и объявил о прибытии в Москву иерусалимского патриарха. Патриарх Паисий увидел впереди восседающего в левом углу палаты на царском троне знакомого ему по гравюрам российского государя Алексея Михайловича.
Царь смотрел на него весело и с живым любопытством. Одет он был по-праздничному, как для торжественных приемов иноземных гостей: на голове красовалась богато украшенная самоцветами шапка Мономаха, на груди висело тяжелое драгоценное ожерелье, в руке крепко сжат державный скипетр.
За царским троном стоял пышно разодетый боярин, окольничий князь Федор Федорович Волконский. По другую сторону трона Паисий заметил знакомое лицо протопопа Стефана Вонифатьева. Тот поймал проницательный взгляд иерусалимского патриарха и оживился. Незаметно кивнул головой, как будто подтверждая, что ему уже все известно о состоявшемся разговоре с Волошениновым.
Окольничий князь Волконский взглянул на царя. Тот согласно кивнул.
– Великий государь и самодержец, великий князь всея Руси Алексей Михайлович, святейший патриарх Паисий, патриарх святого града Иерусалима и всей Палестины, челом бью, – князь Волконский перевел взволнованное дыхание и умолк.
Паисий вышел на середину, постукивая посохом. Пристальный умный взгляд, плотно сжатые бледные губы выдавали охватившие его чувства. Он в молчании ждал продолжения.
– Великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всей России самодержец и многих государств государь и обладатель, его царское величество, воздают честь тебе, святейшему Паисию, Патриарху Святого Града Иерусалима и всей Палестины и велят расспросить о твоем здоровье: здорово ли дорогой ехал, в здравии иль во спасении пребываешь? Царь-государь велит тебя расспросить, хорошо ли принято ваше святейшество в Москве, и нет ли от вас каких жалоб? – спросил у него Волконский.
– И мы сердечно рады видеть тебя, царь государь и великий князь всея Руси Алексей Михайлович, и желаем тебе и всей Московии Божьей милости, процветания, спокойствия и благоденствия. Приняли меня хорошо, и уважили, – ответил красивым и звучным голосом иерусалимский патриарх и по-отечески тепло и задумчиво поглядел на царя Алексея Михайловича.
И вдруг, как будто устремляясь навстречу какой-то высшей неведомой силе, ощущая в душе необъяснимую радостную тревогу, а также настоятельную внутреннюю потребность ей следовать, Алексей Михайлович порывисто поднялся и стремительно пошел навстречу к почтительно склонившемуся перед ним в поклоне старцу. Однако, не доходя до него двух шагов, государь нерешительно остановился и замер.
Стоящий перед ним со склоненной головой Паисий, поддавшись такому же сильному и душевному волнению, с облегчением кивнул, радостно улыбнулся и торжественно поднял вверх руку.
– Благословляю тебя во славу Господа нашего и во имя процветания державы Российской, великий государь. Ибо известны нам Божьи заповеди, которые всякий христианин благоговейно хранит в глубине сердца: «Воздадите кесарю кесарево, и Богу Богово», а еще слова апостола Петра: «Бога бойтесь, царя чтите». И обе эти заповеди неразлучно соединены, чтобы мы ими укреплялись в исполнении обязанностей наших и послушания к Богу небесному, и к тебе, царю земному. Потому и поставлены они рядом, как будто говоря, что мысль о них нераздельная. Спаси и храни тебя, Боже, во всей твоей жизни и славе, царь и великий князь всея Руси, Алексей Михайлович.
Алексей Михайлович почувствовал, как горло его тревожно и больно стиснулось. Он приблизился к патриарху и протянул к нему для пожалования руку. Патриарх перекрестил его и с кроткой трогательной улыбкой кивнул, приложившись губами к его руке. И ещё сильней стиснулось горло у государя Алексея Михайловича. И вдруг он снял со своей головы шапку Мономаха и порывисто прижался лбом к плечу Паисия. Тот вздрогнул и покачнулся, как дуб под напором сильного ветра, и ласково обнял государя за плечи. И так они оба стояли, слившись в братском христианском объятии.
А когда отпрянули друг от друга в неловком и трогательном смущении и отступили, то уже по-другому, глядели друг на друга: серьезно и понимающе, как смотрят отец и сын друг на друга после долгой разлуки.
– Господь да пребудет с тобой, и твоей семьей и с вверенной Богом русской державой, сын мой. На московского царя сейчас с великой надеждой глядит христианский мир. Пресвятая Троица да утвердит тебя и умножит лета в глубине старости, благополучно сподобит принять престол великого царя Константина, прадеда твоего, да освободит народ благочестивый и православных христиан от нечестивых рук, от лютых зверей, что поедают немилостиво. Да будешь ты, российский государь, как новый Моисей, да освободишь нас от пленения, как он освободил сынов израильских от фараонских рук знамением честного животворящего креста, – прочувственно произнес Паисий.
Алексей Михайлович молча смотрел на иерусалимского патриарха, не в силах ответить. Все, о чем мечталось и мнилось, к чему страстно стремилась душа, вдруг по чужой и неведомой воле другого человека, но патриарха, а стало быть Божьего старца, вынеслось со дна на поверхность и засияло перед ним во всей своей страшной, законченной и торжествующей наготе, облекшись в слова. «Не это ли главная цель монаршей власти и жизни – стать новым Моисеем и повести за собой христианские народы. Да свершится же воля Твоя»! – Мысленно потрясенный обратился он к Богу, облизывая пересохшие губы. По спине Алексея Михайловича заструился холодок, а пальцы руки, крепко сжимавшей скипетр, казалось, закаменели.
Кивнув, он решительно развернулся и уверенной походкой направился обратно к трону.
– Приехал я к великому государю для милостыни: в Иерусалиме Гроб Господень в великом долгу, а оплатить нечем. Бью челом, – рассказывал Паисий.
Государь внимательно слушал его.
– Когда проезжал я по землям Речи Посполитой, в Виннице и в Шаре городе и в иных городах, и до Киева, я шляхтичей крестил и им говорил, чтоб они на православную веру не посягали. А когда был в Киеве, то приказывал гетману Хмельницкому сослаться с твоим царским величеством. Но гетман сказал мне, что ему о помощи писать некогда. Но просил меня передать тебе, что он и все войско запорожское бьют челом твоему царскому величеству, чтобы ты изволил войско запорожское взять и держать под своею государскою рукою, а они, казаки, будут тебе государю, как каменная стена, и чтоб ты им еще помощь учинил ратными людьми, а они, казаки, тебе будут надобны в воинской службе, – Паисий шумно выдохнул и умолк.
В Золотой палате установилась звенящая тишина, казалось, пролети сейчас муха, будет слышно ее жужжанье. Привыкшие вести себя шумно и несдержанно, бояре затаили дыхание.
Государь что-то шепнул Волконскому.
– Об этом деле великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всей России самодержец и многих государств государь вынесет отдельное решение. А сейчас мы желаем услышать от тебя доклад о делах вокруг святого гроба Господня в Иерусалиме, – громко произнес, выпрямляясь, Волконский.
Слушая рассказ Паисия про истечение огня на Гроб, и других чудесах, бояре с недоверием и изумлением переглядывались и все громче перешептывались, нарушая привычное проведение приема. На лицах появился неподдельный интерес, кто-то перестал теребить бороду, кто-то пробудился от сна, а кто-то торопливо толкнул локтем в толстый кафтанный бок сидящего рядом соседа.
Волконский, умевший угадывать мысли царя на лету, поймал его вопросительный нетерпеливый взгляд, встрепенулся.
– А есть ли еще, какие свидетельства, указующие на то, что это действительно небесный огонь? Не могли ли греки огонь заранее туда подложить? – с сомнением спросил он.
Тонкие губы Паисия снисходительно изогнулись. Он важно кивнул дерзнувшему усомниться и произнес:
– Неверием всякий бывает искушаем. Человеческая природа несовершенна, пока она не проникнется Божьим духом. Для этого чудеса и посылаются Богом в мир, чтобы мы, если терзают сомнения, искали пути избавления и уверовали. А доказательства есть! Я вам о них расскажу, – Паисий перевел взволнованное дыхание и испытующе обвел глазами слушателей, как будто желая удостовериться в их интересе.
В палате установилась тишина: перестали скрипеть под тяжелыми боярскими задами дубовые лавки, и даже сидящие на отдаленных местах бояре приумолкли, перестав между собой препираться, затаили нетерпеливое дыхание. Все как зачарованные ожидали продолжения рассказа о чудесах и явлении небесного огня.
– Сам бываю порой грешен, и тоже раньше не верил в чудесную силу. Огонь небесный отличается по цвету: он багровый, не как обычный огонь. Брал я в руку много свечей и все их зажег от него. А как поставил те свечи на алтарь да укрепил хорошенько, нагнулся, да и подставил свою бороду под пламя свечей. И… – Паисий торжествующе умолк и обвел внимательным взглядом бояр.
– А дальше-то что было, дальше-то что, не томи! – выкрикнул, не утерпев, Трубецкой. Ему уже не сиделось на месте и, подскочив он привстал, чтобы лучше расслышать.
Но сзади на него сердито зашикали, и Трубецкой снова бухнулся на лавку, растерянно оглядываясь.
– А дальше… хоть бороду свою и опалил я огнем, да только не один волосок с моей бороды не погиб и не сгорел. И я после этого, грешный, уверовал, что небесный огнь это и есть, ибо не сжег он моей бороды. А был бы то земной обычный огонь, борода бы моя подпалилась. Так же проверял я и в другой раз, и в третий палил свою бороду, и не раз прикасался огонь к моим волосам на голове. После этого я прощения просил перед Богом, что неверованием одержим был, – уверенно заключил Паисий и обвел торжествующим взором сидящих бояр.
Государь, патриарх Иосиф и Вонифатьев, боярин Волконский, Милославский, Романов, Трубецкой слушали заворожено.
– Надо же, какие на свет являются диковинные чудеса, – благоговейно протянул Воротынский.
– Истинно это чудо Господне, – подтвердил Паисий.
– А были ли еще чудеса какие? – нетерпеливо воскликнул Алексей Михайлович. В глазах его зажглось лихое и какое-то мальчишеское любопытство в ожидании неведомого чуда.
Паисий согласно кивнул.
– Были и еще, батюшка царь! Митрополит сербский Михаил однажды вошел внутрь Гроба с незажженными свечами в Великую Субботу перед вечерней. Меня рядом не было. А другие митрополиты в это время ходили возле палатки с незажженными свечами. Михаил же, войдя внутрь, затворил двери, и был там полчаса, а потом вышел и вынес свечи уже зажженные, и сказал, что они засветились не от обычного огня, а от Гроба Господня действием Святого Духа. И стал раздавать эти свечи людям. И всем рассказывал, что от огня жар идет, а палит так же, как и от любого другого вещественного огня; а каким образом возжегся огонь у Гроба Господня, он не знает.
Подошел Волконский, и Паисий передал ему мешочек в руки. Волконский развязал тесьму, вынул и бережно разложил вынутые драгоценные дары на поставце. По рядом бояр прошелестел говорок. Они в нетерпенье заерзали на скамьях, переглядываясь и вытягивая вперед шеи, подбадривая друг друга, толкаясь локтями. Каждому хотелось приложиться, поглядеть и потрогать хотя бы шелковую тесьму.
Когда всеобщее возбуждение немного утихло, посольский дьяк князь Ефим Мышецкий вывел запорожского посланника Силуяна Мужиловского на середину. Встав на одно колено, Силуян склонил голову перед царем.
– Великий государь благочестивый царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Руси самодержец и многих государств государь, запорожский полковник Силуян Мужиловский и запорожские казаки тебе, великому государю, челом ударили, – провозгласил Волконский.
– Как поживает запорожский гетман Богдан Хмельницкий, что слышно о нем и войске Запорожском? Все ли здоровы? – спросил Волконский.
– Полковник Силуян Мужиловский государя и великого князя всея Руси смиренно благодарит за добрые слова в адрес гетмана Хмельницкого и войска Запорожского. Гетман Богдан Хмельницкий и все войско Запорожское, дал Бог, здоровы.
– Что передать государю от гетмана Хмельницкого?
– Коли царю и великому князю всея Руси угодно во имя единой и православной веры наших народов, чтобы жить нам вместе едино, то пусть бы царь заступился за единоверных казаков, дабы поляки не наступали больше на казаков и в православной христианской вере не учиняли бы им насилия. А кроме российского православного государя больше и некому за единоверных казаков вступиться.
Волконский и царь с удивлением переглянулись.
– Известно ли запорожскому полковнику Мужиловскому, что государь и великий князь всея Руси уже отказал Речи Посполитой и не послал войско на Запорожье, чтобы подавить восстание единоверного нам народа?
– Известно, – со спокойным достоинством отвечал Мужиловский. Ни один мускул его мужественного и красивого лица не дрогнул. – За царское участие велено мне передать благодарность славному государю и великому князю всея Руси от гетмана Хмельницкого и всего запорожского войска.
– А известно ли, что не далее, как в декабре дипломат Григорий Кунаков отвез в Варшаву и передал в сейм грамоту от российского государя Алексея Михайловича, чтобы оно с войском запорожским войны не держало и крови христианской не проливало? – снова спросил Волконский.
– И об этом известно запорожскому войску и его гетману Богдану Хмельницкому. И за это велено особенно передать превеликую благодарность гетмана Хмельницкого и всего войска запорожского государю и благочестивому самодержцу, великому князю всея Руси.
– Почему же тогда после того, как казаки войска Запорожского пошли войной на ляхов, гетман Богдан Хмельницкий просил помощи у Крымского хана? Или не ведал гетман Хмельницкий о их вероломстве? А еще доходили до нас слухи, что гетман Хмельницкий просил польского короля быть их самодержцем! – решительно напирал Волконский, как будто позабыв обо всех правилах дипломатии.
– Перемирие между ляхами и запорожским войском – временное и заключено на выгодных для нас условиях, – нахмурившись, твердо произнес Силуян. – Войне между казаками и польской шляхтой не будет конца, потому что нет конца вероломству и предательству ляхов. И как только они вновь прольют казацкую кровь и начнут убивать, нарушится мир и покой, что приведет к еще большему разорению.
Лицо Мужиловского омрачилось: он невольно вспомнил, какой жестокий приказ отдал Потоцкий после битвы под Желтыми водами уничтожить жен и детей казацких, а их имущество отдать под разбой. Как сожгли его любимую Корсунь и церкви разграбили, как жестоко священников поубивали, лгали, что это великая Русь учинила и предательство осуществила, а Хмельницкого на восстание подстрекала.
Силуян также мог рассказать российскому государю и боярам о бедах, обрушившихся на его любимое Запорожье. И что хлеб в этом году не уродился из-за невиданного нашествия саранчи, но даже тот, что уродился, остался лежать в поле, потому что некому его было собирать, в селах почти не осталось мужчин, почти все ушли на войну со шляхтой. Слава Господу, что разрешили приезжать в российское государство и покупать здесь без пошлин хлеб и соль, другие товары. Что случилась страшная сеча между ними и надменной шляхтой возле рек Пилявка и Иква. И они победили многотысячное и хорошо вооруженное войско шляхты. А потом состоялась осада Львова и Замостья. И Богдан Хмельницкий, понимая, что казаки уже устали и им нужен отдых, принял решение не разорять красивый город Львов, выдвинув ряд требований к полякам. А какая славная победа была под Желтыми водами и Корсунем! Но разве словами опишешь, что было им и его товарищами пережито в последнее время…
Силуян взглянул на государя, перевел взгляд на Вонифатьева и вдруг заметил недобрый холодный блеск в его глазах.
«Э…да вот же! Кто как не этот святой отец против войны! Да и стоит вблизи трона», – осенила его внезапная догадка. И отбросив дипломатию в сторону, он пошел напролом, как смелый и решительный военачальник, которым и был на самом деле.
– Возможно ли, что сведения о нашем восстании дошли до российского государя из ненадежных и польских источников? Кому, как не им выгодно утверждать, что наш мятеж против их бесчинств может быть опасен и для Российского государства, и потому Российскому государству не следует с нами объединиться против Речи Посполитой. Они не хотят допустить объединения и усиления православной христианской веры и наших народов? – сказал и сразу поймал брошенный на него укоризненный взгляд царя.
Мужиловский не дрогнул, привык идти в любом сражении до конца. «Чем подобная дипломатия, если того требует успех всего дела, отличается от сражения, когда свистит возле уха смертельная картечь и грохочут пушки», – с горечью подумал он.
– Сие невозможно, – сухо, с явным выражением недовольства на лице произнес государь, удержав за рукав подавшегося было вперед Волконского.
К трону легкой кошачьей походкой проскользнул Вонифатьев. Наклонился к государю, зашептал на ухо. Царь выслушал и что-то тихо сказал Волконскому.
– Государь и великий князь всея Руси отпускает тебя восвояси и велит ждать его высочайшего решения. А пока будешь ждать, велит он тебе изложить все, что ты ведаешь про восстание черкас и указать причины и цель визита в Москву, – объявил Волконский государеву волю.
Через день челобитная от Силуяна Мужиловского с лаконичным перечислением военных действий Запорожского войска и уже занятых казаками южных воеводств была доставлена посыльным в Разрядный приказ и легла на стол государю. Вечером того же дня состоялось боярское сидение, на котором решено было пока ничего не отвечать Силуяну Мужиловскому и послать в Переяслав гонца, чтобы тот встретился с Богданом Хмельницким и разузнал обстановку. Решили ждать сообщений, как будут разворачиваться события дальше, и от воевод на южных границах.
Пока запорожская делегация пребывала в Москве, ни боярин Никита Иванович Одоевский, занятый в этот момент подготовкой к печати изданного его комиссией Соборного уложения; ни боярин Борис Иванович Морозов, вернувшийся осенью в Москву из позорной ссылки, но все еще находившийся в опале, были не в силах повлиять на принятие иного решения.
Разузнав от верных соглядатаев, что иерусалимский патриарх Паисий расспрашивает у монахов о боярине Морозове и почти каждый день допоздна засиживается за разговорами в гостях у святейшего патриарха Иосифа, Вонифатьев решил не медлить и приступить к осуществлению намеченного им плана по предотвращению войны с Речью Посполитой. Действовал он привычным для себя изворотливым хитрым способом.
Однажды, выйдя с обедни вместе с Никоном на подворье Кириллова монастыря, Вонифатьев задержался возле саней и вкрадчиво произнес:
– Паисий прибыл к нам неспроста. Он явно желает найти во дворце сторонников, чтобы уговорить государя начать войну с ляхами. Он не скрывает, что гетман Хмельницкий просит его помощи у государя. По моему разумению, казаки – народ ненадежный, они со всеми дружбу водят, когда им это выгодно. Надо нам ради государственной пользы выждать да посмотреть, как развернуться события дальше? – Бледное лицо Вонифатьева приобрело упрямое и злое, хищное выражение.
– Отобрать у поляков бесславно потерянный нами Смоленск – значит, честь и славу в потомстве снискать. Слышал я, что шляхтичи давно на православную веру ополчились и каленым железом ее с южных земель сгоняют. Неужели, останемся стоять трусливо в стороне и не поможем казакам? – удивился Никон. Он сразу понял, куда клонит хитрый протопоп и был с ним не согласен.
– С войной пока не следует спешить, мы к ней не готовы. Государству и войску нужно с силами собраться, да и в Европе сторонников найти. Ну а мы со своей стороны поможем, чем сможем, – осторожно промолвил Стефан.
– Чем же?
– Надо нам нашу православную веру с греческой зарубежной объединить против еретиков и латинян, – зашел с другой стороны Вонифатьев, намереваясь таким хитроумным способом убить двух зайцев: оттянуть нежелательную войну, а заодно ускорить продвигаемые им же церковные реформы.
Пока Никон хмуро раздумывал.
– Нужно послать к казакам наших послов, чтобы те сами в Запорожье съездили и всё своими глазами увидели, да разузнали, что там и как, а после государю бы и доложили, – предложил Вонифатьев.
– И то, правда, – согласился Никон.
– Но это еще не все. Знаешь ли ты, что патриарх Паисий вчера прислал государю депешу с просьбой приставить к нему тебя как мужа благоговейного и позволить тебе сопровождать его в поездках по Москве и нашим обителям.
– Не слышал об этом. Но весьма сим доверьем польщен, – ответил Никон.
– Вот и ладно. А как будешь с ним всюду ездить, все примечай, внимательно слушай и запоминай. Веди с ним душеспасительные и полезные беседы, а сам потихоньку про все выведывай и докладывай. И будет сия служба всем нам полезна и поучительна. А уж за нее я тебя при возможности хорошо отблагодарю, – пообещал протопоп.
* * *
По утрам протопоп Стефан Вонифатьев вставал с узкой и жесткой лавки, служившей ему постелью в скромной келье сияющего роскошью дворца и, шаркая ногами, шел умываться.
В крестовой, отбив коленопреклонённые поклоны и помолившись, он с завидным упрямством и постоянством приказывал келейнику отправляться в Разрядный приказ и узнавать, будет ли сегодня рассылка царских грамот о благочестии в церкви на места, в какие вотчины успели вчера разослать, и не поступают ли оттуда челобитные или жалобы. Вонифатьев заранее предполагал, что такие жалобы обязательно будут поступать, и потому с завидным упрямством готовился встретить их во всеоружии, как и подобает непоколебимому воину за веру Христову.
Сначала все было тихо. Но в какой-то момент, ситуация действительно изменилась, и в Разрядный приказ одно за другим валом начали поступать красноречивые и тревожные донесения от воевод на местах, докладывающих о начавшихся среди священнослужителей и паствы брожениях и открыто выражаемом неудовольствии.
Как только протопопу на стол легло первое тревожное донесение, он как старый хитрый лис, не потерявший острого нюха, мгновенно почуял угрозу, как для царя, только недавно оправившегося после соляного бунта, так и для себя, смекнув, что смута среди священнослужителей сама по себе так просто не разрешится. И для того, чтобы ее остановить, следует предпринять незамедлительные меры.
И Вонифатьев начал действовать. Улучив момент во время своей беседы с царем, он деликатно намекнул на возможное сопротивление в поместных церквях начавшейся реформе и посоветовал царю предложить Никону, как решительному и жесткому архипастырю, занять место митрополита в Новгородской и Великолуцкой епархии, так как именно откуда чаще всего и поступали тревожные донесения. Таким образом, Вонифатьев решил вновь убить сразу «двух зайцев»: выполнить свое обещание перед Никоном, помогая подняться по карьерной лестнице в церковной иерархии, и подстраховывая себя, ставя надежного и умного человека на проблемное место, на которого мог бы опереться в трудную минуту.
– Но там же сейчас служит митрополитом Аффоний. Да и патриарх Иосиф не позволит, – возразил ему государь, решив, что Вонифатьев просто так вслух размышляет. К тому же Алексею Михайловичу не хотелось терять, даже на время, в лице Никона умного и чуткого собеседника, к которому он по-дружески привязался и привык.
Но Вонифатьев продолжал настаивать:
– Я это знаю, государь. Но прежде всего надобно погасить разгорающийся среди священной братии пожар сомнений и ропота. Уж если отцы начнут сомневаться в решениях государя, что говорить про их паству. А там и до беды рукой подать. Спаси и сохрани нас Господь! Потому все средства для этого хороши, ибо они и Богу угодны, чтобы престол царский сберечь.
– А что же сказать патриарху? – спросил государь. В голосе его слышались сомнение и нерешительность.
– Разговор с обоими патриархами я беру на себя. Кому, как не мне, служителю церкви, об этом позаботиться.
Выслушав доводы своего красноречивого хитрого советника, царь Алексей Михайлович нехотя согласился.
Тем же вечером по наущению Вонифатьева царь спросил Никона, готов ли тот принять на себя ответственность за Новгородскую и Великолуцкую епархию. Никон был поражен и обрадован новому более высокому сану. Вежливо и учтиво поклонившись, он ответил, что любое, порученное великим государем и князем всея Руси дело, есть дело богоугодное, и исполнить его с достоинством – есть его долг и обязанность по воле, чести и совести.
Как только было получено согласие Никона, Вонифатьев поспешил посетить находившегося в это время в Москве иерусалимского патриарха Паисия, попросив в знак высочайшего доверия и доказательства этого доверия со стороны московского царя и священства к нему исполнить обряд посвящения.
– А что патриарх московский Иосиф? Не ему ли подобает рукоположить на сан? – спросил с удивлением Паисий. Он смекнул, что участвует в какой-то хитросплетенной интриге, в которой ему отведена одна из ролей.
– Патриарх заболел и лежит уже несколько дней в постели, – невозмутимо ответил хитрый Вонифатьев, хотя это было правдой: Иосиф, действительно, каждую весну страдал обострением застарелого кашля, укладывавшего его на время в постель. Однако ложью и лукавством являлось то, что Стефан Вонифатьев не счел нужным оповестить Иосифа о новом назначении заранее, рассчитывая сделать это в день рукоположения.
Паисий был заинтригован и смущен таким поворотом событий и попросил дать ему время для ответа. Поразмыслив, он уже на следующее утро дал согласие на почетное предложение, не желая навредить и собственным целям, которые преследовал, прибыв с визитом из Киева в Москву.
Так, благодаря стечению обстоятельств и по воле людей, стоявших на самом верху государственной власти и осознанно или же нет, творивших историю, архимандрит Новоспасского монастыря Никон одиннадцатого марта тысяча шестьсот сорок девятого года оказался торжественно рукоположен в Успенском соборе Кремля в митрополиты Новгородской и Великолуцкой епархий. И уже на следующий день после посвящения Никон выехал из Москвы в Великий Новгород.
* * *
Июнь тысяча шестьсот сорок девятого года выдался щедрым на тепло с обильными проливными дождями. Воздух был влажный, застывший, который обычно бывает только после дождя в безветренную жаркую погоду. Тучи гнуса и мошкары поджидали людей и животных возле разомлевших от летней неги прудов и слюдяных блюдечек лесных болот.
На многие версты возле села Коломенского расстилались широкие поля и пойменные луга, окаймленные на линии горизонта темно-зеленым лесным ожерельем. Щедро просвеченные солнцем березовые перелески перемежались с густыми разлапистыми ельниками, могучими дубами и дрожащими на ветру тонконогими осинками. На полянах было полно земляники.
Сельская молодежь поднималась с восходом и уходила в лес. Парни и девушки быстро набирали полные лукошки ягод и первых грибов, и усталые, но довольные возвращались назад. Тихими и светлыми вечерами, когда дела по хозяйству все были переделаны, молодежь собирались на лавочке возле какой-нибудь избы и допоздна пугала друг дружку рассказами о бурых медведях и разбойниках, притаившихся за елками и кустами. Шутки и смех не смолкали до ранней зорьки.
Наслушавшись страшных сказок, московские боярышни, приехавшие с царским двором на отдых, ходили в лес только в окружении дворовых девушек и мамок. Любимица царицы боярышня Феодосия Соковнина, хоть и слушала вместе со всеми, никого не боялась, в лес любила ходить одна или с младшей сестрой Евдокией.
Вот и сегодня, отпросившись с вечера у царственной своей покровительницы, она поднялась вместе с рассветом. Прислушалась в теплой дремотной тишине к дыханию спящей сестры и оделась. Выйдя из горницы, направилась в общую для женской половины дворца, крестовую комнату. В ранний час там никого не было. Феодосия затеплила лампадку на иконостасе, тихим голосом пропела молитвы. Поклонившись в пол троекратно, снова перекрестилась и легкой тенью выскользнула в коридор.
Вдоль стен, под низкими округлыми сводами стояли сундуки и скамьи, с опущенными до пола коврами и перинами, на которых спала дворцовая челядь. Безвольно свешиваются до пола кафтаны, одеяла, овчинные тулупы, торчали мысами кверху чьи-то неснятые чеботы, сапоги и четыги. До слуха Феодосии доносились разнообразные звуки, обычно сопровождающие всякий человеческий сон. Воздух в коридоре тяжелый и спертый. Это потом, когда взойдет солнце, девушки, откроют разноцветные окошки и впустят внутрь солнечный свет и воздух, примутся за уборку.
Выйдя на крыльцо, боярышня полной грудью вдохнула ударивший ей в лицо вольный ветер и быстро сбежала по ступенькам.
Светало. И утренний воздух был упоительно чист и свеж. Белые клочковатые облака, затянувшие пробуждающееся серое небо, перемешивались с пурпурными, розовыми и красноватыми облаками, подсвеченными снизу быстро восходящим солнцем. Несмотря на предрассветный час возле телег, расставленных по двору, толпились люди, накладывая на них мешки и корзинки с продовольствием: собирали обоз на утреннюю охоту. Ближе к хозяйственным постройкам стояли и разговаривали два богато одетых стольника.
Феодосии Прокопьевне Соковниной исполнилось семнадцать лет. Она была высокой и статной, настоящей русской красавицей: гладкий лоб, правильные и строгие черты лица, на котором живым ясным блеском выделялись глаза, четко отчерченные полные губы притягивали взор. Густые шелковистые волосы она заплетала в длинную темно-русую косу. Для похода в лес боярышня оделась просто: поверх льняной рубашки – вышитый красивым узором темно-синий сарафан и темную кофта. На голову вместо драгоценного кокошника надела скромный белый платок.
Из конюшенного двора навстречу боярышне вышел конюх. В руках он держал дорогие золоченые попоны и сбрую, украшенную серебром, которые предназначались для царского вороного коня. За ним, зорко поглядывая по сторонам и заложив одну руку за темно-красный кушак, а другую – за спину, важно выступал из Конюшенного приказа боярин Тимофей Иванович Глебов. В его ведении находилось снаряжение царских лошадей и хранение охотничьей амуниции.
Поравнявшись с девушкой, Глебов приосанился, многозначительно протянув:
– Здравствуй, Феодосия Прокопьевна. А я только что твоего брата Федора встретил. Спрашивал у меня, пошел ли кто в лес.
– А сам-то он куда пошел, Тимофей Иванович? – спрашивала боярышня.
– В мастерские палаты. Затем поедет на станцию, встречать рядской обоз.
– Ты его как увидишь, Тимофей Иванович, передай, что я в лес за ягодами пошла. А к нему после зайду, – ответила Феодосия.
Обогнув телеги и суетившихся дворовых людей, боярышня подошла к воротам, возле которых стояли вооруженные бердышами, дозорные. Феодосия подошла к будке и спустила с цепи повизгивающего от радости огромного лохматого сторожевого пса Трезора. Тот возбужденно махал хвостом и крутился волчком. Боярышня ласково заговорила с ним. Трезор подпрыгнул, норовя поставить на плечи девушки мощные передние лапы. Один из стрельцов замахнулся, чтобы отогнать пса, но его опередил громкий окрик Глебова:
– Ах, ты, шальной! А ну, пошел прочь от боярышни! Кого надумал пугать!
Трезорка замер и с удивлением обернулся к закричавшему человеку. Потом перевел умный взгляд на боярышню, как будто говоря ей: «Смотри сама. Вот я-то прыгать перестал. И какие еще будут приказания?» При этом Трезорка выглядел так уморительно, что Феодосия не выдержала, весело рассмеялась.
– Ну, чего же ты ждешь, милый? Беги, пока не поймали!
– До чего же у тебя душа-то сердечная, Феодосия Прокопьевна, – многозначительно протянул подошедший к ней князь стольник Сергей Иванович Плешаков. – Для каждого доброе слово найдется. Даже собаке, а на меня и не взглянешь.
– И тебе, Сергей Иванович, скажу, коли заслужишь, – спокойно отвечала на это Феодосия, поправляя платок.
– А ты сейчас скажи. Чтоб душе моей стало также приятно, как и Трезоркиной, – настаивал молодец.
– Не могу. Вдруг чего-то подумаешь, – сказала боярышня и смущенно потупилась.
– А если и подумаю, – понизив голос, ласково произнес Сергей и подвинулся ближе, – так разве ж я тебя обидеть желаю? Я ведь знаю, какая ты девушка строгая, и братья за тобой если что, стеной. Неужто боишься меня, Феодосия Прокопьевна?
Феодосия отрицательно покачала головой и не ответила. Стояла, не поднимая глаз. Ждала, пока стольник отойдет от нее. Плешаков с сожалением вздохнул. Еще раз пытливым и жадным взором вгляделся в нежное девичье лицо.
– Гордая ты, Феодосия Прокопьевна. Но я все равно подожду, может, ты передумаешь, и мы… – он не договорил и беззаботно насвистывая, отошел.
Какое-то время стоял, провожая уходящую девушку задумчивым долгим взором. А когда та скрылась за воротами, лихо сдвинул кунью шапку набок и направился в сторону хозяйственных пристроек.
У распахнутого настежь хлебного амбара, скрестив руки на груди, стояла царицына кравчая Анна Михайловна Ртищева и с яростью смотрела на приближающегося стольника. В глаза сразу бросалась статность ее высокой и по-женски округлой фигуры. Выразительное надменное лицо поражало белизной кожи, подсвеченной нежным румянцем. Высокий ровный лоб обрамляли черные пушистые волосы, выглядывающие из-под драгоценного высокого кокошника, литого золотыми нитями, по низу украшенного жемчужинами. Одета Анна была в украшенный драгоценными камнями и золотым шитьем, красный сарафан.
Когда Плешаков приблизился, она спросила его с плохо скрываемым раздражением и ехидством:
– От чего же это ты, Сергей Иванович, так ярко светишься, будто алтын? – спросила она его с плохо скрытым раздражением и ехидством.
– Тебя увидал, – коротко ответил тот и хотел идти дальше. Однако Анна Михайловна выступила вперед и, воткнувши руки в бока, язвительно поинтересовалась:
– А о чем же ты сейчас с боярышней Соковниной разговаривал?
– А тебе, Анна, все возьми, да и расскажи, – сухо ответил тот.
– Вот ты как, – обиженно протянула Ртищева. – Я ж не просто так тебя спрашиваю. Мне вот велено узнать, куда она отправилась спозаранку?
– Знамо дело куда! Туда же, куда и остальные девицы ходят – в лес, – с насмешкой ответил Сергей и с любопытством посмотрел на кравчую. – Неужели печалишься, как бы с ней чего не случилось в лесу, Анна Михайловна? – сыронизировал Плешаков.
– А то как же, и печалюсь! – с вызовом бросила та и свысока взглянула на молодца. – Боярышня-то уж больно смелая, все это знают. Как бы медведь или волк на нее не напал. А то ведь дождется, что и лесные разбойники утащат, будет знать!
Ртищева уже не скрывала своей неприязни к сопернице.
– Ну уж ты-то, Анна Михайловна, по ней точно горевать не станешь? – нахмурившись, вкрадчиво поинтересовался Сергей.
– Какая ж это печаль? – высокомерно фыркнула в ответ Ртищева.
Сергей не ответил и отвернулся. Кровь закипела в Анне Михайловне от ревности. На бесстрастном лице милого ничего нельзя было прочитать. Украдкой покосившись на него, она примирительно продолжала:
– Ах! Сереженька! Глянь, как красиво вокруг! Пойдем в поле, рассвет встретим, – воскликнула она, оглядевшись и кивая на разливающуюся, на сером небе алую зорьку.
– Не могу. Мне в кузнечную мастерскую идти, – равнодушно ответил стольник.
– Ах, Сереженька, какой же ты неласковый. Когда еще удастся нам вместе с тобой зорьку встретить? В Москву поедем, и не до зорьки, – уговаривала Анна Михайловна, подходя близко и взволнованно глядя молодцу в глаза.
– Сказал же, сейчас не могу. Эка ты, Анна Михайловна, непонятливая, – с досадой покачал он головой. Развернулся и, не попрощавшись, пошел к воротам.
* * *
За забором вьется тропинка, а за ней до горизонта расстилается широкое вольное поле. Колышутся будто море высокие луговые травы, цветы. За полем, в серой туманной дымке темнеет лес. Если идти по тропинке напрямую – до него и рукой подать.
Но Феодосия решила сократить и этот путь. Свернула с тропы и углубилась в густую и влажную траву. Войдя в неё по пояс, она сделала несколько шагов и остановилась, ошеломленная яркими красками пробуждающейся природы: янтарный рассвет, предвещающий солнечный и пригожий день, властно вступал в права. Показавшийся над линией горизонта солнечный диск медленно и величественно всходил над путающимся среди поля и леса белесым туманом и постепенно заливал темную, влажную траву дневным светом. Пробудившийся ветер, наполненный утренней свежестью, властно и крепко заключил взволнованную девушку в свои прохладные объятия.
Феодосия с наслаждением вдохнула горький и терпкий запах полыни, густой аромат распускающихся луговых трав и пошла еще быстрей. Трезор огромными прыжками мчался впереди, заливистым лаем приветствуя свободу. Он-то исчезал, то вновь выныривал из высокой травы, будто скользящий по морю челнок.
Не успела боярышня дойти до середины поля, как всепроникающий солнечный свет окончательно разорвал туманную дымку, осветив все пространство золотыми яркими красками. И сразу вслед за этим усилились и торжественно вознеслись к небу многоголосой симфонией переливчатые птичьи трели. Но вот взмыл вверх еще один небесный певец – неприметный серый жаворонок. И понеслась навстречу восходу его сольная чарующая трепещущая песня. На этот жизнерадостный призыв из леса откликнулось множество птиц, среди которых выделялась горлинка: ее нежный голосок и стал завершающим аккордом птичьей симфонии.
Феодосия собирала на поляне землянику. Спустя время со стороны села Коломенского она услышала надрывный лай собак и звуки охотничьих рожков.
Государь Алексей Михайлович со свитой приближенных бояр, князей, дворян, стольников и прочих служивых людей после раннего «кушанья» выезжал большим царским обозом на свою любимую с детства забаву – соколиную охоту. И кроме, как мимо Феодосии, обозу проехать было негде.
Чтобы не привлекать внимания, девушка придержала пса за лохматую холку и укрылась в зарослях малины с края опушки.
Великолепная царская процессия двигалась медленно, позволяя скачущим впереди сокольничим первыми добраться до выбранного ими заранее места царской охоты.
Впереди, на тонконогом вороном коне, покрытым широкими попонами из разных тканей с драгоценными камнями, ехал, мерно покачиваясь, государь Алексей Михайлович Романов. Феодосия разглядела лицо царя, на котором светилась по-детски счастливая улыбка. Боярышня знала – тот любит соколиную охоту пуще других забав.
Она разглядела среди сопровождавших государя бояр его тестя окольничего Илью Даниловича Милославского, бояр Ртищева, Хитрово, Стрешнева. Где-то наверняка прячется от солнца в карете и придворный врач Самуэль Коллинс, который обязан был всегда сопровождать Алексея во всех дальних походах.
Длинный царский обоз с богато украшенными каретами и гарцующими всадниками по обеим его сторонам был великолепен. Холеного вороного коня, на котором восседал государь, вели под уздцы два крепких стрельца, одетые в нарядные красные кафтаны, украшенные золотым шитьем, с белой перевязью на груди.
Конскую морду вороного накрывала «ремша» – изогнутая металлическая пластина, декорированная растительным орнаментом. В центре красовалось изображение двуглавого орла под короной. Убор коня был дополнен подшейной кистью из серебряных нитей. На ногах – чеканные золоченые наколенники с серебряными «гремячими» цепями, которые при ходьбе издавали мелодичный серебряный звон.
Государь благосклонно и задумчиво поглядывал по сторонам, и Феодосия догадалась, что сегодня у того благодушное и умильное настроение.
Издалека было видно, как к государю на коне подъехал боярин Никита Иванович Одоевский, оставшийся управлять Москвой во время отсутствия царя. Боярин был одет по-дорожному: скакал много верст из Москвы. Пока он докладывал, наклонившись к государю, лицо последнего все больше хмурилось.
Позади Алексея Михайловича на сильных жеребцах в ратной сбруе ехали бояре, окольничие, думские люди, стряпчие и еще дворяне по трое в ряд. Государев обоз сопровождали постельничий, семь молодых дворян, кареты с боярынями и дворянскими женами, телеги с продовольствием и всем необходимым для охоты. Замыкали шествие стрельцы, которые держали в руках пищали, сабли и бердыши. Через их плечи были перекинуты «берендейки»: одинаковые ремни с деревянными пенальчиками для пороховых зарядов. Некоторые молодцы держали в руках охотничьи рожки, в которые гулко и празднично трубили, нарушая громкими звуками природную гармонию.
Всадники и кареты скрылись. И теперь только ветер гулко шумел, запутавшись в кронах деревьев.
Феодосия стояла на поляне, посреди окружавших ее высоких кленов, густых раскидистых елей, зеленых берез и рябин, слушала, как гулко, шумно и радостно гудят качающиеся на ветру кроны деревьев, взволнованно трепеща и пробуждаясь к новому дню. Сердце боярышни чутко впитывало окружающую первозданную естественную красоту леса, чарующее пенье и щелканье птиц.
«Да разве же может какой человек превзойти всю эту дивную красоту и величие матушки природы? Даже если бы это был сам государь», – подумала боярышня. И, как будто откликаясь на ее мысли, из чащи вновь донеслось такое нежное и переливчато токующее птичье пение, что сердце чуткой ко всякой фальши девушки взволнованно вздрогнуло навстречу этим жизнерадостным звукам и затрепетало.
Постояв какое-то время, она плавным движением забросила за спину выбившуюся из-под платка русую косу и деловито полезла в малинник.
Наполнив доверху свои лукошки ягодой, Феодосия позвала мирно дремавшего в траве Трезора и пошла к полю.
Солнце стояло уже высоко и припекало. Под ленивыми порывами нагретого на солнце ветра медленно колыхались духмяные луговые травы и медоносные цветы. Жужжали над ними трудолюбивые пчелы, гудели шмели, порхали бабочки и стрекозы. Над полем низко летали ласточки и стрижи. Со стороны реки доносились оживленные голоса, кто-то затягивал долгую песню, слышался смех, чьи-то переклички. Это крестьяне, не дожидаясь общего выезда на сенокос, расположившись на привал с бабами, девушками и грудными младенцами, косили траву. По полю за косцами шли крестьянки. Уверенными взмахами грабель они трепали скошенную траву, чтобы солнце и ветер могли хорошенько ее просушить.
Феодосия увидела, как из леса к деревне по полю потянулась вереница усталой, одетой в простую светлую одежду молодежи. Парни и девушки возвращались парами и гуртом, выводя чистыми, звучными сильными голосами протяжные песни.
* * *
– Ау! Феодосьюшка! Ты где, сестрица? Ау! – зазвенел над васильками с ромашками взволнованный девичий голосок.
И вслед за этим, быстро-быстро замелькала в высокой траве пшеничная коса и белый плат. Растревожилась и взмыла кверху овсянка, высиживающая среди густых и цветущих трав птенцов. Её вспугнул стремительный бег крепких загорелых ног, шелест пряных и душных трав, покорно прильнувших к развевающемуся сарафану бегущей девушки.
– Ау, Евдокия! Иди сюда! Я здесь. Ау! – отозвалась Феодосия и поднялась с примятой травяной ложбинки, на которой до этого беззаботно лежала, любуясь лениво плывущей вереницей облаков.
– Вот ты где спряталась! А меня Марья Ильинична за тобой послала! Пока шла с краю просеки, смотри, сколько земляники отыскала! – запыхавшись, выпалила Евдокия и с сияющим от счастья лицом протянула лукошко, полное сочных крупных ягод. Феодосия бережно взяла и, спрятав в траву, прикрыла сверху большим листом лопуха.
– Садись, посиди. Маленько отдохнешь, и будем собираться, – предложила она и стянула платок. Привычным движением быстро переплела косу и закинула за спину. Лицо ее разрумянилось. На висках блестели бисеринки пота, грудь ходила ходуном под льняной рубахой, поверх которой надет голубой сарафан.
Сестры Соковнины были неуловимо похожи друг на друга. Обе – высокие, русоволосые статные красавицы. Черты лица старшей Феодосии казались более тонкими, строгими и одухотворенными. В ее темно-синих великолепных глазах можно было утонуть, как в глубоких омутах – столько в них таилось нежной задумчивости, суровой сдержанности и непонятной печали.
Младшая Евдокия – еще совсем девчонка. Но и она уже красавица. У нее было милое и простодушное лицо. Глаза смотрели на мир и на людей доверчиво и непредвзято, они горели задором и жаждой жизни. Евдокия – юная, наивная и доверчивая боярышня, во всех поступках старалась подражать старшей сестре.
– Жарко-то как! – посетовала она, вздохнула и присела на травку. – А я тебя вначале в лесу среди девушек искала. Потом меня Глаша надоумила, что ты в поле пошла жаворонков слушать. Что ж ты одна ушла? Я бы с тобой пошла. А то вдруг, медведь из-за дерева выскочит! – пошутила Евдокия.
– А ты меня, такая махонькая птичка-невеличка, спасла бы? – спросила Феодосия и ласково посмотрела на сестру.
– И спасла бы! – убежденно отозвалась та. Глаза ее блестели искренностью и отвагой.
– Ох ты какая храбрая, – похвалила Феодосия, – но меня защищать не надо. Не боюсь я ни волков, ни медведей. Иной человек в худой час и страшней медведя. А медведь – что? Зверь лесной, бесхитростный. У меня против него и заветное слово припасено, – увидела округлившиеся и восхищенные глаза сестры и снисходительно улыбнулась. – Послушает мишка косолапый мое слово, и в лес к себе пойдет потихонечку.
– А мне скажешь это слово? – затаив дыхание, спросила Евдокия. Она с восторгом и обожанием смотрела на сестру.
– Ох ты моя пигалица. Конечно, скажу! – Феодосия улыбнулась. – В другой раз. На-ка! Возьми платочек. Водицы то не хочешь испить?
Она протянула руку и заботливо, по-матерински, поправила выбившуюся из расплетенной косы Евдокии светлую влажную прядь, заведя за маленькое ухо. Не глядя, пошарила рукой в траве и, достав припрятанный от солнца кувшин с водой, бережно подала. С улыбкой смотрела, как Евдокия пьет.
– Вот и хорошо, – проговорила она, после того, как Евдокия прилегла рядом с ней на примятую и душистую траву.
Сестры лежали, прикасаясь, одна русоволосая головушка к другой и любовались опрокинувшимся на них бескрайним голубым простором с медленно плывущими по нему облаками, и их молодые пылкие сердца переполняла любовь к родному краю. Да и как можно не любить все эти бездонные, распростершие над ними свои объятия великолепные русские просторы! Кажется, что здесь и там на горизонте навсегда слились в дружеском поцелуе и эта щедрая русская земля, и это безбрежное синее небо, и уже никогда более не смогут они существовать друг без друга, наполняя души людей невероятным восторгом, воодушевлением и радостью жизни.
– Расскажи, что в дворцовых хоромах? – спросила Феодосия. Она приподнялась и, опершись головой об локоть, с интересом посмотрела на сестру.
– Царица проснулась и помолилась, к ней бояре пришли, здороваться. Я в светелке сидела, в окошко выглядывала. Вдруг вижу, батюшка наш Прокопий Федорович вместе с боярином Морозовым на крыльцо поднимаются. Глеб Иванович весь такой важный, в нарядном кафтане. За батюшкой нашим идет, а сам по сторонам зорко, как коршун поглядывает. Тебя, Феодосьюшка, поди высматривал. Их матушка наша, царица Марья Ильинична хорошо приняла, приказала меда белого с коврижками на серебряном поднести. Потом взошли они к царице в светелку. И Марья Ильинична тоже. А как зашла в светлицу, так всем своим боярышням велела выйти оттуда. И мне тоже велела. Батюшка меня по головке погладил, как девочку маленькую. Потом они между собой долго о чем-то совещались. А после уж Глеб Иванович обратно-то вышел на крыльцо, обратился к входу и в пояс от души поклонился. Его наш батюшка провожал. Сам-то боярин Морозов как рубль новехонький весь, так и светился. Довольный. Я у батюшки потом выспрашивала, зачем к царице боярин Морозов-то приходил? Мне же интересно! Да батюшка наш хитрый такой, отмолчался… – в голосе Евдокии промелькнуло сожаление. Она с жадным любопытством всмотрелась в задумчивое лицо сестрицы. Ей было интересно, как та отреагирует на важное известие.
Заметила взволнованно заблестевшие глаза и смущенную радостную улыбку, которую Феодосия и не старалась скрыть, торжествующе улыбнулась.
– Что скажешь?
– А что сказать? Как Марья Ильинична решит, и батюшка наш с братьями благословенье дадут, так пусть и будет. Подчинюсь их воле, – промолвила Феодосия и, подняв на сестру ясные глаза, строго добавила:
– Пресветлая государыня всем нам великая заступница! Худого мне не пожелает: за дурного человека не посватает. Я ей как матери родной верю. А про батюшку и братьев и вовсе супротив сказать не могу! Все они желают нам с тобой, Евдокия, добра и счастья! – в ее голосе прозвучала такая убежденность в сказанном, что Евдокия сразу и безоговорочно поверила ей.
– Кому ж, как не им нам с тобой довериться? Я перечить не стану! Если Бог так ссудит – пойду замуж за боярина Глеба Ивановича, – степенно заключила Феодосия и замолчала. Сидела, наклонив голову и задумавшись. Неторопливыми движениями отгоняла от лица настырно жужжащую мошкару.
В уютной, примятой молодыми телами травяной ложбинке было прохладно. Монотонно стрекотали кузнечики. Тихо шелестела трава, склоняясь над лицом, навевая сон и создавая ощущение покоя.
– Счастливая, – протянула Евдокия и мечтательно поглядела на плывущие облака.
– Я-то? Конечно, счастливая! Глянь, посреди какой красоты лежим с тобой, – отозвалась Феодосия и улыбнулась.
– Зря смеешься, я и правда, за тебя очень рада, – с облегчением вздохнула Евдокия. Она приподнялась на локте, искоса взглянула на сестру и вдруг выпалила:
– А вот Анна Ртищева, поди, и не рада!
– Ты чего о ней вспомнила? – Феодосия вопросительно посмотрела на сестру. Но та загадочно пожала плечами.
– Да так что-то…
– Э нет, сестрица. Начала, так теперь-то уж и выкладывай. Ну что там еще случилось? – спросила Феодосия.
Евдокии как будто того и надо было, чтобы ее попросили, сразу возбужденно затараторила:
– Я-то как пошла к воротам, так она меня и окликнула. Видать, тоже в окошко глядела и видела, как Глеб Иванович-то выехал за ворота. И не смотри, что царицына кравчая, позабыла про всякую стать и важность, так ее любопытство разобрало! Подскочила и давай выспрашивать о тебе. Только я ей ничего не сказала!
– Так она уж, поди, все узнала, – промолвила Феодосия.
– Царица не скажет. А батюшка и братья подавно. От кого же узнать? Да и мы не расскажем! Вот пускай и отгадывает загадку, – настаивала Евдокия.
– Ну ладно. Пока не будем говорить. Только шила в мешке не утаишь, итак скоро весь двор узнает, – возразила Феодосия. Причина нелюбви сестер Соковниных к царской кравчей боярыне Анне Михайловне Ртищевой (в замужестве Вельяминовой) была проста: та была хитрая, завистливая и острая на язык, много сплетничала и любила плести интриги.
Из травы к ним выбежала трясогузка. Сестры переглянулись между собой, улыбнулись.
– Смотри-ка, подслушивала, – прошептала, улыбнувшись, Феодосия.
– Ишь, как гузкой трясет! – воскликнула Евдокия и взмахнула рукой. Испуганная птичка вспорхнула и улетела.
Сестры дружно прыснули в ладошки.
– Упорхнула к твоим жаворонкам. Любишь их слушать, – с ласковой укоризной промолвила Евдокия.
– Люблю… – подтвердила Феодосия. Легко вздохнув, прибавила:
– Теперь, Бог даст, не одна буду слушать. Ну, пойдем домой, пигалица моя.
* * *
Боярин Морозов Глеб Иванович был одним из самых завидных женихов в Москве, потому что приходился родным братом самому боярину Морозову Борису Ивановичу, любимому дядьке государя. И хотя после прошлогоднего бунта положение боярина пошатнулось, влияние его на государя осталось незыблемым.
На большом дворцовом подворье Коломенского, когда государь приезжал отдыхать, всегда было многолюдно: под ржание лошадей и кудахтанье птицы, доносящееся с конюшенного и животного дворов, дворовые люди сновали взад и вперед. Челядь спешила с хлебного двора в столовые палаты, перенося огромные корзины и подносы с горячими и ароматными хлебами и калачами. Из кладовых – на сытный двор за напитками. И снова бегом в престольные палаты: накрывать столы для обеденной трапезы. Скоро вернется с соколиной охоты государь со свитой.
Царский дворец в Коломенском, возле которого происходит многоголосное и шумливое столпотворение, – был дивно и сказочно красив. Своей роскошной отделкой, изысканной филигранной резьбой по дереву он вызывал восхищение у всякого впервые его увидевшего. На восточной его стороне располагались передние хоромы. В северной части – большая столовая под кубической кровлей. В центре дворца на вершине красовался глобус с изображением льва и единорога. На третьем ярусе возвышались терема и чердаки с шатровой кровлей. Вершины шатров были украшены двуглавым орлом. Башни высокие, но не массивные, они будто парили в прозрачном воздухе.
Возле высокого дворцового крыльца, украшенного замысловатой резьбой, переминались с ноги на ногу два стрельца в длинных красных суконных кафтанах с белой через левое плечо перевязью «берендейкой», в атласных шапках с заломами. Когда сестры Соковнины приблизились, парни расправили плечи и приосанились. Один из них бойко спросил у боярышень:
– Много ли ягод набрали, красные девицы? Ох, и испробовал бы я сейчас, вкусна ли сладкая ягода да с боярской белой рученьки, – он широко улыбался, с удовольствием разглядывая милые девичьи лица.
– Подставляйте ладони, – ответила Феодосия и, весело переглянувшись с сестрой, от души насыпала в руки стрельца малины.
– Спасибо, красавицы! Ввек не забудем вашей боярской милости! – стрельнул глазами в зардевшееся девичье лицо довольный стрелец и поклонился.
– Что уж там. Кушайте на здоровье, – сдержанно ответила Феодосия.
Тот враз посерьезнел и кивнул товарищу, чтобы опустил саблю и пропустил боярышень.
– Государыня, матушка спрашивала о вас.
Феодосия кивнула и легко взбежала на крыльцо. За ней стрелой взлетела Евдокия.
– Вот чудные-то, – шепнула она и прыснула в ладошку. Через плечо задорно оглянулась на стрельца. Тот заметил девичий взгляд, подмигнул вслед.
– Евдокия, снеси лукошки на поварской двор и обожди меня в светлице. А я поднимусь к царице, – велела Феодосия сестре.
Евдокия не спорила. Порывисто кивнула и, развернувшись, направилась к лестнице на второй этаж в женскую светлицу, в которой девушки обычно занимались разными рукоделиями, вышивая шелком и золотом.
Феодосия шла по царским палатам легкой быстрой походкой, с достоинством отвечая встречным боярам и боярыням на поклоны, здороваясь с теми, кого не встретила с утра. Ее провожали восхищенные, а порой и завистливые взгляды.
Постучавшись в царскую опочивальню и услышав разрешение войти, она толкнула красочно расписанные узорочьем двери. Стены царицыной опочивальни были увешаны роскошными турецкими и персидскими коврами, мозаичными и маслом написанными картинами, зеркалами в тяжелых золотых рамах с подсвечниками по бокам. С потолка, украшенного разноцветными изразцами, свешивалась позолоченная люстра с хрустальными поставцами для свечей.
Царица Мария Ильинична сидела на оббитом позолоченной кожей стульчике у распахнутого окна, через которое свешивала ветки раскидистая высокая береза. С нежным умилением смотрела царица на лежащего под прикроватным парчовым балдахином, дрыгающего голенькими ножками ребенка, цесаревича Дмитрия. Нянька недавно принесла его с прогулки. Кормилица Улита, приняв ребенка, торопливо переодевала его из выходной нарядной одежды в простую, не стесняющую движений, льняную рубашечку.
– Дитятко! – глубоким певучим голосом позвала сына Мария Ильинична. – Погляди на меня, соколенок. Милушка мой…
Но Дмитрий не смотрел. Внимание ребенка привлек качающийся над ним простенький крестик, висящий на шее Улиты. Недолго думая, цесаревич ухватил его ручонкой и потянул на себя. Кормилица нагнулась.
– Ах ты, светик, ох, озорник. Кто это балуется! Ах, радость какая, – ласково приговаривала Улита, осторожно вытягивая из детских ручонок крестик и ловко подхватывая ребенка на руки. Подложив под спину атласную подушечку, она присела на постель, удобно облокотилась и привычным движением расстегнула лиф. Приложила маленький ищущий ротик цесаревича к тяжелой груди. Вначале тот выплевывал грудь и недовольно морщился. Но запах побежавшего из груди молока быстро привлек его внимание. Малыш жадно присосался к груди кормилицы и сладко зачмокал. Сосал он недолго. Грудь была тугая, и младенцу приходилось прилагать усилия. Он быстро утомился, закрыл глазки и выпустил грудь. Кормилица ласково потрепала его по бархатной щечке. Младенец приоткрыл сонные глаза, подрыгал свободной ручкой и снова принялся сосать.
И мать, и Феодосия, стоящая в этот момент в дверях, заворожено наблюдали за всеми движениями маленького цесаревича. Сердца обеих сладко и больно сжимались от нахлынувших чувств. Феодосия первая оторвалась от приятного глазу зрелища и вопросительно взглянула на царицу. Та заметила, шепнула кормилице, что скоро вернется, и вышла из опочивальни.
* * *
Марья Ильинична и боярышня вошли в темную горницу, в которой ничего не было, кроме стоящего в углу огромного резного сундука и стола, накрытого красным бархатным сукном. На столе лежали в строгом порядке письменные принадлежности и аккуратно сложенные рукописные свитки. Вдоль стен – лавки, накрытые коврами. Слюдяные окна закрыты разноцветными ставнями, отчего внутри царил переливающийся красными, зелеными и синими отсветами таинственный полумрак. На стене напротив входа висело потемневшее от времени зеркало в тяжелой позолоченной раме, размером с человеческий рост.
Это была любимая горница царицы, служившая ей одновременно и гардеробной, и приказной. В ней Марья Ильинична обычно разговаривала со своей челядью, с ключницей и дворецким, выписывала распорядительные записки из Постельного приказа.
Поставив подсвечник на стол, Марья Ильинична остановилась возле окна. Потом обернулась и взглянула на робко остановившуюся возле дверей боярышню. Милое лицо Марьи Ильиничны так и светилось простодушной радостью.
– Ну что скажешь, душа моя? Подойди же ко мне. Вижу, вижу, что ты уже знаешь! Донесла тебе сорока на хвосте. Ну и я таиться не буду. Радуйся, Феодосия Прокопьевна! Вот и пришел твой черед стать важной боярыней. А знаешь, что я скажу? Сам Глеб Иванович Морозов приходил ко мне с твоим батюшкой, спрашивать о тебе!
Феодосия от сильного волнения смутилась еще больше. Сердце ее затрепетало в предчувствии скорых перемен.
– Глеб Иванович – достойный и умный человек, – назидательно продолжала Марья Ильинична. Она любила опекать своих подопечных и сейчас покровительственно смотрела на склоненную, аккуратно причесанную головку своей любимицы. – Во всем жених завиден: и по родству, и по чину, а уж про богатство и говорить нечего. Замужем за ним будешь, как сыр в масле кататься. Все богатство боярина теперь в твоей семье окажется и детям по наследству перейдет. И я тебя не забуду своей милостью. Породниться с такой знатной семьей – великая честь и завидная участь для каждой девицы. И у государя боярин пользуется почетом и уважением. Чего тебе еще надо, душа моя?
Феодосия, не подняв головы, утвердительно кивнула: как можно царице перечить.
Однако в этот момент обе они вспомнили тревожное прошлогоднее лето. Когда царь своим приказом отстранил Морозова от службы и под конвоем отослал в Кирилло-Белозерский монастырь подальше от гнева людского. Сейчас боярин вернулся и проживал в своем доме в Москве. Восстание народа стало ударом для Алексея Михайловича, боярин за его спиной подрывал в народе его, государев авторитет. А ведь она раньше всех, даже раньше мужа, от отца Ильи Даниловича Милославского всегда узнавала обо всех кознях Морозова. Пользуясь тем, что более всех остальных был он приближен к государю, творил над народом зло и беззаконие: притеснял московских купцов, вымогал с них взятки, отбирал угодья и дома, устраивал с помощью подчиненных самосуд. А недавний случай, когда один из его приказчиков не довез до Москвы нужной меры зерна! Морозов тогда так рассердился, что сразу же послал людей к приказчику в село и приказал избить того кнутом перед крестьянами на общем сходе, да ещё и приговаривая: «Не дури и боярского добра не теряй!» Что было верными слугами точно исполнено.
Но разве могла она рассказать это мужу? Не гнева его она опасалась: не могла, не хотела сама быть нечестной по отношению к боярину Морозову. Она всегда будет помнить, что именно ему обязана тем, что стала царицей. И потому ей придется всегда его защищать, даже если в душе она с ним не согласна. Теперь вот пришел черед решить судьбу и ее любимой подруги детства и юности – Феодосии Прокопьевны Соковниной. Марью Ильиничну искренне волновала судьба всех ее сородичей, подруг, слуг, с кем соприкоснулась в жизни и кому по доброй своей воле покровительствовала. Обладая чистосердечным искренним характером, она считала своим долгом быть попечительной и сердобольной матерью каждому из своих подопечных и непременно устроить судьбу всякой дворовой девицы, или боярышни, жившей на высокой женской половине в царском дворе.
– Ответь честно, Феодосия, согласна ли ты пойти замуж за боярина Глеба Ивановича? Люб ли он тебе? Или не люб? Не скрывай правду. А то в душе потом, не дай Бог, попрекнешь меня за мое сватовство. Знаешь ведь, что тебе особенно желаю я счастья, – сказала царица. В голосе ее прозвучала искренняя тревога.
Феодосия вскинула голову, в глазах ее блестели слезы. Она поклонилась царице.
– Мне ли противиться, государыня матушка? Кроме вас, да царицы нашей небесной, есть ли еще утешительница и заступница мне на земле? А то, что люб или не люб.… Так ведь все происходит по милости Божьей и его воле! Я про боярина слышала, что он человек добрый и уважительный, и видела его издалека, он и лицом приятен, и фигурой не худощавый. Так чего же еще мне желать от мужа? – срывающимся звонким голосом воскликнула Феодосия и доверчиво посмотрела на свою царственную покровительницу.
– Вот и слава Богу! Как же я рада, что смогла порадовать твою душеньку. А то я, грешным делом, думала, что ты откажешься, стоишь вон какая грустная и молчишь, – с облегчением воскликнула довольная Марья Ильинична и с чувством исполненного долга троекратно перекрестилась, поглядев на иконы.
Потом она перекрестила с улыбкой Соковнину.
– Ну, подойди же ко мне, моя милая.
Феодосия бросилась к своей покровительнице.
– Дай же я тебя обниму, подруженька милая. Довольна ли ты теперь? – Все еще сомневаясь, расспрашивала у будущей невесты царица. На глазах у нее тоже блестели слезы. Прижав к сердцу любимую подругу, Марья Ильинична троекратно ее расцеловала.
– Быть тебе, милушка моя, по Божьей и нашей с государем воле, женой боярину Морозову. Готовься к свадьбе, милая, – торжественно объявила она. – Да и у меня теперь о тебе душа болеть перестанет. Сама знаешь, как я о вас, своих подопечных, переживаю. Какая девица без мужа, да одна, такая перед миром и худым человеком беззащитная, – степенно заключила она и вздохнула.
– Спасибо тебе, голубушка государыня, матушка наша! – с чувством произнесла Феодосия, упав перед той на колени.
– Ну полно! Вон как в жизни-то получается: и поплачем вместе, и посмеемся, пока никто не видит. Совсем как раньше, помнишь ли, Феодосьюшка, как вместе росли да играли? – с волнением спросила Марья Ильинична и помогла той подняться.
Какое-то время обе они смущенно молчали, борясь с нахлынувшим волнением.
– Я тебе еще вот что скажу. Хоть ты родом из богатой семьи, да и отец твой, знаю: наградит тебя хорошим приданым, но и я тебя, Феодосия, не обижу! Соберу для тебя богатое приданое и выдам денег на свадьбу. Пусть у тебя, Феодосия, будет все как положено! Чтобы вся Москва на тебя поглядела, порадовалась. А кое-кто рот раскрыл бы от зависти. Вот, мол, как государыня близкую родственницу замуж богато выдает! – царица усмехнулась, представив, как вытянется лицо у Ртищевой.
Потом перешла к столу и с важным видом, обмакнув перо в чернильницу, написала расходную записку, где просила. Позвонив в колокольчик, Мария Ильинична приказала вошедшей ключнице выдать в мастерскую из Постельничего приказа разного материала для шитья одежды, драгоценных камней, жемчуга, золотых и серебряных нитей на вышивку. Приказала уже с завтрашнего утра посадить в светлицах девиц шить приданое для невесты.
* * *
Ночью поливал сильный дождь. И дороги в окрестностях села Коломенского развезло. К утру дождь еще моросил, и на улице качалась влажная и туманная пелена.
Боярин Одоевский вышел на крыльцо Полковничьей палаты, где он провел эту ночь. На крыльце толпились стрельцы в синих кафтанах. Завидев его, стих веселый говорок. Стрельцы расступились перед ним.
Одоевский подошел к перилам, остановился. Увидел около Приказной палаты боярина Околоткова и дворецкого царицы Соковнина и решил обождать, пока те уйдут.
Вот через Передние ворота проехала внутрь тяжело нагруженная товаром телега, на которой сидели, качаясь в такт движеньям колес, трое мужчин. Их головы и плечи покрывали вывернутые наизнанку рогожные кули. Заляпанные грязью колеса и понурые головы лошадей свидетельствовали, какой долгий путь проделали они по раскисшей и непролазной дороге.
Заехав на бревенчатый настил, телега свернула к Сытенному двору и остановилась возле раскрытых дверей амбара. Высокий крепкий возница перекинул вожжи одному из своих спутников и спрыгнул на землю. Втянув голову в плечи, быстро скользнул внутрь амбара. Его спутники так и остались сидеть, устало понурив головы в мокрых шапках.
«Умаялись бедолаги», – сочувственно подумал Одоевский, представив себе их длинный путь под дождем, и трудности, которые пришлось преодолевать.
Из амбарного лаза вместе с возницей выскочили еще двое мужчин. Подойдя к телегам, начали таскать на плечах мешки с товаром в амбар.
Картина была привычной, и Одоевский, понаблюдав еще за работой, вздохнув, отвернулся.
Он увидел, как Околотков и Соковнин направились к коновязи, и начал спускаться с крыльца.
Пока шел к царскому дворцу, на него зарилась и галдели собирающиеся здесь по утрам площадные. Каждый день, будь то в Москве, или в Коломенском, собирались на площадях такие вот худородные и менее родовитые стольники, стряпчие, и прочие жильцы Москвы, Твери, Ярославля, Новгорода. Им не дозволялось проходить в царские палаты, и они толкались здесь, громко рассуждая о своей родовитости или переданных в разряды спорных делах. Одоевского знали, некоторые окликали его, почтительно кланялись и здоровались.
Высокое царское крыльцо окружала толпа хмурых не выспавшихся стрельцов, несущих охрану. Получив команду стрелецкого полковника, зорко прощупавшего взглядом подошедшего боярина, развели перед ним протазаны, освобождая проход. Одоевский поднялся с важным видом и прошествовал дальше по длинным деревянным переходам в Переднюю палату. Войдя, увидел маявшихся ожиданием бояр Черкасского, Соковнина и Голицына.
– Государь принимает? – спросил он у стоявшего перед дверями царской палаты дьяка.
– Здесь.
– Так, пойди, доложи, – прикрикнул Одоевский.
Войдя, он увидел сидевшего за столом, возле разноцветной изразцовой печи царя, который увлеченно играл со своим постельничим Михаилом Алексеевичем Ртищевым в шахматы. За спиной у царя тяжело сопели и топтались в тяжелых и душных кафтанах бояре Шереметев и Трубецкой. Оба играть не умели. Присесть боярам было негде: из горницы кто-то намеренно вынес все лавки. А на тонконогих низеньких стульчиках на польский манер дородным боярам сидеть неудобно, по причине узости сидений. Вот и приходилось обоим подпирать стенку и многозначительно оглаживать растрепанные длинные бороды, да утирать катившийся из-под шапок пот, с тоской наблюдая за неторопливыми движениями государевой руки, с задумчивым видом переставляющего на доске шахматные фигуры.
Никита Иванович прищурился и заговорщически подмигнул Шереметеву, указывая глазами на Ртищева, как будто говоря: «Что, опять перебил всю обедню?»
Шереметев повеселел, утвердительно кивнул и незаметно подтолкнул в бок совсем уже обессилевшего Трубецкого.
Одоевский многозначительно кашлянул. Государь оглянулся.
– А, это ты, Никита Иванович! Однако ж не вовремя, – пробурчал он и снова отвернулся, уткнувшись глазами в шахматную доску.
Государь был явно не в духе. Одоевский попятился, намереваясь незаметно выскользнуть из горницы, но государь, не глядя, громко осадил:
– Куда навострился?
Боярин замер.
– Подожду, государь, за дверью. Пока ты занят, негоже мне с моими пустыми делами соваться, – в его голосе прозвучала легкая ирония.
Государь передвинул коня, подумал и усмехнулся. После чего уже более миролюбиво произнес:
– И то верно, ступай.
Одоевский вышел в переднюю. Ждать пришлось долго, и он разговорился с недавно назначенным из тысяцких начальником Стрелецкого и Иноземского приказа боярином Черкасским.
Яков Куденетович происходил из старинного и знатного рода Черкасских. Это был мужчина лет сорока пяти, маленького роста, подвижный и ловкий. Голова его казалась большой и несоразмерной туловищу. Зато крутой лоб, над которым топорщились короткие поседевшие пряди когда-то смоляных волос, поражал мощью и благородством. Черные внимательные глаза светились волей, проницательностью и умом, а светлые усы и пушистая борода, обрамлявшие его непривлекательное, с необычайно резкими чертами лицо, завершали его удивительный и запоминающийся облик.
Характер боярина весь выражался в порывистых, точных и ловких движениях. Он почти не ходил, все время как будто бежал. По натуре же был целеустремлен, смел и решителен. Если ему поручалось какое дело – будь то сопровождение царя в поездке в дальний монастырь или вотчину, или же участие в каком либо семейном событии царской четы – все он исполнял самозабвенно и мастерски, доводя всякое дело до красивого конца. И точно также мастерски боярин владел любым оружием: луком, саблей, топором и кинжалом.
– Государь хочет на следующей неделе устроить смотр стрелецким полкам. Я кое-что придумал для него, – сказал он Одоевскому, блестя умными хитро прищуренными глазами.
– Жаль, не увижу. А я бы посмотрел на твою придумку. Знаю, какой ты мастер загадки придумывать, – с сожалением проговорил Одоевский, которому военная тема была хорошо знакома по старому месту службы воеводой в Ржеве и Астрахани.
Черкасский, не собиравшийся раньше времени никому рассказывать о своей задумке, взглянул на него с любопытством. Сожаление, прозвучавшее в голосе, показалось ему таким искренним, что он не удержался и довольный кивнул.
– Ну тебе-то, как старому служаке, откроюсь. Не увидишь, то хоть послушаешь. Кто знает, быть может нам еще придется вместе и повоевать. Как Бог судит… Да я и помню, как ты ходил под Смоленск к моему двоюродному дядьке Дмитрию Мамстрюковичу. А если бы ты тогда туда дошел, да вместе с моим дядькой и Шеиным одержал победу над шляхами, то быть может, отбили бы и Смоленск. А-то ведь как-то нелепо закончилось, – с горечью добавил он.
– Да.…Но решение принимаем не мы. И видно, что в тот момент иного решения и не нашлось. Но все, же признай, Яков, что решение уйти в тот момент оказалось спасительным для полков и сохранения жизни солдат.
– Ну да… Поляновский мир. Но мы потеряли Михаила Борисовича Шеина. И Смоленск также потеряли, – упрямо возразил Черкасский. Глаза его яростно блеснули.
– Не кори себя, Яков, прошлого не воротишь. Настанет время, и мы обязательно отобьем Смоленск. К тому же и государь тоже думает об этом. Лучше устремим взоры вперед, на будущие славные победы, – подбодрил его Одоевский, догадавшись, какие мысли бродят у Черкасского в голове. Тот так и не смирился за столько лет со смертью своего старого товарища.
– Ты прав. Хочу сделать все, что в моих силах, чтобы наши полки чаще одерживали на поле боя победы, – эти взволнованные слова прозвучали как клятва, бережно хранимая и давно выстраданная в душе Черкасского.
– Но солдат надо научить правильно вести бой. Для этого и провожу учения. Придумываю свой бой и как бы навязываю его противнику. Хочу показать государю и боярам, что уже получилось, – признался Черкасский и вдруг с несвойственным ему смущением скромно умолк. У него уже имелся определенный опыт военных действий, когда служил воеводой в Туле. Но там он участвовал в охране русских границ от нападений крымцев и ногайцев. И применять другую тактику боя не приходилось. Сейчас он хотел попробовать совершенно иное. Тем более, что опыт воеводства и руководства Стрелецким и Иноземским полком раскрыл широкие возможности для применения собственных самостоятельных действий и новых правил в бою: не отвечать, а наступать на врага.
– Негоже коннице нести только сторожевую службу. А если первыми штурмовать врага? И задействовать сразу и конницу, и пехоту?
– Толково и верно придумано, ничего не скажешь. Ох, и светлая у тебя голова, Яков Куденетович. Я всегда это говорил государю, – уважительно произнес Одоевский и лукаво прищурился.
– Уж не ты ли похлопотал о моем назначении? – подыграл ему Черкасский, прекрасно зная, что назначен он воеводой Стрелецкого полка благодаря его личным заслугам перед царем. Однако же он решил похвалить Одоевского, помня, что всякое доброе слово или услуга рано или поздно где-то сторицей окупятся.
Одоевский самодовольно хмыкнул и огладил бороду.
– Не без этого, Яков Куденетович. Не без этого…
– Ох, и спасибо, товарищ мой. Век не забуду. А если и надо и за тебя при случае замолвлю словечко, – так обменявшись любезностями и оставшись при этом весьма довольными друг другом, старые вояки продолжили свой разговор.
– Потешу царя, а заодно и сам погляжу, что выйдет, – с воодушевлением произнес Черкасский, и его небольшое подвижное лицо загорелось румянцем.
– И то верно! Твой зоркий глаз все заприметит, любой промах или ошибку, – нахваливал Одоевский Черкасского.
– Не перехвали меня, Никита Иванович. А то вознесусь, как горный орел на вершины, гордыня опять же одолеет, разленюсь да все брошу.
– Не бросишь. Не сможешь. У тебя душа такая, что не сможешь, – ухмыльнулся Одоевский. – Грех таиться, а только ведь завидую я тебе сейчас, Яков Куденетович. Ведь я и сам, когда служил, порой ломал голову, как пехоту и конницу так построить и действовать, чтобы в бою победить и потерь было поменьше. И до того, что ты сейчас мне рассказал, ни в жизни бы не додумался. А то ведь истинно, наши-то всадники мчатся на врага, как скаженные, пугают, и бьются, как крымцы, только лучным и огненным боем. А толку от атаки – с гулькин нос. Противник-то бежит, а наши-то хитрецы тут и бросают их преследовать, и давай грабить чужие обозы. А это ж как? Стыдно. А если атаку-то отобьют, то наши служивые повернут назад и скачут обратно в пехоту. Либо в обоз, либо вообще с поля боя, да и прячутся, будто зайцы под кустами и скирдами.
Они еще разговаривали, когда вдруг резко хлопнула об стену распахнувшаяся дверь, и стражники рынды отскочили в стороны, и Ртищев вылетел из царевой горницы. Проходя мимо сидящих на лавках бояр, он ни на кого не глядя, проследовал дальше с сердитым надутым лицом. Одоевский и Черкасский проводили его взглядом. Когда он скрылся, оба с пониманием переглянулись.
– Поди, партию проиграл, вот и злится. Подумаешь, дело на пустячок, – снисходительно промолвил Одоевский, поймав себя вдруг на мысли, что не испытывает к выскочке Ртищеву, не удостоившему его взглядом, ни малейшей досады. Не то, что раньше. «Старею…», – подумал Никита Иванович с легкой иронией и спокойной грустью.
* * *
Из царской палаты вышел боярин Романов, велел Одоевскому войти.
– Когда отправляешься в путь? – спросил у боярина государь Алексей Михайлович.
– Как только позволишь, государь. Но хотел бы уже сегодня отправиться.
– Не буду удерживать, – кивнул государь и, потеплев взглядом, промолвил. – Присядь-ка. Чаю, что неспроста ты с утра пожаловал, рассказывай, что за дело?
– Дело вроде бы пустяковое. Но без твоего высочайшего милостивого соизволения все же не обойтись. Зачастили ко мне из приказов дьяки с челобитными. Каждый день по несколько человек приходят и в ноги кланяются. Выспрашивают, как теперь им судить еретиков и богохульников по новому Уложению? Опасаются, что если суды и наказания в государевых приказах вершиться будут, то, дескать, не сможет судья понять, виновен священник или нет…
– Обращение мое со святыми отцами – это дело такое, особенной государственной важности. К ним с той же ложкой, как к общей каше не подойдешь. Тут надо действовать с умом и по-хитрому. Чтобы все остались довольны, и польза была. Да только что я могу сказать… Вы там сами в своей комиссии главы-то эти сочиняли. Откуда ж мне знать, что да почем, – ехидно напомнил государь. – И Никон предупреждал, что не поймут. Вот теперь и выпутывайся.
– Уже знаю, что делать.
– Сказывай.
– Надо создать специальный приказ по церковным судам, и назвать его Монастырским. Чтобы тяжбы духовных лиц рассматривались только в нем. Тогда и нам волокиты меньше, и глядишь, протопопы и дьяки успокоятся, – сказал Одоевский и с надеждой взглянул на царя.
– Вот вместе с патриархом Иосифом и отцами все обсудите, а потом мне и доложите, что решили. Там видно будет, – сказал государь. – Сколько приказов уже получили Уложение?
– Все, но есть несогласные, – осторожно промолвил Одоевский.
– Кто ропщет?
– Протопоп Аввакум.
Алексей Михайлович нахмурился.
– Аввакум – известный баламут и смутьян. Никак не пойму, чего добивается.
– Иные баламутят, чтоб славы себе и людской молвы раздобыть. Истину говорите, что надо со священниками посоветоваться, а заодно узнать у них про Аввакума, – осторожно молвил боярин.
– Если он супротив патриарха и митрополитов в московских соборах злые речи ведет, за это будет сурово наказан. Я распоряжусь, – отрывисто произнес государь. И благодушное лицо его помрачнело.
Одоевский согласно кивнул.
– Тебе, великий государь, вольно и думать, и должно решать. Знаю, что народ тебя боготворит, как царя батюшку и заступника. Вот и Никон как приехал в Новгород и сразу стал свои порядки там устанавливать. Народ сразу не понял, поверил, ходили к нему толпами, слушали проповеди, а потом сторониться начали – уж больно крут и властолюбив новый митрополит. Еще через верных людей знаю, что протопопы и дьяки новгородские и великолуцкие жалуются патриарху Иосифу, что рукоположили Никона в нарушение правил, на место живого митрополита Афония.
– То, что митрополит строг и благочестив, для государства и народа полезно, и среди бояр будет меньше лихоимства, – ответил государь. – А то, что миряне своего митрополита боятся и сторонятся – плохо. Об этом я ему напишу в письме.
Алексей Михайлович после отъезда Никона понял, как ему не хватает дружеского общения с ним, его дельных и точных советов. С боярином Морозовым царь теперь почти не общался, не в силах простить ему поджог Москвы и в тоже время испытывая непонятное чувство вины перед ним. Это была своего рода опала, напоминавшая о их разрушенной дружбе и подорванном доверии между когда-то близкими и почти родными людьми.
Алексея Михайловича и Одоевского отвлекли от разговора раздавшиеся за дверью голоса бояр.
Государь резко поднялся, давая понять, что разговор окончен. Встал и Одоевский. Поклонился государю и, прощаясь, сказал:
– Великий царь батюшка Алексей Михайлович, не сердись на меня, если по неразумению и дурости сказал, что не так. Более всего не сердитесь, что мало погостил у тебя. Поеду в Москву, если позволишь.
– Поезжай, Никита Иванович. Не буду удерживать, – тепло улыбнулся в ответ государь, – знаю, мои царские потехи тебе не по душе. Ну, Господь с тобой. Я не сержусь.
* * *
В пятницу ранним утром в воздухе влажно парило, обещая очередной теплый день и приближающуюся грозу. Вдалеке от дворца видно, как клубится над заливными лугами белесый туман. Иногда слышатся звуки рожка и резкий свист бича пастухов, гонящих из деревень стадо. Природа уже проснулась, но ещё как будто нежится, пребывая в самой сладкой и сонной истоме, которая бывает только по утрам.
Дверь в Переднюю палату Коломенского дворца была чуть приотворена. Дневной свет с улицы косо проходил через оконный разноцветный раствор, освещая драгоценный дубовый пол, выложенный шашечками.
Алексей Михайлович только проснулся и лежал на постели, иногда зевал аж, скулы сводило и слезу из глаз вышибало. Спать ему больше не хотелось, вставать – тоже лениво. Он взглядом обвел стены спальни. Жены нет, ушла к маленькому сыну в соседнюю горницу и пока не возвращалась.
Наконец, Алексею надоело бесцельно лежать и, приподнявшись, он потянулся к стоявшему рядом полированному низенькому столику. Достал из длинного узкого ящичка сшитую в несколько страниц тетрадку. Откинулся на пуховые подушки и начал пролистывать. В заветной тетрадочке он уже в конце зимы набросал план действий на лето по садоводству и огородничеству. О существовании заветной тетрадки никто, кроме жены, не знал. Постельничий Федор Ртищев, может, и догадывался, но молчал. «И правильно, а то мигом по носу щелкну», – довольный подумал Алексей Михайлович и прочитал последнюю запись, сделанную во время разговора с Одоевским. Боярин звал его погостить в Галичской вотчине и подавал на его имя челобитную о добавлении еще двух полян в эту вотчину, для расширения имеющихся бортнических угодий.
«Схожу с Федором в Дьяково к дедушке Карпу, пускай разведет и дасть мне ульи для Измайлова и Скопина. За каждую малую травинку и деревце, за каждое Божье создание неси-ка ты теперь, мил человек, ответственность, коли царь государь всея русской земли», – мечтательно улыбнулся Алексей, вспомнив вдруг слова патриарха Иосифа.
На низком устойчивом столике на витиеватых ножках, накрытом красным бархатом, стояли подаренные английским послом часы: по лазоревому кругу на шаре небесного свода со звездами и месяцем методично ходили две стрелки, часовая и минутная, отсчитывая время. Небесный свод со звездами и месяцем медленно поворачивался, а внизу два кузнеца били молоточками по золотой наковальне, раздавался часовой бой. Эти часы он заказал кузнецам из Великого Устюга, чтобы сделали их похожими на те, которые бьют и на Фроловской башне в Кремле.
Когда часы впервые у них появились, они с женой, будто дети, взявшись за руки, не отходили от них до самого вечера и как дети искренне восторгались, как умело и точно ударяют кузнецы своими маленькими молоточками, и как при этом ходят еще и стрелочки, и откуда происходит дивный звон.
– Эх! Как же забыл, совсем позабыл! – воскликнул Алексей, отвлекшись от своего созерцательного настроения. Выхватил из-под подушки колокольчик и позвонил. Вбежал постельничий Федор Ртищев.
– Федька, чего не напомнил мне про полковой смотр?
– Да я ж… как будто запамятовал. И вчера запамятовал, и сегодня на ум не пришло, – заюлил Ртищев.
– А что ж запамятовал? Приказывал же тебе, помни все, что говорю, как «Отче наш». Эх, из-за тебя дурака опоздал!
– Без тебя не начнут, государь, – радостно ответил Ртищев.
– Ну не знаю.… Пускай ждут. Подай одежду.
– Пошли, Федька, со мной, – приказал Алексей Михайлович, с удовольствием оглядывая себя в огромном зеркале на стене.
– Куда, государь? – проговорил тот, всем видом выражая немедленную готовность последовать за своим повелителем хоть на край света.
– Ты чего, дурак! Сегодня же смотр стрелецких полков, – воскликнул Алексей Михайлович и радостно подмигнул постельничему. Тот закивал головой. Царь выскочил за дверь и чуть было не наступил на вытянутые ноги охранявших его покои двух рынд. Один спал, безвольно свесив голову в шапке на грудь. Другой сидел прямо, но тоже с закрытыми глазами.
– Чего ноги-то выставил? А если бы я упал, знаешь, что было, – пригрозил царь. Но глаза его были веселые, и вскочивший с лавки молодец лихо кивнул в ответ. Толкнув не успевшего опомниться товарища в бок, он резво схватил прислоненный к стене тяжелый золотой топор и молодецки выпятил грудь.
– То-то же, – примирительно протянул Алексей Михайлович и двинулся дальше. Идущий за ним Ртищев задержался на мгновенье и сердито прошипел зеваке:
– Говорил тебе, Петька, не спи. Ох и дурак же ты, – и на ходу оправляя на себе кафтан и саблю, висящую на поясе, убежал.
Как только государь и постельничий исчезли из поля зрения, рынды поглядели друг на друга и с облегченным вздохом перекрестились. Сняв с плеч надоевшие топоры, прислонили к стенке. Пока начальства нет, можно и полежать. И оба вновь улеглись на лавках. Спустя время они уже беззаботно храпели.
Государь и постельничий, хоронясь любопытных взглядов оживленно снующих на площади бояр и челядников, обогнули Казанскую церковь и многочисленные постройки, и вышли к ажурной деревянной калитке, ведущей в сад.
Немногочисленные челядники, попадавшиеся им на пути, испуганно и переполошено приседали, кланяясь, затем стремительно растворялись, укрываясь за углами хозяйственных построек. Миновав сад, царь и постельничий обогнули многолюдный Сытенный двор, многочисленные ледники и фряжские погреба и вышли к Вознесенской церкви, увенчанной золотым шатром и колокольней.
Войдя в темные сени часовни, и быстро поднявшись по винтовой узкой лестнице на самый верх, они оказались в большом полукруглом помещении, просвеченном солнцем и открытом для кругового обзора. Навстречу метнулся пономарь. Бояре Черкасский и Воротынский, ожидавшие прихода государя, оглянулись.
И только князь Долгорукий не повернулся и остался стоять, напряженно наблюдая за выстроенными на поле стрелецкими и конным полками.
В середине зала возвышался царский трон, накрытый ковром. Еще один красивый персидский ковер с ярким цветочным рисунком также лежал и на полу. Кроме двух сундуков и стола, накрытого бархатной желтой тканью, с окружавшими его лавками, в помещении больше ничего не было. Оно предназначалось для царских смотров двух стрелецких полков и одного конного полка, которые в этот момент уже выстроились рядами на лугу в определенном порядке, ожидая команды от своих командиров.
Размашисто подойдя к вырубленному прямо в стене окну, напоминавшему пушечную бойницу, Алексей Михайлович взял протянутую ему князем Долгоруким подзорную трубу, протер ее окуляр краем полы своего опашня и, прислонив к глазу, вгляделся вдаль. На его лице застыло радостное любопытство, в глазах – возбуждение.
– Когда же начнут? – нетерпеливо спросил он и посмотрел на Долгорукого.
– Ждут вашего сигнала, государь! – с готовностью отрапортовал тот.
– Так дайте же его! – немного капризно приказал Алексей Михайлович и снова уткнулся глазами в трубу. Ртищев стоял позади него, жалея, что у него нет такой полезной трубы, в которую можно увидеть все в подробностях.
Долгорукий высунулся наполовину из окна и принялся усиленно махать алым флагом с вышитым на нем золотым Георгием Победоносцем.
Величественная картина, представшая взору царя Алексея, наполняла его сердце гордостью и восторгом. Стрелецкие полки стояли на аккуратно выкошенном зеленом лугу, были одеты: одни в темно-зеленые, другие – в светло-зеленые кафтаны, перевязанные на груди золотыми тесьмами. Каждый солдат вооружен саблей, ружьем и сверкающей секирой в виде полумесяца. Над их головами через равные расстояния развевались белые, красные и черные знамена с изображениями архангела Михаила и других святителей или образов из Священного писания.
Как только сидящие на конях возле построившихся полков командиры заметили реющий сигнальный флаг на башне, они привстали на стременах, повернулись и отдали барабанщикам приказ:
– Бей сбор!
Раздался дробный стук, запела труба.
Полковники продолжали отрывисто командовать:
– Подтянись! Подними мушкет. Возьми заряд! Опусти мушкет! Приложись. Стреляй!
Раздались выстрелы, и вверх поднялись клубы белого дыма.
– До чего громко бьют аж, в ушах отдается, – одобрительно воскликнул государь и со смеющимися глазами обернулся к Ртищеву.
– Так точно, государь, занятно и весело бьют, – охотно закивал тот в ответ. Хотя звуки долетающих до их слуха выстрелов и не были такими уж громкими, государю, любившему смотреть строевые учения стрельцов, а особенно конницы, они казались таковыми.
– А кто это там вдалеке скачет, как заяц? – ехидно воскликнул Алексей и указал рукой на появившегося на стороне темно-зеленой лесной дубравы всадника. – Ну да я и сам, сейчас погляжу.
Опоздавшим всадником оказался знакомый ему пятисотенный Соколов. Вверенный ему отряд потешных стрельцов стрелял без своего проспавшего командира, подчиняясь общим полковым командам.
– Ему-то и нырять нынче в пруд, – довольный решил Алексей Михайлович и, отойдя от окна, присел на трон.
Ртищев и стоявший рядом князь Долгорукий понимающе переглянулись. Эта шутливая любимая забава государя, заставлявшего своих стольников, не поспевших вовремя прибыть к полковому смотру, купаться в пруду была давно всем известна. Причем некоторые стольники сами же и напрашивались на эту шутку, зная, что после такого купанья государь обязательно позовет виноватого к царскому столу и от души накормит. Сам же государь со смехом обычно говорил об этом:
– У меня купальщики хотя бы могут вдоволь всего поесть. Я никого не обижу. А иные еще и признаются: мы нарочно не поспеем, так как нас выкупают, да еще и за стол посадят. Многие нарочно и не поспевают.
Поместное пешее войско, стоявшее в этот момент на лугу, относилось к первому разряду. В этот малочисленный и привилегированный разряд, в отличие от второго и третьего, входили представители высших придворных чинов и бояре со своими свитами, московские дворяне и жильцы – богатые выборные дворяне. Конные отряды представляли собой полки, которые набирали по старому поместному принципу, на должности начальных людей приглашали иностранцев, а солдат брали из своих мелкопоместных и беспоместных дворян, детей боярских, охочих и вольных людей, ново окрещенных татар. Из них-то и были набраны несколько полков драгун и рейтар. Все эти драгуны, рейтары и копейщики получали от казны земельные наделы, жалование, оружие, одежду, крупу и соль. Раз в год, обычно осенью, солдат собирали на месяц для военного смотра и обучения, после чего они снова разъезжались по домам. По эти причинам русские конные полки «иноземного строя» оставались все тем же поселенным войском, многочисленным, но слабо обученным. Как раз один из таких драгунских конных полков и присутствовал на утреннем смотре.
Неделю назад Алексей Михайлович велел боярину Черкасскому собрать в селе Коломенском полки и конницу для построения. Хотел потешить себя и полюбоваться великолепным шумным зрелищем выхода своих военных полков, нежели чем проверить их реальную подготовку к сражениям. Причина такого беспечного отношения крылась в том, что Алексей Михайлович никогда ранее вплотную не занимался военным делом, и реформой своих войск и пока даже не помышлял о создании новой регулярной, хорошо подготовленной, снабженной современным вооружением и обмундированием армии. Впоследствии военную реформу провел его сын Петр Алексеевич.
Еще в тысяча шестьсот одиннадцатом году поместная конница была могучей и способной вести победоносные военные действия. В годы Смутного времени вместе с народным ополчением князя Пожарского и Кузьмы Минина была освобождена Москва от польских интервентов, и осенью тысяча шестьсот восемнадцатого года, когда была отбита очередная попытка польской армии и союзного с ней запорожского отряда гетмана Сагайдачного взять Москву, она это продемонстрировала. Но уже начиная с тысяча шестьсот пятнадцатого года, удельный вес артиллерии и ручного огнестрельного оружия вырос. И большую роль в сражениях играла непосредственно пехота и стрелецкие полки, которым и надлежало уделять больше внимания.
– Сейчас нам покажут бой, государь, – объяснил Черкасский.
Алексей Михайлович вновь подошел к окну.
– Красиво, – произнес с удовлетворением.
Все сгрудились возле бойниц и наблюдали за движением полков, как они по команде своих командиров сначала разошлись, образовав ровные квадраты на поле, и некоторое время стояли на противоположных сторонах. А затем снова сошлись и также красиво разошлись.
– На сегодня достаточно. Командуйте отбой, – велел Алексей Михайлович, чувствуя, что проголодался.
Ртищев спросил разрешения у Черкасского, схватил сине-белый флаг и, свесившись из окна, довольно и весело им замахал.
После завтрака в шатре на том же поле царь во главе придворной процессии прошествовал к реке и живописному пруду за Дьяковским оврагом, в котором разводили карасей. Таких прудов для разведения карпов поблизости еще было два.
На берегу реки уже находился тот самый опоздавший пятисотенный Ефграф Соколов, который понуро топтался на месте, дожидаясь своей участи и решения царя. Возле него стоял прославивший себя ловким поведением на воде и умением плавать с огромной скоростью Михаил Будаев, малорослый слуга, в обязанности которого входило разведение карасей и спасение на воде, если понадобится. Будаев был силен и ловок и чувствовал себя в воде, как быстрая щука, умеющая быстро схватить свою добычу, утопающего.
– Ну, что Ефграф, признаешь ли вину? – спросил Долгорукий, весело глядя на Соколова. Тот охотно поклонился.
– Признаю. Виновен в опоздании, отец наш. Согрешил Богу и государю.
– Наперед ответь, умеешь ли плавать?
– Отчего же не уметь, умею. Дело нехитрое.
– Ну а коли умеешь, и слава Богу! Но с тобой рядом поплывет Михаил, чтобы спасти, если понадобится, не дай Бог! Царю нашему будет потеха, за которую он потом тебя, дурака, хорошо наградит, – уже тише прибавил Долгорукий. Перекрестил Соколова и сказал громко, чтобы слышала собравшаяся в ожидании развлечения публика:
– Ты, братец, виновен. А потому не мешкай, полезай-ка в пруд и плыви наперегонки с Михаилом к тому берегу. Этим искупишь вину. А если удастся доплыть, то получишь от государя прощение.
Соколов скинул с себя военное облачение, в котором и пожаловал прямо с высоких мостков. Оба молодца Будаев и Соколов прыгнули в воду и, гребя мощными рывками, поплыли к другому берегу реки. Опережал Будаев. На середине реки Соколов почувствовал, что сильно устал. Теряя силы, крикнул:
– Тону!
Михаил развернулся и рванул к нему. Обхватил Соколова рукой за плечи, потащил за собой. Он сразу понял, что еще чуть-чуть и тот бы утонул на глазах у царя.
Будаев доплыл вместе с Соколовым до другого берега. Уже отдышавшись, спросил у несостоявшегося утопленника:
– Обратно-то сможешь доплыть? Может, сядем в лодку, да и вернемся?
– Надо плыть, иначе не миновать беды. А вдруг царь не простит вины… – слабым голосом отвечал Соколов.
– Э, да как же тебе плыть назад, коли ты едва разговариваешь, – с сомнением проговорил Михаил.
– Так и плыть, перекрестившись, да и с молитвой, уповая на Бога, – грустно отвечал Соколов.
Отлежавшись и почувствовав прилив свежих сил, он поднялся.
– Ждать уж нельзя. За опоздание нас с тобой заругают, – и направился к воде.
Но Будаев окликнул его:
– Погоди, братец. Соревноваться со смертью уже нам негоже. Я снова поплыву с тобой рядышком. Ты если что-то почувствуешь, сразу скажи…не подведи ни себя, ни меня. Видишь, вороны нарядные собрались, стоят и глядят, – заключил он, кивая в сторону толпившихся на другом берегу бояр.
Когда переплыли реку, Соколов подошел к царю и, поклонившись, слезно попросил прощенья, которое сразу же и получил.
– Да ты, наверное, проголодался, пока тонул? – благосклонно спросил его Алексей Михайлович.
– Проголодался, батюшка царь, сильно проголодался.
– Ну так ступай и поешь у меня, – сказал государь и указал на раскинувшийся на пригорке шатер, в котором стояли накрытые столы.
Соколов еще раз поклонился и на подгибавшихся от свинцовой усталости ногах направился к шатру, в котором стояли накрытые столы.
* * *
– Вот что, – обернулся государь к Ртищеву и братьями Хилково, – а не сходить ли нам в Дьяково? Мне доложили, что там живет пасечник Карп, и он этим летом насобирал много меда какого-то необыкновенного вкуса и называет его «царским». Вот его и хочу отведать. Боярин Одоевский рассказал, что бортничество в уездах приходит в упадок. А коли так, то может, подумать, не устроить у себя во дворце пасеку и мед самим собирать? Что скажешь, Федор?
– Ульи – это дело хорошее, у Одоевского есть пасека в Галичской вотчине. Я когда там был, пробовал его мед.
– Я тоже пробовал и у боярина Морозова пробовал, – согласно кивнул государь. – Но у Никиты Ивановича медовое дело обустроено по-ученому, как по книжкам расписано. Он меня еще убеждал, что хорошо бы издать закон, чтобы в тех уездах, где бортничают, запретить лесной промысел. А то ведь, и правда, сосну и ель выжигают. А пчелам где же селиться? Ну, пойдем посмотрим местную пасеку или так и будем стоять истуканами?
– Отчего б не сходить и не отведать, батюшка государь, – бойко отвечал за всех стольник князь Иван Хилков, сообразив, что предлагать царю доставить мед от Карпа во дворец, значит навлечь на себя неудовольствие царя, которому просто захотелось еще прогуляться.
Компания во главе с царем направилась от пруда к Дьяковскому оврагу. За ним на широком пригорке раскинулась деревня, в центре стояла церквушка. Из нее пестрой толпой выходили крестьяне со службы: старики, дети, девки, бабы с младенцами. Завидев царскую процессию и остолбенев от удивления, останавливались и низко кланялись, многие падали на колени в придорожную пыль и крестились на государя, как на икону.
Идя по улице, царь невольно присматривался к лепившимся вдоль дороги бедным крестьянским жилищам, представлявшим из себя покосившиеся темные срубы с рублеными сенями, волоковыми оконцами, низкими дверьми. С крыш срубов свисала залежавшаяся, а кое-где и давно почерневшая гнилая уже солома. В небольших дворах, окруженных плетеными клетями, видны были сараи и иные хозяйственные пристройки, в некоторых дворах были и колодцы со вскинувшимися вверх журавлями.
– Послушай, где найти пасечника Карпа? – спросил Ртищев у мужичка, который, завидев высоких гостей, поклонился с достоинством, но остался стоять у своих ворот, продолжив распрягать худую куцую лошаденку.
– До конца улицы пожалуйте, батюшка наш, – отвечал мужичок, указав рукой, куда надо идти, и снова поклонился царю и боярам.
Возле одного из дворов, мимо которого они следовали, под скамьей дремала черная собачонка. Увидав чужаков, она вскочила, опрометью бросилась под ворота и оттуда испуганно залилась дребезжащим лаем. Белобрысые ребятишки, как воробьи копошились на высокой песчаной куче под раскидистой вишней, тянувшей ветки из-за невысокого забора.
Добравшись до конца центральной деревенской улицы, важные гости остановились перед калиткой, ведущей на крестьянское подворье.
Двор, на который взошли гурьбой царь и его молодые приятели, был беден, но чист. Возле деревянного сруба сидел под навесом старичок с открытой седой головой. Завидев высокую делегацию, он встрепенулся и, оттирая полой длинной холщовой рубахи свое загорелое, покрытое мелкой сеткой морщин маленькое лицо с блестящими и на удивленье молодыми глазами, пошел навстречу царю, упал на колени и поклонился.
– Бог в помощь, – проговорил Алексей Михайлович с дружелюбной улыбкой. – Да ты встань и лучше скажи, где отыскать нам твоего хозяина Карпа?
– Спасибо, батюшка наш! А что его разыскивать, коли хозяин это я.
– Так это про тебя люди сказывают, что умеешь ты делать какой-то диковинный мед, то ли стрекозий, то ли воробьиный? Не угостишь ли? – сказал Алексей Михайлович, намеренно искажая известное ему название меда, чтобы не испугать холопа.
Старичок открыл рот, хотел что-то сказать. А потом конфузливо покраснел и промолвил:
– Прости, милостивец и батюшка наш, да только ты неточное название употребил для этого меда.
– А какое же точное? – снисходительно усмехнулся Алексей Михайлович.
– А точное – царский мед, – помешкав, ответил пасечник и обреченно вздохнул.
– Ну а ты, поди, уже догадался, кто стоит перед тобой? – грозно нахмурившись, переспросил государь.
Пасечник бухнулся в ноги и залепетал:
– Догадался! А как не догадаться! Ты государь и великий князь всей Руси Алексей Михайлович! А я твой верный холоп, бью челом и прошу милости и прощения за дерзость свою.
– За какую такую дерзость? – многозначительно переспросил государь, заметив, как из-за двери с испугом выглянула старушонка в темной поневе, подпоясанная красным кушаком. Заметив, что на нее смотрят, она низко поклонилась и спряталась за дверью.
– А за то, что посмел назвать мед в твою честь, милостивец и заступник наш, батюшка царь, не спросивши ни у кого разрешения, – продолжал, стоя на коленях, испуганно оправдываться пасечник.
– Вот что. Давай поступим так. Ты нас угостишь своим медом, и если он нам понравится, то так и быть, наказывать тебя не буду. А если вкус его нас разочарует, то уж ты сам пойми, не избежать тебе ударов плетьми, – промолвил Алексей Михайлович и весело переглянулся с приятелями. Те одобрительно засмеялись.
– Вставай, чего ждешь! – поторопил Ртищев пасечника и слегка ткнул ему в бок рукоятью сабли.
Пасечник поднялся с колен и повел всех к саду, росшему за его домом. Войдя в сад, свернули налево и по вьющейся среди яблонь тропинке вышли на открытое небольшое пространство, загороженное невысоким плетнем. Несколько лип, привольно раскинувших душистые кроны вдоль плетня, создавали естественную защиту от ветра и наполняли воздух свежим лиственным запахом.
Четыре улья стояли посередине пасеки, и были накрыты светлыми досками.
– Тебе, батюшка государь, не стоит близко туда ходить. Меня-то они знают. А чужих могут и покусать. Пчелы роятся и нынче сердитые, – предупредил пасечник, останавливаясь у калитки, и встревожено поглядев на царя.
– Отчего же?
– Весна нынче холодная, батюшка наш, а пчелы любят тепло, – простодушно объяснил пасечник.
– Ну, хорошо, мы, пожалуй, и здесь постоим. А ты ступай и принеси-ка нам своего стрекозиного меда, – с ухмылкой приказал Алексей.
Но в этот момент к нему и стоящим рядом молодым боярским детям подлетело несколько пчел и стали с жужжанием виться над головами.
Хилковы и Шереметев замахали на пчел руками и бросились подальше, не дожидаясь, пока те их покусают.
Государь и Ртищев остались на месте, из самолюбия не желая показать свою слабость.
Среди лип показался идущий к ним пасечник, державший в руках березовый туесок. Подойдя, он снова низко поклонился.
– Бью челом, царь-государь, отведай нашего меду.
– Сам сначала отведай, – приказал ему Ртищев.
Пасечник кивнул и приложился к туеску.
– Солнечный дар, ну чисто царский медок, – он неторопливо вытер губы рукавом и передал туесок в руки Ртищеву.
– И ты, Федор, отведай, – велел Алексей Михайлович. Ртищев попробовал.
– Ну, а мы завтра пробу снимем, – кивнул царь. – Как на вкус?
– Чудно и диковинно, – с самодовольным видом провозгласил Ртищев.
– Держи, мужичок, – сказал государь и подал пасечнику двугривенный.
Тот упал на колени, уткнулся лбом в траву.
– Не провожай. Сами дойдем, – смилостивился государь, и гуляющая компания направилась обратно к лагерю.