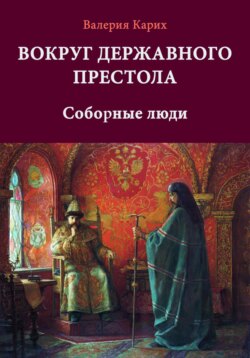Читать книгу Вокруг державного престола. Соборные люди - Валерия Евгеньевна Карих - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 6
ОглавлениеПосле отъезда Никона и принятия новых законов – Уложенной книги, составленной комиссией Одоевского, увязывающей в единое целое различные сферы экономических и общественных отношений в Российском государстве, к Алексею Михайловичу часто ложились на стол челобитные с жалобами на воевод и дьяков, чинившими произвол.
Государю же, когда к нему поступали подобные жалобы и требования, даже просеянные через мелкое бюрократическое сито дотошными и кропотливыми дьяками Разрядного приказа, чудилось, что «весь мир вокруг снова качается…»
Он начал испытывать сомнения и неуверенность в предпринимаемых действиях. Но делиться сомнениями с женой не хотел, замыкался в себе, общался с приближенными боярами и Марьей Ильиничной высокомерно и холодно, нередко срывая свое раздражение на них. Но в разговорах с боярами на сидениях в думе царь не скрывал, что страшится повторения Смуты и новых бунтов. И потому челобитчики получали через Романова по его указу на все свои жалобы суровую отповедь: «Холопы де государевы и сироты великим государям не указывали…а того никогда не бывало, чтобы мужики с боярами, окольничими и воеводами у рассправных дел были, и впредь того не будет…»
С принятием новых законов в Российском государстве начался тектонический сдвиг в государственном устроительстве, и потому настроение всех социальных групп с начала тысяча шестьсот сорок девятого года и вплоть до поздней осени оставалось тревожным.
Новое Уложение было прежде всего направлено на укрепление и возвеличивание главенствующей роли государя Алексея Михайловича, но одновременно укрепляло и положение средних и беднейших слоев, что не могло не вызвать противодействия со стороны высшей боярской и дворянской знати, увидевших в новых нормах урезание собственных прав. Посадские же торговые и ремесленные люди, почувствовав поддержку государя, наивно сочли его действия солидарными собственным чаяниям и с воодушевлением говорили: «Ныне, дескать, государь стал к нам милостив: и сильных людей из царства выводит». И они действительно творили произвол в отношении посадских людей.
Противодействие же простого люда зажиточным слоям в реформе государственного устроительства принимало в это время совершенно причудливые и неожиданные формы протеста. Так, в Устюге и Сольвычегодске народ поднялся боем на своих воевод, ропща против грабительских поборов и притеснений, которые те устраивали, чтобы возместить начавшиеся убытки. Из Пскова и Великого Новгорода через Разрядный приказ поступали челобитные на таких «начальных людей» боярину Никите Ивановичу Романову с просьбой заступиться за посадский люд против изменников бояр и приказных людей. Торговые и ремесленные люди просили установить сыск по судебным делам и восстановить прежний порядок, «чтобы воеводы и дьяки вместе с земскими старостами и выборными людьми могли судить виновных по правде».
Одоевский, взяв за основу нового законодательства упрочение и возвеличивание высшей царской власти, а именно главенствующего места самого государя, поступил на редкость прозорливо и мудро. Никита Иванович отчетливо понимал, что сам факт существования авторитарного державного правителя как раз и является тем самым прочным фундаментом имеющегося государственного строя, расшатывание которого нельзя было допустить, и которое могло незамедлительно привести к самым гибельным последствиям, раздроблению на удельные вотчины и в итоге к ослаблению и разрушению державы.
К реформе государственного устроительства прибавилась в этот же момент и активно проводимая протопопом Вонифатьевым церковная реформа, от которой государь Алексей Михайлович также не хотел отказываться. Начавшееся в Москве навязывание благочиния в приходах вызвало недовольство среди священников и обычных прихожан, которые также несли челобитные с жалобами и недовольством к патриарху Иосифу. И об этих челобитных также становилось известно государю.
Мир «качался» не только внутри государства, но и в его душе, к тому же на южных границах государства складывалась непонятная и тревожная обстановка, указывающая, что война с Речью Посполитой неизбежна, и начало ее – всего лишь вопрос времени, подготовки войск, оружия и его политической воли. Приехавшие с визитом в Москву послы от польского короля во главе с Альбертом Пражмовским напомнили посольскому дьяку Алмазу Иванову о соблюдении Поляновского мира. А когда рассказывали о крестьянских бунтах на королевских землях, о том, как те вырезают польскую знать, лукаво смолчали о собственной жестокости. Но главное, на что напирали поляки, – если российский царь не хочет, чтобы и у них такое же учинилось, надо объединяться и не оказывать помощь гетману Хмельницкому. И все это Алексею Михайловичу также приходилось учитывать при выработке решений.
В начале марта в Москву прибыл посланник от запорожского гетмана Василий Михайлов с важной депешей, которую он передал в Посольский приказ. В депеше помимо привычных дипломатических фразу поминалось о том, что гетман уже не раз обращался к российскому царю с просьбой начать наступление в направлении Смоленска на польскую шляхту.
Хмельницкий сообщал, что принимает предложение царя Алексея Михайловича, чтобы «в покое жили с ляхами», «ибо всем желательно жить в мире, но с ляхами этого достичь невозможно», а главное, что «мы как раньше, так и ныне желаем того, чтобы ты нам…государем и царем за благословеньем Божьим учинился».
И эта депеша от православных братьев, этот невольный вскрик души упал зрелым семенем на благодатно вспаханную почву и окончательно укрепился в сознании Алексея Михайловича, побудив его незамедлительно вызвать к себе Одоевского для обсуждения ситуации на южных границах Российского государства, и неизбежно следующего за ним еще одного важного вопроса войны или мира с Речью Посполитой.
Одоевский как будто ждал, что ему когда-нибудь зададут этот вопрос. Посерьезнев лицом и нахмурившись, он решительно и твердо сказал, будто рубанул сплеча:
– Доколе Смоленску терпеть иноземное иго? Черкасы и казаки – нам братья, мы одной с ними православной веры!
– Если сейчас принять их под государеву руку, не приблизим ли мы час войны? – спросил Алексей Михайлович. Он пока еще не был готов к кровавому ужасу и смертям русских людей, которые могли неизбежно последовать за таким решением.
Одоевский понимающе посмотрел на государя.
– Согласен с тобой, государь. Армия пока не готова к большой войне. Необходимо подготовиться и перевооружить наши войска, сформировать новые полки. На это надо время и это надо обсуждать с нашими воеводами.
Животрепещущий вопрос на южных границах после этого разговора еще не один раз обсуждался и на других заседаниях боярской думы, приобретая для Алексея Михайловича все более серьезные, крупные и явственные очертания. И слушая, как разноречиво говорят об этом вопросе его бояре и воеводы, сам Алексей Михайлович все больше укреплялся в мысли, что именно ему в первую очередь и предстоит принять это важное и ответственное для государства решение.
На одном из таких заседаний дипломат Алмаз Иванов, обладавший дерзкой проницательностью и умением ловко разыгрывать блестящие дипломатические комбинации, заручившись предварительной поддержкой сторонников, включая Одоевского и Прозоровского, решительно вышел вперед, поклонился государю и предложил простое, но хитроумное решение, которое заставит польскую шляхту предпринять выгодные для Москвы политические шаги.
– Пошлем к запорожскому гетману московское посольство. И снарядим по высокому рангу так же, как и наши посольства в Данию, Турцию и Голландские штаты, немецкие курфюрства. Пускай поляки знают, что отныне наши южные границы главный вопрос для нас. А возглавить посольство предлагаю дворянину Григорию Яковлевичу Унковскому, уже не раз доказавшему, что может с честью служить тебе, государь, и яростно защищать наши интересы.
В глазах Алексея Михайловича промелькнул заинтересованный огонек. Он подался вперед, но промолчал. По его задумчивому взгляду Иванов догадался, что его предложение прозвучало вовремя и пришлось царю по душе.
– Никому не позволительно нарушать этикет, и уж тем более запорожскому гетману, – проворчал с места окольничий Богдан Хитров. Его полное гладкое лицо скривилось от возмущения. Хитров был противником войны, и ему не нравилось, что обсуждение по воле Иванова отклоняется от темы уменьшения податей с рыболовецких хозяйств и вотчин, к которым относились также пруды и озера самого Хитрова. Этот важный для Хитрова вопрос мог из-за Иванова отойти на задний план, уступив место вопросу южных границ, от которого Хитрову на тот момент не было ни холодно, ни жарко.
Зашевелились высокие боярские шапки, думские люди заговорили, заспорили. Когда шум в палате немного поутих, ведущий заседание Лопухин велел Иванову:
– Говори ещё про черкас.
Иванов чуть заметно усмехнулся и не спеша продолжил:
– А еще, батюшка царь, следует придать высокий статус посольству, и при обращении к нашему государю пускай составляют документы по этикету. А если нарушат, то приравнять такое нарушение к государственному преступлению с целью оскорбить и унизить государя.
– Хорошо. Говори дальше, – кивнул головой Алексей Михайлович.
– Пускай Григорий завтра придет вместе с Силуяном Мужиловским в приказ и возьмет образцовое письмо, чтобы впредь гетман при переписке с вами начинал со слов: «Божьей милостью великому государю и великому князю Алексею Михайловичу всея Руси Богдан Хмельницкий, гетман войска Запорожского и все войско Запорожское челом бьют».
И снова Алексей Михайлович одобрительно и согласно кивнул.
Дьяк Иван Лаптев стоял, низко склонившись над деревянным поставцом возле окна, и торопливо записывал. Старательно скрипело гусиное перо по бумаге: «А также решено оказать поддержку гетману Богдану Хмельницкому в борьбе против шляхетско-магнатского гнета в обмен предложив, чтобы он в то же время добивался бы также и избрания русского царя королем Польши. Пусть бы Хмельницкий со старшиной послали от себя к панам в Раду послов, чтобы они, паны, царского величества милости поискали, пригласили себе государем на корону Польскую и Великое княжество Литовское и тем междоусобную войну и кровь уняли».
Думское решение скрепили печатью, боярскими подписями и отправили в Посольский приказ.
* * *
От Москвы до Путивля московские послы добирались санным обозом в сопровождении сорока верховых стрельцов из посольской стражи. Когда выезжали из Москвы, там после солнечных ярких дней вновь воцарилась зима. Завьюжило. Снег сменился дождем, и небо заполнилось серыми тучами. Резкий холодный ветер прорывался сквозь неплотно задернутые щели мехового полога, прикрывавшего сани, в которых ехали Унковский и Домашнев, и обдавал заледеневшей стужей. Днем солнце хотя и светило ярко, но не грело. А на широких полях вдоль дороги, в лесу лежал нетронутый затвердевший снег.
По ночам становилось морозно. Часто вьюжило, и валил мокрый снег. А когда небо немного прояснялось, одинокая и страшная луна бело-желтым оком ярко светила на черном беззвездном небе, изредка пропадая за набегавшими тучами.
Но чем ближе становились южные граничные рубежи, тем явственней проступали приметы весны. Дорога постепенно очистилась и как будто подсушилась ветром. Снег на полях сделался рыхлым и ноздреватым. Все дольше днем светило яркое солнце, небо было ярко-синим, а земля прогревалась и стыдливо оголялась. По ней с важным видом прыгали и ходили многочисленные серые вороны и черные галки.
За Путивлем показались широкие поля, уже покрытые первой нежной зеленой травкой и желтым ковром из проклюнувшихся одуванчиков. Небо над головой – такое бездонное, чистое, ясное, что дух захватывало от этой дали и глубины. Задувал свежий и теплый ветер, в котором смешивались запахи влажной пробуждающейся земли, и свежей травы. Все в природе дышало весной и преддверием скорой пахоты. Перезимовавшие разбойники воробьи, когда приходилось останавливаться на ночлег в какой-нибудь уютной беленькой хатке, по утрам будили оглушительным звонким чириканьем, перелетая беззаботными шумными стайками с одного куста на другое. Голуби любовно ворковали, разгуливали на аккуратных подворьях с белыми хатами клевали рядом с домашней птицей рассыпанное просо.
На проезжавший через село богатый посольский обоз местные крестьяне поглядывали украдкой и настороженно, но все же можно заметить было на их лицах спокойное и сдержанное любопытство. Молодых казаков на улице почти не видно, а из хат, заслышав звон бубенцов, выходили поглазеть на заезжих гостей одни только женщины и старики. Ребятишки бросали свои занятия возле песчаных круч и ручьев и галдящей веселой ватагой бежали следом за санями и всадниками. Два старичка запорожца, сидящие на завалинке возле хаты, повернули в сторону проезжавших саней головы и привстали, рассматривая их обоз. Унковский с удивлением заметил, что в их брошенных на проезжавшие сани взглядах исподлобья явственно просквозило что-то насмешливое, вызывающее и горделивое.
Вообще-то он почти сразу же увидел отличие местных южных крестьян от российских. Оно как раз и заключалось в этом хмуром презрительном достоинстве местных, которое с пеленок и младых ногтей явно было присуще воинствующим казакам. Видно, что эти суровые на вид мужчины – и молодые, и старые привыкли к долгим степным походам, они прирожденные лихие воины и уверенно держат в руках любое оружие. Казаки своим независимым видом как будто подчеркивали владеющий ими горделивый диковатый дух казацкой вольницы, отличаясь тем самым от наших крестьян с их сдержанной внутренней силой духа, гордостью и искренней добротой, которая веками была присуща русскому народу.
Казаки и одевались ярче и более броско. На молодых казачках красовались длинные расшитые по низу платья, а теплая одежда обычно была красиво вышита ярким малороссийским орнаментом. Их головные уборы украшали разноцветные ленты, которые очень шли их вишневым задорным глазам и симпатичным лицам. Старые казаки обычно носили кафтаны из грубого сукна, шапку или же свитку. Безбородые, но с седыми усами дедки в широких шароварах, с длинным чубами на гладко выбритых головах – особенной гордости казака (дернуть за который – означало нанести страшное оскорбление), сидели на лавках возле ворот и с молчаливым невозмутимым спокойствием, подчеркнуто горделиво беседовали между собой, посасывая длинные трубки, но подходить к чужим саням не спешили. Если только окликнут или позовут.
Семен Домашнев по просьбе Унковского каждый вечер старательно записывал все события миновавшего дня. Свои записи он ему не показывал, смущенно и ревниво оберегал от начальника, даже когда тот просил почитать. И повсюду таскал их в своей сумке, считая важным дипломатическим свидетельством.
Вокруг сёл уже повсюду были распаханы пашни. Как и в Москве, южные крестьяне спешили убрать свои домашние подворья, сараи, амбары и вычистить скопившийся за зиму мусор, починить домашний инструмент и телеги, плуги, лопаты и топоры. Люди готовились к посевной, и копошились в своих огородах, садах.
Дорогой петляли, чтобы не наткнуться на конный польский разъезд, рыскающий в этих местах в поисках своих беглых крестьян. С каждой верстой на юг становилось по-летнему жарко. Унковский распахивал или снимал с себя днем парадную ферязь и бездумно сидел, подставляя свое лицо ласковым лучам солнца. Свежий теплый ветер бил ему в грудь, принося с собой запахи навоза с сельских хлевов и талой воды, скопившейся в глубоких бороздах на коричневых пашнях.
В Конотопе московских послов встречали выстроившиеся в стройные ряды возле главных крепостных ворот верховые казаки, державшие в руках развернутые хоругви и иконы, блистающие на солнце золотыми окладами. Когда мимо строя проехали первые сани, уже с трудом передвигавшиеся по оголившейся от снега земле, стоявшие за всадниками музыканты вскинули трубы и ударили в свои национальные тулумбасы, живо напомнившие московским послам родные барабаны.
Сани оставили у городового атамана на подворье и дальше поехали уже на нескольких каретах, любезно предоставленными местным атаманом.
Возле Чигирина послов ожидала делегация от гетмана Хмельницкого: сын гетмана Тимофей, полковник Иван Выговский и чигиринский городовой атаман Лаврин Капуста. Запорожский казацкий отряд появился внезапно впереди на дороге. Всадники, одетые в алые, коричневые с золотым шитьем жупаны, высокие меховые шапки, гарцуя, ожидали, когда кареты остановятся и выйдут посланники.
Высокий статный казак отделился от остальных и с достоинством поклонился. Это был сын Богдана Хмельницкого – Тимофей.
– Отец мой Богдан Хмельницкий, гетман войска Запорожского послал встретить тебя, царского величества дворянина, и проводить к нему, – произнес молодой казак по-юношески звонким голосом. Его красивое и благородное лицо при этом осветилось дружелюбной улыбкой.
Унковский не удержался и также тепло улыбнулся. Затем оглядел стоявших позади Тимофея казаков, и с барской покровительственностью одобрительно им кивнул.
– Доехали, дай Бог здорово. Скажи, как величать тебя?
– Тимофей Хмельницкий, – с суровым достоинством отозвался молодой казак, и неожиданно легкая горделивая краска смущения залила его выразительное лицо.
– Видно, что ты храбрый и решительный воин и не бросаешь слов на ветер. А главное, с честью носишь добытое на поле брани оружие. Скажи, доводилось ли тебе уже участвовать в ратных сражениях?
– Да, и не раз, – сдержанно ответил Тимофей.
– Похвально. Уверен, что побеждали в бою, – проговорил Унковский.
Ему после долгой утомительной поездки в тряской карете было чрезвычайно приятно стоять ногами на земле и видеть плывущие в синем небе белые облака, поля, покрытые морем желтых одуванчиков, и взбегающие в туманной дымке пологие и величавые холмы с растущими на них высокими и остроконечными деревьями, стройные ряды высоченных вязов и лип, рвущиеся в небо, и стадо коров, мирно пасущихся на поле, больших черных грачей важно шагающих по распаханной плугом крестьянина черной пашне.
Домашнев не принимал участия в разговоре. Он незаметно с любопытством разглядывал стоявших позади Тимофея доблестных запорожских воинов, о безрассудной храбрости которых был наслышан еще в Москве. Их выразительные лица, настороженные взгляды исподлобья явственно указывали, что в бою эти воины являются достойными, отчаянными и яростными противниками, исполненными безудержной отваги и решимости сражаться до победы.
– Как здоровье гетмана Богдана Хмельницкого? – расспрашивал Унковский.
– Отец мой Богдан Хмельницкий, гетман войска Запорожского, жив и здоров. Сейчас вот только немного приболел, и потому не смог лично встретить почетных гостей. За что просил его извинить, – все с тем же спокойным достоинством отвечал молодой казак.
– То, что гетман Богдан Хмельницкий хворает, невесело. Но Бог даст, он поправится. Ну а теперь скажи, Тимофей, куда надлежит нам проследовать?
– Твоему царского величества дворянину гетман Хмельницкий велел бить челом и следовать в Чигирин, где и сам сейчас находится.
На въезде в город кареты Унковского и Домашнева встретили выстроившиеся стройными рядами верховые казаки. Колыхались бархатные темно-вишневые знамена. Со стороны крепости раздались залпы пушек, и в небо взвился белый дымок.
«Достойно встречают», – усмехнулся про себя Унковский и довольно подмигнул Домашневу.
Их и стрельцов посольской стражи переправили на лодках через реку Тясмин на другой берег и разместили на большом хуторе, недалеко от резиденции Хмельницкого в Субботово, в усадьбе полковника Федора Вишняка. Место нашлось всем: стрельцов поселили на том же подворье, по несколько человек в хате.
В следующие дни Унковский и Домашнев могли всюду ходить и осматривать хутор и окрестные села.
После сытного вкусного завтрака, состоявшего из огромного количества местной еды с особенным национальным колоритом, они обычно выходили на улицу и направлялись к ближайшему холму, с которого открывался великолепный вид на окрестности: бескрайние поля, пологие холмы и аккуратные богатые села с знакомыми белыми церквями на возвышеньях, откуда доносился колокольный перезвон. Довелось им присутствовать и на одной из вечерних служб, после которой они вернулись в хату, пораженные сходством церковного убранства и службы с московскими церквями.
Они слушали певучую торопливую речь молодых и удивительно красивых украинок, идущих с коромыслом к колодцам с высокими журавлями. В растворенные окна усадьбы, где они жили, доносились жалобные звуки домбры. Они уже знали, что возле низенькой беленькой хатки мазанки сидит дед Панас и наигрывает детям народные мелодии.
Иногда ранним утром, Унковский и Домашнев выскальзывали за ворота, спускались по тропинке к величавому, окутанному сонной белой дымкой Тясмину и там долго сидели под раскидистой ивой на кошме, глядя, как рыбачат местные дедки и слушая, о чем те судачат.
– Мне кажется, я бы здесь так и остался навсегда. Я уже и речь их хорошо понимаю. Правда, пока говорить еще как они не могу. Нашел бы себе гарную дивчину, она родила бы хлопчиков, а я бы пахал землю, – признался однажды мечтательно Семен Домашнев. Он был совсем молод, и Унковский улыбнулся в ответ.
– А ты оставайся, Семен.
Тот покачал головой.
– Не приживусь я здесь.
– Почему же?
– Потому что сердце мое осталось на милой моей Родине, – ответил Домашнев.
– Ты прав, дружище: где родился, там и пригодился. Хотя не скрою, здесь и впрямь хорошо. Богатый и вольный край, гордые смелые люди, – задумчиво проговорил Унковский.
Когда поднималось солнце, местные рыбаки уходили с реки. Унковский и Домашнев тоже вставали и шли обратно к усадьбе. Там отдыхали, обедали, а после полуденного сна вновь выходили во двор и тоже сидели на крыльце, подставив лица припекающему солнцу, грелись. Попыхивая трубками с крепким тютюном, как местные называли свой табак, лениво наблюдали за вольно бродившей по песчаному двору домашней живностью. К вечеру третьего дня они осмотрели все местные достопримечательности и уже начинали скучать. Но на четвертый день к ним прискакал есаул и привез приглашение гетмана Хмельницкого пожаловать на переговоры.
* * *
Богдан Хмельницкий встретил московских гостей на крыльце своего большого каменного дома. Это был черноволосый крепкий мужчина средних лет. Лицо гетмана с правильными приятными чертами выглядело спокойным. Под густыми соболиными бровями выделялись живым умным блеском черные глаза. Аккуратно свисающие смоляные усы и небольшая короткая бородка довершали облик известного своей отвагой воина.
Вокруг крыльца стояли, окружив его, одетые в парадные красные и синие кунтуши, расшитые серебром и зелотом, казацкие полковники и старшины.
Вошли в светлую, чистую горницу.
– Я и казацкие полковники, атаманы и есаулы войска запорожского бьем челом великому государю и великому князю всея Руси Алексею Михайловичу, – по чину провозгласил Хмельницкий, делая шаг вперед и степенно кивая.
– Божьей милостью великий государь и великий князь всея Руси жалует тебя и велит спросить о здравии, – также по чину ответил Унковский.
– На здравие не жалуемся. А как здоровье царя Алексея Михайловича и царевича Дмитрия Алексеевича? – спросил Хмельницкий. Услышав ответ, кивнул.
– Божьей милостью великий государь и великий князь Алексей Михайлович шлет тебе, гетману Богдану Хмельницкому войска запорожского царскую грамоту, – по чину произнес Унковский и сделал знак Домашневу вынуть грамоту.
Гетман взял ее в руки. Приложился к печати губами и протянул стоявшему рядом обозному Чарняти. Тот бросил на гетмана слегка озадаченный взгляд, однако подчинился и, почтительно приложившись, передал обратно.
Хмельницкий распечатал грамоту. Лицо его оставалось невозмутимым и сосредоточенным. Прочитав, положил грамоту на стол и тихо вздохнул. Унковский догадался: тот разочарован. Так и оказалось.
– Не скрою, грамота от царя Алексея Михайловича имеет для меня и войска Запорожского огромное значение. Но в ней нет прямого ответа на главный вопрос, чтобы нам встать под высокую государеву руку, – сказал Хмельницкий.
– На то у великого государя и великого князя всея Руси Алексея Михайловича заключен с Речью Посполитой Поляновский договор о мире, который нарушать никак не можем.
Хмельницкий возразил:
– Великому государю и князю всея Руси не придется нарушать мир, потому что казаки короля не выбирали, и не короновали, и креста ему не целовали.
– Великий государь и князь всея Руси вас своей милостью не обходит. Ему стало известно, что у вас, в ваших землях хлеб не родится, и саранча урожай поела, и соли привозу не было, а от войны стоит разорение. Царь тебя гетмана и Запорожское войско жалует: он приказал с торговых ваших людей, которые приедут в порубежные города для торгового промысла, с их товаров пошлин в государеву казну не взимать, – уклончиво отвечал Унковский на искренний и страстный призыв гетмана.
– Спасибо за оказанную великую милость государя и великого князя всей Руси Алексея Михайловича. Помощь эта придется вовремя. Если же есть от царя к войску Запорожскому вопросы, то выслушать их я буду рад, и от вас наших дел не скрою.
– Ждать ли от гетмана Запорожского поддержки на избрание великого российского государя Алексея Михайловича на польское королевство? – сразу же прямо спросил Унковский.
Хмельницкий подумал и решительно прямо ответил:
– Такую поддержку я и старшины окажем.
– Известно нам, что крымский царь с поляками и литовцами дружбу водит, веры ему нет никакой. Но до царского двора дошли известия, что войско Запорожское с крымским царем договаривается.
– Мы крымского царя будем просить бить челом великому государю Алексею Михайловичу, чтобы и им тоже он был государем, – дипломатично ответил гетман.
Унковский по достоинству оценил ответ. Понимающая улыбка проскользнула на его плотно сжатых губах.
– В царской грамоте написано, что великий государь и князь всея Руси Алексей Михайлович в помощи вам не откажет, оставит свое посольство. И надлежит вам теперь посылать все послания нашему государю установленным официальным порядком.
– На это согласен, – кивнул головой Хмельницкий и прибавил, не скрывая горечи и разочарования.
– Устремления войска Запорожского о переходе под высокое покровительство великого государя Алексея Михайловича по-прежнему в силе, и я хочу отправить в Москву и своих послов.
И это была не просьба или пожелание, а четко обозначенное намерение человека, уверенного в нужном для себя исходе важного дела.
Унковский внимательно поглядел на гетмана и согласно кивнул.
– На это от царя Алексея Михайловича наверно не будет отказа. А там, даст Бог, все и сложится, как задумано, и положительное решение государем будет принято.
– Что ж, будем ждать это решение. А теперь предлагаю московским послам пройти к столу и отведать кушаний, которыми издавна славятся наши Богом хранимые края. Как говорится, чем богаты, тем и рады.
Из приемной горницы гетмана делегация переместилась в столовую палату.
На столе в изысканной серебряной и позолоченной посуде уже лежали приготовленные яства: жареные лебеди и тетерева в ожерелье из ярких маринованных яблок, помидор и свежей зелени. Запеченные огромные осетры и щуки призывно блестели румяными боками, разинув зубастые пасти, среди огурцов, тыквы и горошка. Заливные говяжьи языки, нежнейшие розовые и кровяные колбасы, твердые сливочные сыры, красиво уложенные на круглых блюдах, казалось, только и ждут, когда их отведают. Вареная репа, солянка на сале, молочный поросенок, нежно-розовое сало – всего было в изобилии.
Как и задумывалось, обратно в Москву вместе с посольством Унковского отправились казацкие послы Федор Вешняк, Степан Мостепенко, Иван Скоробченко, Ждан Якименко. Ехали окружным путем через Киев, Батурин, Путивль. Унковский, выполняя поручение государя, дорогой не только выспрашивал у встречавшихся на пути малороссийских крестьян и казаков, хотят ли те быть под высокой рукой царского величества, а еще и собирал данные о готовности казаков к войне с Речью Посполитой.
Запорожских послов по приезду в Москву с особенным торжеством и большим чином приняли в Кремле.
«Государь был в царском платье. А рынды были при государе: князь Иван да князь Офанасий Репнины, князь Ондрей, да князь Лаврентий, князь Михайловы дети Мещерские», что подчеркивало важность этого приема.
На языке дипломатии действия, предпринятые царем Алексеем Михайловичем, лишний раз подчеркивали важность для Российского государства поддержки взбунтовавшихся против польской шляхты малороссийских крестьян и казаков на южных российских границах, и подтверждалось твердое намерение царя и в будущем оказывать Запорожскому войску широкую политическую и экономическую и, возможно, военную помощь. Происходящее сильно переполошило польскую знать. И спустя некоторое время они снарядили в Москву уже свое посольство с Добеславом Чеплинским, Петром Вяжичем и Петром Галинским. Сейм предписывал им раздобыть любые сведения о состоявшихся переговорах российского государя с Федором Вешняком, а также разведать обстановку для решения вопроса о продлении исполнения Российским государством Поляновского мирного договора от тысяча шестьсот тридцать четвертого года.
Вся эта череда событий внутри Российского государства и на южных его границах могла на первый взгляд показаться совершенно привычной и естественной. Но находились и те, кто понимал их значение. И одним из таких людей как раз и был князь боярин Никита Иванович Одоевский, который терпеливо разъяснял и советовал как поступить Алексею Михайловичу.
Государь же, пройдя через собственное внутреннее испытание народными волнениями, разочаровавшись в боярине Морозове, которого почитал, как родного отца, увидев вблизи всю неприглядность и бессмысленность смертей, и подспудно переосмысливая беседы с патриархом Иосифом, Вонифатьевым, частую дружескую переписку с Никоном, слушая патриотические рассуждения таких государственников как Нащокин, Иванов, Волошенинов и Львов, все больше ощущал тяжесть ответственности, которую он нес. Нельзя сказать, что это понимание далось ему легко. Будучи молодым, азартным и увлекающимся человеком, привыкнув к своему высокому положению, государь был часто раздираем сомнениями и внутренними противоречиями, раздражаясь даже на близких людей.
Ближние бояре, участвовавшие в ежедневных заседаниях, и вовсе не задумывались о грандиозности и важности свершаемых ими действий. Помимо решения насущных задач, они стремились также решить и личные житейские вопросы, касающиеся их семейств: вопросов наследования, привилегий, получения должностей, званий, расширения угодий и приобретения новых вотчин. И почти никто из бояр или дворян, служилых, торговых и ремесленных людей, конечно же, никогда не оценивал происходящее так, как оцениваем его уже мы, их скромные потомки, оглядываясь назад в собственную историю. Все эти люди, яростно и сердито спорившие на заседаниях, ругавшиеся, наскакивавшие на оппонентов, и неуклюже таскавшие друга за бороды, жаловавшиеся друг на друга, весь этот яркий и замечательный народ был единым большим державным началом в его самом высоком и истинном понимании.
«Боярское племя» во главе с государем искренне радело за державу. Эти люди тщательно, осознанно, кропотливо, день за днем, как муравьи, трудолюбиво выполняли рутинную работу, служа сердцем царю и государству, возвеличивали и укрепляли кремлевские башни, стремились расширить границы любимой державы, улучшить ее экономику. Они принимали на своих душных сидениях самое непосредственное и живое участие в исторических событиях, формируя и творя русскую историю, направляя ее твердыми руками в светлое и счастливое будущее, сообразно собственным представлениям о правильном и справедливом государственном устройстве для всех слоев богатых и бедных. Русское же священничество во главе с московским патриархом всегда незыблемо стояло рядом, служа опорой духовному началу, являя пример еще одной не менее значимой и важной государевой силы. Московский патриарх в понимании народа – второй государь. И все это крепкое и живое гомонящее общество, весь сословный народ, собравшийся вокруг царственного российского державного престола, с яростным блеском в глазах доказывающий своей наивной и убежденной верой, искренними, порой и ошибочными действиями силу божеской правды и совести, чести и справедливости; вызывало удивление, непонимание и неприятие в глазах иностранцев, в изумлении взирающих со своего западного берега Европы на это стремительное восхождение на востоке могущественной, великой державной звезды, православной и непонятной, «варварской» в их понимании, России.