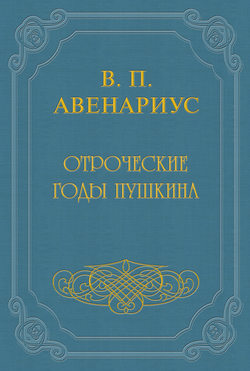Читать книгу Отроческие годы Пушкина - Василий Авенариус - Страница 4
Глава IV
Молодое вино бродит
ОглавлениеКак ты шалишь, и как ты мил,
Какой избыток чувств и сил,
Какое буйство молодое!
К Языкову («Языков, кто тебе внушил…»)
Точно ли Тургенев, этот «добрый волшебник», по выражению Василия Львовича, посодействовал опять благоприятному исходу дела – осталось неизвестным; о своем содействии он никому никогда не заикался. Как бы то ни было, только после нескольких дней томительного ожидания Василий Львович привез племяннику от директора Малиновского радостную весть, что он, Александр, попал-таки в число 30 счастливцев, выбранных в лицей самим министром из 38 экзаменовавшихся.
– И без переэкзаменовки? – встрепенулся Александр, отрываясь от арифметики, над которой все эти дни он, по настоянию дяди, по целым часам корпел или, вернее, зевал.
– Без переэкзаменовки, – отвечал Василий Львович, – но Малиновский все же рассчитывает, что ты до переезда в Царское хорошенько повторишь зады…
– Так он ошибся в расчете! – воскликнул ветреник, и ненавистная ему учебная книжка со всего размаха полетела на другой конец комнаты, где, ударившись об стену, шлепнулась плашмя на пол. – Видите, где она лежит теперь? Там до Царского и пролежит.
– Ну, поднять-то все-таки не мешает, – благодушно сказал Василий Львович, поднимая книгу с полу и кладя ее на стол. – После, может, одумаешься. До начала классных занятий пройдет еще немало времени; государь отвел для вас целый флигель своего царскосельского дворца, а ведь его надо еще приспособить: раздвинуть стены, переставить печи, перестлать полы, все заново перекрасить, пообчистить…
– Экая досада, право! А я уж радовался, что сейчас познакомлюсь кой с кем из товарищей…
– Одно другому не мешает. Малиновский велел передать тебе, что он ожидает всю вашу братью завтра утром к себе на квартиру для примерки казенной амуниции; там и сведешь знакомство, с кем пожелаешь.
И точно: на другой же день, а потом еще несколько раз лицеисты собирались для указанной цели на квартире директора. Затем, когда тот отбыл 1 сентября в Царское Село с чиновниками лицейского правления для наблюдения на месте за ремонтными работами, роль хозяина в доме принял старший сын его, Иван, также лицеист, но лет уже 15-ти, вследствие чего товарищи относились к нему с некоторым уважением.
А как было весело на этих сходках! Сколько было тут хохота и шуток, когда примериваемое казенное платье или сидело мешком, или же, напротив, не сходилось на груди, а стоячий красный воротник был так широк и высок, что можно было уйти в него с подбородком до самых ушей. Как было потешно надевать перед зеркалом треуголку по-наполеоновски, поперек головы, или в высоких лакированных ботфортах с петушиной важностью расхаживать взад и вперед по всему ряду комнат, – благо самого хозяина не было налицо!
Одна только капля дегтя отравляла им эту бочку меда: до формального открытия лицея им было строго воспрещено щеголять во всей новой красе своей вне дома.
Все мальчики, которых Пушкин успел мельком узнать до экзамена в приемной министра, оказались принятыми; только из двух Пущиных одному пришлось отказаться от лицея, – не потому, чтобы он не выдержал испытания, а потому, что граф Разумовский хотел возможно большему числу «знатных» семейств открыть доступ в новое привилегированное заведение и предоставил адмиралу Пущину одну только вакансию для обоих его внуков с тем, чтобы он сам выбрал из них в лицей любого. Выбор пал на Ивана Пущина, т. е. на того самого, который более приглянулся Пушкину. И вот при первом же расставании на квартире директора Пушкин зазвал его к себе.
– Не зайдете ли вы когда-нибудь вечером? Пожалуйста!
– «Вы?» – переспросил Пущин и взглянул Пушкину в глаза так открыто и доверчиво, что тот невольно покраснел.
– Ну, «ты», – поправился Пушкин. – Тут недалеко… (он сказал адрес). Зайдешь?
– С удовольствием.
– И мне можно? – раздался позади их вкрадчивый голос. Оказалось, что то был голос подслушивавшего их Гурьева.
Хотя последний по своей деланной любезности и навязчивости и не особенно был приятен Александру, но так как в то же время своею неизменною игривостью и веселостью он оживлял всякое общество, то Пушкин не задумался изъявить свое согласие.
– Сделай одолжение. Чем больше нас будет, тем лучше.
– Так и Ломоносова привести можно? Он добрый малый!..
– Конечно, приведи.
Пушкин охотно пригласил бы еще и барона Дельвига, и князя Горчакова, но те проводили осень у родных на даче: один – в Петергофе, другой – где-то еще дальше.
Так еще до поступления в лицей Пушкин сошелся с тремя названными товарищами и с сыном директора Малиновского, который нередко также навещал его. Но более тесные, дружеские отношения у него установились только с Пущиным, с которым он видался почти ежедневно то на дому, то в Летнем саду.
Василий Львович не хотел вернуться в Москву до окончательного водворения племянника в стенах лицея; он не раз нанимал лодку и возил маленьких приятелей на острова. Первая из таких поездок, устроенная вскоре после экзамена в ознаменование его благополучного исхода, осталась особенно памятною всем участникам.
Вечер был тихий, ясный; настроение всех – самое праздничное. Лодочника не взяли, потому что и без него в ялике было куда тесно от пяти человек лицеистов и толстяка Василия Львовича. Да в помощи его и не нуждались: мальчики чуть не дрались из-за весел и гребли наперерыв.
Пока они плыли еще Мойкой и Крюковым каналом, юной удали их негде было развернуться. Но, выбравшись раз из подземного рукава Крюкова канала, из мрака, сырости и духоты, в Большую Неву, на солнце, простор и воздух, они вздохнули вольной грудью, и, когда тут Василий Львович затянул густым, звучным баритоном: «Вниз по матушке по Волге», все пятеро лицеистов разом подхватили своими звонкими отроческими альтами, – и понеслась стародавняя песня, правда, не совсем стройно, но очень одушевленно, над сверкающей зыбью реки.
– Вы бы, Гурьев, немножко полегче, – ласково заметил Василий Львович, – у вас слуха-то, кажется, совсем не полагается.
А живчик-племянник уж вскочил со скамейки и энергически замахал такт рукой над головами хора:
– Дружно! Дружно!
Ничего в волнах не видно.
Улыбаясь пылкости самозванного капельмейстера, но все-таки повинуясь движениям его руки, хор, в самом деле, запел как будто согласней. Когда, наконец, в воздухе замерли последние звуки песни, Александр, под впечатлением охватившего его порыва, простер руки к солнцу и воскликнул:
– А славно жить на свете, господа! Так бы сейчас и обнял весь мир!
– И бухнул бы вместе с ним в воду, – досказал дядя, стараясь привести в равновесие ялик, который так и качался с боку на бок под ногами непоседы-племянника. – Умерь свой телячий восторг и садись-ка лучше.
– Сегодня, дяденька, мой день! Вы хоть и пригласили нас, но я плачу и за ялик, и за угощенье!
– Из каких это благ?
– Ну, столько-то у меня найдется; а ежели бы не достало, то у вас достанет.
– Ага!
– Нет, дядя, я говорю не о ваших собственных деньгах, а о тех, что вы взяли у меня на хранение.
– Я – взял? Перекрестись! Когда это?
– Да неужто вы забыли? Бабушка Варвара Васильевна и тетушка Анна Львовна[9] подарили мне на орехи перед отъездом нашим из Москвы сто рублей, а вы дорогой отняли их у меня. Игнатий может засвидетельствовать это.
– А! Да… – замялся Василий Львович. – Ну, братец мой, возвращать их тебе целостью, я вижу, опасно, потому что ты сейчас готов растранжирить.
– Но они мне могут понадобиться в Царском…
– Царское еще впереди, а теперь тебе их не видать, как своих ушей.
Возвратил ли когда-нибудь впоследствии племяннику донельзя забывчивый Василий Львович эти сто рублей – неизвестно; знаем мы только из письма Александра Сергеевича к князю Вяземскому, написанного четырнадцать лет спустя, что к тому времени деньги все еще не были возвращены.
Спустившись вниз по Неве на взморье, наша веселая компания обогнула Галерную гавань, завернула в Малую Невку и высадилась на Крестовском острове. Минут десять спустя она сидела уже в тенистом садике известного тогда ресторана, которого в наше время и в помине нет, так как процветавший некогда Крестовский теперь решительно забыт и заброшен.
– Так, стало быть, мы можем сегодня пороскошничать на твой счет? – насмешливо спросил Василий Львович племянника.
– Можете и даже прошу.
– Слышите, господа? Он просит вас не стесняться в депансах. Эй, человек! Мне, первым делом, две дюжины устриц и бутылку клико! Да льду, чур, не забыть.
Вскоре за столом завязалась самая задушевная, шумная полудетская, полуюношеская беседа. Оживлению ее немало способствовало и замороженное шампанское, которое Василий Львович разлил по бокалам из потребованной им сперва одной, а потом и второй бутылки. По тонкой самодовольной улыбке, не сходившей с его благодушного лица, легко было догадаться, что про себя он давно уже решил потешиться только над расточительным племянником и, в конце концов, все «депансы» по сегодняшнему угощению покрыть из собственному кармана.
Александр же в качестве хозяина был особенно развязен и весел. Щеки его горели, глаза искрились; он был, что называется, в ударе: шутил, острил и то и дело заливался самым искренним смехом, показывая сплошной ряд своих чудных белых зубов.
Пущин невольно на него загляделся и заметил:
– А веселость тебе, Пушкин, очень к лицу.
– Юный Вакх! – пояснил Василий Львович. – Только бы увить ему кудри цветущим плющом и виноградом… Никто из вас, господа, я чай, и не поверит, что сей самый попрыгун и живчик на первой заре жизни, сиречь до семи лет, был неповоротливый пузан и медвежонок.
– Ну? Не может быть! – удивились товарищи Александра.
– Дядя преувеличивает, – отозвался племянник.
– Преувеличиваю? Шила, брат, в мешке не утаишь! Уж кому, как не мне, знать тебя с младых ногтей? Расскажу вам, государи мои, в назидание только следующий случай. В одно прекрасное утро матушка нашего героя разрядила своего первенца, как куколку, и повела гулять. Медвежонок же с первых шагов устал и, как раз когда приходилось перейти улицу, категорически заявил свое решение:
– А я, мама, сяду.
Мама, понятно, так и ахнула.
– Куда сядешь? Боже тебя упаси!
Молодчик, между тем, привел уж в исполнение свое решение: преспокойно уселся посреди улицы, – благо, было сухо; но зато как сел, так вокруг него столбом пыль взвилась. А тут, как на беду, всю эту сцену видела из окошка ближнего дома какая-то дама и от души расхохоталась. Александр вломился в амбицию, окрысился и на всю улицу крикнул ей:
– Нечего зубы-то скалить!
На этом месте рассказ Василия Львовича был прерван громогласным хохотом слушателей-лицеистов. Сам герой рассказа, Александр, чтобы скрыть свое смущение, хохотал чуть ли не громче всех и залпом осушил свой бокал.
– Я советовал бы тебе, Александр, не пить больше, – предостерег его дядя, – ты так полнокровен…
– Что ж из того? – легкомысленно возразил Пушкин, откидывая назад голову.
– А то, дружище, что в возбужденном состоянии ты нам здесь, пожалуй, учинишь еще пущий афронт, чем достоуважаемой матушке. Можете вообразить себе, господа, как сконфузила вышеописанная выходка сына столь блестящую и гордую барыню, какова известная всему высшему кругу Белокаменной Надежда Осиповна Пушкина! Она готова была, как сама мне потом признавалась, сквозь землю провалиться и, разумеется, с того самого раза никогда уж его с собой гулять не брала. Вообще я должен относительно матушки его доложить вам…
– Оставьте, пожалуйста, дядя, маменьку мою в покое! – отрывисто и глухо пробурчал, весь вспыхнув, Александр и, уткнувшись в тарелку, с ожесточением принялся резать и набивать себе за обе щеки поданную ему котлетку.
– Да картина, любезнейший мой, не была бы полна…
– Ни слова больше! – перебил, задыхаясь уже, племянник. – А не то…
– Что?
– Я… я совсем уйду отсюда…
– Ну, ну, не буду. «Чти отца твоего и матерь твою» – гласит пятая заповедь Господня.
И Василий Львович ласково стал гладить курчавую голову мальчика, приговаривая:
– Паинька-заинька!
Но такое детское обращение, да еще в присутствии товарищей, было чересчур обидно для нашего поэта-лицеиста. Он бросил на тарелку нож и вилку и разом отодвинулся от стола.
– Это уже слишком!..
– Нет, голубушка, по головке-то тебя, хочешь, не хочешь, а погладим, – не унимался дядя. – Господа! Подержите-ка его!
Вот это, действительно, было «уж слишком». Александр увернулся от протянутых к нему рук, опрокинул при этом стул, на котором сидел, и бросился вон, прижимая к глазам платок.
– Да он, сумасшедший, в самом деле удерет! – не на шутку всполошился дядя. – Бегите за ним, господа, верните его…
Пущин пустился в погоню и, нагнав беглеца у выхода из сада, остановил его.
– Куда же ты, Пушкин?
– Пусти! – со слезами в голосе проговорил тот, пряча платок и отталкивая Пущина.
– Если домой, то ведь ты и дороги-то не знаешь, – продолжал убеждать Пущин. – Заблудишься ночью. Бог знает, куда попадешь, а в лодке преспокойно доехал бы опять в компании.
– Ну да! Хороша компания дяди! Ты видел… Он воображает, что я все еще малютка…
– Да пойми же, что он смотрит на тебя как на своего сына, что он только пошутил!
– Шутка шутке рознь, и всякому терпению есть конец. Последняя его шутка была последнею каплей… но она переполнила чашу…
– Последнею каплей, мне кажется, был именно тот лишний глоток шампанского, от которого он раньше предостерегал тебя, – возразил шутливо Пущин. – А уйдешь теперь, так ведь он, пожалуй, подумает, что ты не хочешь расплатиться, как обещал.
– Так вот – на, возьми мой кошелек…
– Нет, брат, не возьму; я в ваши семейные счеты не мешаюсь.
В это время к двум приятелям подошел Малиновский.
– Где же вы запропастились, господа? Мы собираемся играть в кегли.
– Я не играю! – отказался Пушкин.
– Ну, так посмотри хоть: глядя, может, не удержишься, сам станешь играть.
– Да что с ним долго растабаривать, – решил Пущин, – нейдет доброй волей, так поведем силой! Ты, Малиновский, бери-ка его оттуда, а я – отсюда.
И, подхваченный под руки с обеих сторон, Пушкин, почти уже не сопротивляясь, даже смеясь сквозь невысохшие еще слезы, направился со своими провожатыми к кегельбану.
9
Варвара Васильевна Чичерина – сестра родной бабушки Александра Сергеевича со стороны отца, Ольги Васильевны Пушкиной, урожденной Чичериной; Анна Львовна Пушкина – сестра Василия и Сергея Львовичей.