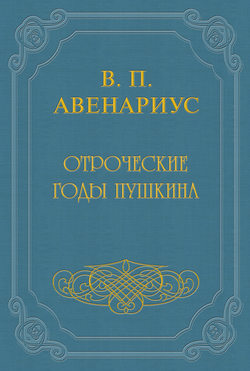Читать книгу Отроческие годы Пушкина - Василий Авенариус - Страница 5
Глава V
Молодое вино бурлит
ОглавлениеЯ еду, еду, не свищу,
А как наеду, не спущу!
«Руслан и Людмила»
Наступил если не полный мир, то продолжительное перемирие. Четверо товарищей Пушкина, сбросив сюртуки и засучив рукава, с юношеским азартом предались треволнениям кегельной игры. Василий Львович не играл; вооружившись бокалом, он уселся на барьере кегельбана и, болтая по воздуху своими короткими ножками, делал игрокам дельные замечания, а в случае пререканий между ними – служил посредником-экспертом. Племянник, не совсем еще успокоенный, прислонился к столбу позади дяди и своими быстрыми глазами неотступно следил за игрою товарищей, не особенно умелою, но чрезвычайно одушевленною. Шары с треском и гулом катились вниз по галерее и с грохотом вторгались в расставленный на другом ее конце треугольник кеглей. Если кому удавалось хорошенько разгромить треугольник, то ловкость его награждалась общим возгласом одобрения; если же кто давал промах, то его осмеивали беспощадно.
– Этак-то и я сумею! – после одного такого промаха насмешливо заметил из-за своего столба Пушкин.
– Так что же, дружок, попробуй! – оглянулся на него дядя. – Век живи, век учись.
– Не хочу!
Однако веселость играющих была так заразительна, что когда после двух сыгранных партий Александра опять пригласили, он не только не стал отнекиваться, но даже счел нужным заявить:
– В кегли я, положим, не играл, но на бильярде играю, и очень даже недурно.
– Гречневая каша сама себя хвалит, – заметил соседу вполголоса Гурьев.
– Что?
– Глухим двух обеден не служат. Кидай, брат, кидай!
Пушкин по примеру прочих ухарски засучил рукав, смочил ладонь о влажную губку, взял шар и, раскачивая его, отступил на два шага.
– Внимание, господа! – крикнул под руку Гурьев. – Первый пробный, но мастерский шар!
Пушкин в это время разбежался и, размахнувшись, не мог уже удержать шара. От неопытности или от того, что Гурьев «сглазил под руку», увесистый шар вырвался из обхватывавшей его маленькой руки на полсекунды ранее, чем бы следовало, ударился о борт и покатился вдоль барьера, не задев ни одной кегли.
Понятно, что после предшествовавшей похвальбы игрока такая его неудача не обошлась без взрыва хохота окружающих. А Гурьев опять-таки не преминул подтрунить:
– Видели, господа? Вот у кого бы нам поучиться! Почем берешь за урок, Пушкин?
– Недорого, – был ответ, – здоровую плюху, если ты хоть слово еще пикнешь!
Угроза была сделана так задорно, что Гурьев даже побледнел, а прочие товарищи, видимо, были неприятно поражены грубостью Пушкина. Тут дядя его нашел нужным выступить в своей роли посредника.
– Ты – ужасный петух, Александр, – заметил он ему по-французски, – от друга-то можно бы, кажется, снести шпильку.
– Во-первых, он мне не друг, – огрызнулся по-французски же Александр, – а во-вторых, я никому не позволю таких шпилек…
– Француз! – послышался чей-то голос.
Пушкин мигом обернулся.
– Кто это бранится? Опять ты, Гурьев?
А тот уже схоронился за чужой спиной и оправдывался самым невинным тоном:
– И не думал… Господь с тобой! Что же, господа, будем мы еще играть или нет?
Игра возобновилась. Пушкин продолжал дуться, но в то же время бросал шар очень старательно, так что раз свалил даже восемь кеглей.
– А? Что? – обратился он к Гурьеву. – Гречневая каша даром, что ли, хвалилась?
– Да всех девяти штук ты все-таки не свалил!
– И ты не свалил.
– Захочу – свалю.
– Как же!
– А вот, гляди.
По какой-то счастливой или, вернее, несчастной случайности Гурьеву на этот раз в самом деле удалось свалить все девять кеглей, и он, ликуя, закружился на каблуке.
– Ай да я! Чья взяла, а?
Но торжество его было непродолжительно. Пушкин, не в силах уже сладить с собой, подступил к нему со стиснутыми кулаками, с трясущейся нижней челюстью и собирался что-то сказать; но непослужные губы его издали только какой-то детский лепет:
– Ва-ва-ва…
– Ва-ва-ва! – передразнил зазнавшийся Гурьев.
Клокотавшая в жилах Пушкина кровь ударила ему в голову, затуманила ее; не помня себя от гнева, он поднял на насмешника руку; но, к счастью, один из товарищей успел вовремя отвести удар, так что задорный кулак только слегка скользнул по плечу Гурьева. Этот до того перепугался, что расплакался навзрыд, как малый ребенок. Пущин же проворно подхватил забияку под руку и увел в глубь сада.
– Помилуй, Пушкин, что ты делаешь? – урезонивал он его, шагая с ним рука об руку по темной аллее. – Положим, Гурьев тоже виноват; но ты видел сейчас, какой он нюня, точно старая баба: так стоит ли из-за него портить себе кровь? А главное, не забудь: ведь нам битых шесть лет придется высидеть вместе с ним в лицее.
– Все это я очень хорошо понимаю, – сознался со вздохом Пушкин, – но что поделаешь со своей дикой натурой? Я все равно, что горячая лошадь: раззадорили ее – и кончено! Готова сломя голову лететь через рвы и канавы в первую пропасть.
– Как это в тебе уживаются вместе такое безумство и такой ум? – заметил Пущин. – А ума у тебя очень много, более, чем у кого из нас…
– Вот вздор! Я, может быть, прочитал только немножко больше книг…
– Не немножко, а в десять раз больше, поэтому ты и развитее нас. Мы с Малиновским уж толковали об этом, и он совершенно согласен со мной.
– Да разве я когда-нибудь важничал перед вами?
– Напротив: уму и познаниям своим ты точно не придаешь никакой цены. Зато в пустяках ты страшно самолюбив: никак не можешь простить, если кто-нибудь перещеголяет тебя в физической силе или ловкости. Ведь правда?
– Правда, и уж из этого одного, Пущин, ты видишь, что я совсем не умен, а глуп.
– Нет, не глуп, а только – как ты сам сейчас сказал – дик, горяч. Теперь вот ты успокоился и прекрасно понимаешь, что погорячился. Знаешь ли, что я сделал бы на твоем месте?
Юные приятели вышли в это время из тенистой аллеи обратно на открытую площадку перед рестораном, и последний отблеск потухающей зари отчетливо осветил лицо Пушкина, вполовину обращенное к собеседнику. В выразительных чертах его прежнее угрюмое упрямство уступило место искреннему раскаянию; на ресницах его сверкали слезы.
– Знаю! – сказал он и без оглядки побежал к кегельбану. Тут, подойдя сзади к Гурьеву, он опустил ему на плечи руки и шепнул на ухо:
– Прости меня… забудь, пожалуйста…
Трусишка Гурьев никак, по-видимому, не ожидал, что гордец Пушкин сам придет к нему с повинной, и в первую минуту сильно испугался. Но, заглянув в застенчиво-дружелюбные глаза своего недавнего врага, он понял, что действительно гроза миновала, и крепко обнял, расцеловал его.
– И ты забудь… Милые бранятся – только тешатся.
– А что же у меня-то, Александр, ты так и не попросишь прощения? – со снисходительной усмешкой спросил Василий Львович.
Александр также улыбнулся в ответ и потупился.
– Да ведь не я, дядя, первый начал…
– Так, стало быть, и не тебе первому мириться? Ну, изволь, Господь с тобой! Гора не подошла к Магомету, так Магомет подошел к горе.
При виде протянутой ему руки сердце Александра смягчилось, и он так искренно сжал эту выхоленную, пухлую руку своими костлявыми, нервными пальцами, что Василий Львович даже поморщился.
– Полегче, брат!
Таким образом, общий мир был окончательно заключен и уже не прерывался. Гурьев после данного ему Пушкиным урока точно воспылал к нему особенною нежностью и весь остальной вечер заискивал, юлил около него, заглядывал ему в глаза, громче всех смеялся его остротам.
Когда, наконец, стали собираться восвояси и потребовали от буфетчика расчета, то между двумя Пушкиными – дядей и племянником – завязалось благородное соревнование: ни один из них не хотел допустить другого до расплаты. Александр, отведя дядю рукой, высыпал из маленького бисерного кошелька своего на прилавок весь наличный свой капитал. Но тут оказалось, что капитал этот не покроет и половины сделанных «депансов». Василий Львович, смеясь, доплатил остальное.
– Что и требовалось доказать! – сказал он. – А впоследствии, брат, увидишь, еще займешь у меня.
– Клянусь вам, дядя…
– Не заклинайся: нарушение клятвы – один из самых тяжких грехов.