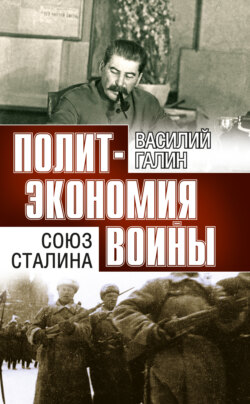Читать книгу Политэкономия войны. Союз Сталина - Василий Галин - Страница 6
Угроза с Востока
Превентивная война
Первая попытка
ОглавлениеКолонизационный импульс стал жизненно важным вопросом для великой германской нации.
Г. фон Трайчке, 1890-е гг.[63]
В Европе тем временем созревали семена, засеянные почти век назад наиболее могучим выразителем западноевропейского самосознания – Гегелем: «Германский дух есть дух нового мира, цель которого, – провозглашал он в 1820-х гг. в своей «Философии истории», – заключается в осуществлении абсолютной истины, как бесконечного самоопределения свободы… Германцы начали с того, что… покорили одряхлевшие и сгнившие внутри государства цивилизованных народов. Лишь тогда началось их развитие»[64].
Свои выводы Гегель основывал на работах своих предшественников, говоря о которых Ф. Нойман отмечал, что «вера в германское расовое превосходство имела глубокие корни в истории немецкой мысли. Гердер (конец XVIII в.), первый выдающийся философ истории, писал о народе, который благодаря своей величине и силе, своему трудолюбию, смелости и сохранению военного духа… внес в блага и бедствия этой четверти земного шара больший вклад, чем любая иная раса»[65]. «Это же воззрение поддерживается и большим числом историков, философов и экономистов Германии»[66].
Первым ярко выраженным национал-социалистом, по словам Ф. Ноймана, стал Ф. Лист: «Едва ли есть сомнение, что германская раса в силу своей природы и характера, писал он в 1846 г., – была избрана Провидением для решения великой задачи – управлять миром, нести цивилизацию в дикие варварские страны, заселять все необитаемое, так как ни одна из других рас не имеет способности эмигрировать массой и создавать более совершенные общности на чужих землях… и оставаться свободной от влияний варварских и полуварварских аборигенов»[67].
Покорение варварских народов, подчеркивал Г. фон Трайчке в 1890-х гг., «никогда не может быть достигнуто без бесконечных страданий для покоренной расы. Наиболее примечательное слияние произошло таким образом в колониях Северо-Восточной Германии. Это было убийство народа; этого нельзя отрицать, но после того, как слияние было завершено, оно стало благословением. Какой вклад могли внести пруссаки в историю?»[68]
В 1898 г. вышла книга «Основания девятнадцатого столетия» Х. Чемберлена, в которой он утверждал, что вся «наша цивилизация и культура, как любая более ранняя и любая другая, являются плодом определенного, индивидуального человеческого вида…», «сегодня вся наша цивилизация и культура является делом рук определенной расы людей, германцев». Решающим стимулом к расширению европейской цивилизации, «в обозримом времени охватить всю землю», является стремление к тому, чтобы «таким образом не быть подверженной, подобно более ранним цивилизациям, нападениям необузданных варваров»[69].
В 1901 г. германский географ Ф. Ратцель, один из основателей «политической географии», выпустил работу «О законах пространственного роста государств», в которой привел практическое обоснование экспансии развитых государств в менее развитые. Он утверждал, что «Изначальный импульс экспансии приходит извне, так как Государство провоцируется на расширение государством (или территорией) с явно низшей цивилизацией»[70]. «Великие нации быстро поглощают заброшенные места…, – подтверждал один из идеологов американского империализма А. Мэхэн, – Это движение, которое обеспечивает развитие цивилизации и прогресс расы…»[71].
Почему же до ХХ века отсталую Россию не постигла судьба индейской Америки, Индии, Китая или Африки? Ведь попытки покорить или по крайней мере оттеснить Россию от морей предпринимались европейцами неоднократно. Например, идея экспансии Германии на Восток и завоевания юга России до Кавказа была высказана еще в 40-е гг. XIX в. известным немецким политэкономом Ф. Листом в работе «Национальная система политической экономии». Начиная с 60-х гг. XIX в. немцы овладевают промышленностью Польши. Во времена О. Бисмарка с более детальным проектом выступил немецкий философ Э. Гартман. В нем предлагалось расчленить Россию на отдельные королевства под протекторатом Германии – Балтийское, Киевское – и собственно Россию оттеснить за Днепр и Волгу.
От покорения Западом, Россию надежнее, чем Атлантический океан индейскую Америку, защищали суровый климат и необъятные пространства. «Это неразрушимое государство русской нации, – указывал О. Бисмарк, предупреждая от войны с Россией, – сильное своим климатом, своими пространствами и ограниченностью потребностей…». Кроме этого, русские достаточно быстро перенимали опыт европейцев, имеющийся разрыв между ними не позволял получить абсолютного превосходства. Период начала колониальной экспансии в Европе, в России вызвал реформы Петра I: «Петр… понял, что народ, отставший в цивилизации, технике и в культуре знания и сознания, – отмечал этот факт философ И. Ильин, – будет завоеван и порабощен…»[72].
Поэтому, не смотря на то, что Россия была слаба и отстала, война против нее с одной стороны была слишком затратной, а с другой не могла принести ощутимой выгоды. Эксплуатация России и без того осуществлялась экономическим путем. Так, в период индустриализации Германии «экспорт из России в Пруссию возрос с 1861 по 1875 г. в 5 раз, из Германии в Россию поступало две пятых всего русского импорта. Германии до 90-х гг. XIX в. принадлежало до 60–65 % ввоза в Россию чугунных отливок, до 50 % – железа, 50 % – инструментов, до 70 % – сельскохозяйственных машин и т. п.
Германия активно вывозила капитал в Россию, реализуя и размещая на своих биржах облигации русских железнодорожных обществ, акции промышленных компаний, организовывала в России акционерные общества на свои капиталы. Облигации первых русских частных железных дорог были почти полностью реализованы на берлинском рынке. Первые русские акционерные коммерческие банки в значительной своей части были основаны при поддержке немецких банков (Частный коммерческий банк, Международный, Рижский и многие другие). Необходимости в дорогостоящей военной экспансии не было, поскольку, как отмечает Н. Обухов, «на Россию в Германии смотрели как на ближайшую, наиболее удобную полуколонию, на источник сырья, продовольствия, сбыта промышленной продукции»[73].
«Велика и обильна Россия, но ее промышленность находится в зачаточном состоянии, – подтверждал в 1917 г. М. Горький, – Несмотря на неисчислимое количество даров природы… мы не можем жить продуктами своей страны, своего труда. Промышленно развитые страны смотрят на Россию, как на Африку, на колонию, куда можно дорого сбывать разный товар и откуда дешево можно вывозить сырые продукты, которые мы, по невежеству и лени нашей, не умеем обрабатывать сами. Вот почему в глазах Европы мы – дикари, бестолковые люди, грабить которых… не считается зазорным»[74].
Ситуация стала меняться с началом индустриализации в России, с ведением ею протекционистских барьеров, с усилением ее экспансии в «британскую» Среднюю Азию. И уже в 1888 г. новый кайзер Фридрих III в первые дни своего правления заявил, что имеет целью начать «крестовый поход против России»[75]. Причина русофобии кайзера, по мнению русского царя, заключалась в том, «что бедняга Фридрих…, был просто орудием в руках своей супруги» (дочери английской королевы Виктории), – речь шла об английском влиянии, причем очень сильном[76].
Причина русофобии кайзера и британской короны была связана с тем, что Россия стала переходить на рельсы догоняющей индустриализации: «Для блага России, отсталой сравнительно с Западом, прежде всего, необходим подъем ее производительных сил, – указывал премьер-министр С. Витте, – Для этого всего больше нужно развитие ее обрабатывающей промышленности и транспорта», «Создание своей собственной промышленности – это есть коренная не только экономическая, но и политическая задача», для России, – подчеркивал Витте, – необходимо прежде всего ускорить темпы «индустриализации», «В мире ничего не дается даром, и, чтобы создать свою промышленность, страна должна нести известные жертвы, но эти жертвы временные и во всяком случае ниже… выгод»[77].
Индустриализация действительно принесла свои плоды, вместе с Первой русской революцией, освободившей крестьян от выкупных платежей, с реформами Столыпина и благоприятной экономической конъюнктурой 1910-х гг. (ростом мировых цен на хлеб), не смотря на огромные финансовые потери в русско-японской войне, индустриализация привела к опережающему росту российской экономики. По темпам роста ВВП за 1890–1913 гг. Россия заняла второе место в мире, после Швеции (Таб. 1). Стремительный экономический рост России, казалось, выводил ее из состояния полуколонии Запада…
Таб. 1. Рост ВВП на душу населения за 1890–1913 гг., в %[78]
Этот факт не остался незамеченным современниками событий. Например, главный вывод отчета французского экономиста Э. Тэри сводился к тому, что «если у больших европейских народов дела пойдут таким же образом между 1912 и 1950 годами, как они шли между 1900 и 1912, то к середине настоящего столетия Россия будет доминировать в Европе, как в политическом, так и в экономическом и финансовом отношении»[79]. «Если Соединенные Штаты и Россия продержатся еще полстолетия, – подтверждал в 1913 г. британский историк Дж. Сили, – то совершенно затмят такие старые государства, как Франция и Германия, и оттеснят их на задний план. То же самое случится с Англией, если она будет считаться только европейскою державою…»[80].
«Будущее принадлежит, – приходил в 1915 г. к выводу британский истори Ч. Саролеа, – не Англии, не Франции, не Германии, а России»[81]. И именно поэтому, указывал он, «сегодня более чем когда-либо мир является русской необходимостью. Россия находится только в начале своей промышленной экспансии и ей еще предстоит пройти через испытание глубоких политических преобразований. Ей нужен покой, чтобы использовать свои огромные ресурсы. Ей еще больше нужен мир, чтобы довести свои политические эксперименты до успешного завершения. В начале своего царствования Николай II, издав свой знаменитый мирный рескрипт, взял на себя инициативу современного движения за мир и Гаагской конференции…»[82].
Однако промышленное и экономическое развитие России, находилось в полном и непримиримом противоречии с европейксими интересами: «Я… предвижу серьезные политические следствия, – предупреждал еще в 1839 г. А. де Кюстин, – какие может иметь для Европы желание русского народа перестать зависеть от промышленности других стран»[83]. «Уплотнение населения в капиталистическом производстве совершается в значительной степени за чужой счет; – пояснял эти выводы С. Булгаков, – если есть страны промышленные с густым населением, то должны быть и страны земледельческие, с редким населением. Плотность населения капиталистического хозяйства в известном смысле паразитарная, чужеядная»[84].
Любая попытка России, как и любой другой колонии, выйти из промышленной зависимости Запада, конкурировать с ним, расценивались Европой не иначе, как «бунт рабов».
Борьба за рынки сбыта в это время приобретала характер войны за выживание, указывали в один голос морской министр Германии А. Тирпиц и видный пангерманист П. Рорбах: «Молодая Германская империя стремится к мировому расширению. Население возрастает ежегодно на 800–900 тыс. человек, и для этой новой массы людей должно быть найдено пропитание, или что то же работа. Для того чтобы страна могла кормить возрастающее население, одновременно должен возрастать сбыт наших товаров за границей»[85].
«Мы уже серьезно страдаем от недостатка колоний, чтобы соответствовать нашим требованиям», – констатировал в 1912 г. в своем бестселлере «Германия и следующая война» ген. Ф. Бернарди[86]. И в то же самое время отмечал он, «славяне становятся огромной силой… вопрос о германском или славянском верховенстве будет вновь решен мечом»[87]. Правительственная комиссия из Германии под руководством профессора Аугагена, посетившая в те годы Россию, пришла к выводу, что по завершении земельной реформы война с ней будет не под силу никакой державе[88].
«Кайзер ожидает войну, думает, она все перевернет, – отмечал канцлер Германии Т. Бетман-Гольвег, – Пока все говорит о том, что будущее принадлежит России, она становится больше и сильнее, нависает над нами как тяжелая туча»[89]. «Единственным фактором, толкнувшим Верховное командование немецкой армии на войну, – по мнению историка кайзера Дж. Макдоно, – была их «зацикленность» на идее, что рейху грозит упадок и гибель, если он не одержит победу в тотальной войне»[90].
Население только Европейской России всего за 17 лет, с 1897 по 1914 гг., выросло почти на 50 млн. человек. (что было сопоставимо с численностью населения всей Германии). Оценивая эти результаты, Э. Тэри в 1913 г. приходил к выводу, что через 35 лет по численности населения России обгонит все страны Европы вместе взятые[91]. Нетрудно представить себе, как влиял только один этот факт на германских стратегов. Ведь согласно, хоть и сильно устаревшему к тому времени, но популярному классическому труду Клаузевица «О войне» (1832 г.): «Если мы рассмотрим без предубеждения историю современных войн, то вынуждены сознаться, что численное превосходство с каждым днем приобретает все более и более решающее значение…»[92].
Спустя сто лет бывший начальник генерального штаба французской армии М. Дебенэ писал: «Нельзя забывать, что техника, приобретшая господство и ставшая богом войны, – эта техника сама по себе инертна. Каков бы ни был ее характер: пушки ли это, пулеметы, самолеты, танки, газы или другие смертоносные орудия, они приобретают ценность только в руках человека; поэтому первейшим требованием техники является требование… в людской силе»[93].
Гр. 1. Прирост населения за 1897–1913 гг., млн. чел.
Германская интеллектуальная элита, чье мнение отражал П. Рорбах, откровенно паниковала: даже в мирных условиях, «какое положение займет Германия, по отношению к 300 миллионной русской империи к середине 20-го века?»[94] Уже сейчас требовал П. Рорбах в 1914 г., «Русское колоссальное государство со 170 миллионами населения должно вообще подвергнуться разделу в интересах европейской безопасности»[95]. «В основном Россия сейчас к войне не готова, – отмечал министр иностранных дел Германии Г. фон Ягов в июле 1914 г., – Франция и Англия также не захотят сейчас войны. Через несколько лет Россия уже будет боеспособна. Тогда она задавит нас количеством своих солдат… Наша же группа слабеет. В России это хорошо знают и поэтому, безусловно, хотят еще на несколько лет покоя»[96].
«Мы готовы, и чем раньше, тем лучше для нас», утверждал начальник Генерального штаба Германии Х. Мольтке 1 июня 1914 г., 3 июня он пояснял статс-секретарю по иностранным делам Г. Ягову: «В течение 2–3 лет Россия окончит свою программу вооружения. Тогда военный перевес наших врагов станет настолько значительным, что он (Мольтке) не знает, как тогда с ним совладать. Теперь мы еще можем с этим как-то справиться. По его мнению, не остается ничего иного, как начать превентивную войну»[97]. Предупреждая от подобных идей, О. фон Бисмарк в конце жизни указывал, что это ничто иное, как «Самоубийство из-за страха смерти»[98].
Гитлер совершено четко определял причины Первой мировой: «В Германии перед войной самым широким образом была распространена вера в то, что именно через торговую и колониальную политику удастся открыть Германии путь во все страны мира или даже просто завоевать весь мир…», но к 1914 г. идея «мирного экономического проникновения» потерпела поражение, и для Германии оставался только один выход – «приобрести новые земли на Востоке Европы, люди знали, что этого нельзя сделать без борьбы»[99].
Идея мирного экономического завоевания России уперлась в необходимость продления русско-германского торгового договора. Германия, выражал общие взгляды российской деловой среды ее видный представитель А. Бубликов, «начала войну в 1914 г. только потому, что именно к этому сроку Россия проявила недвусмысленное намерение отказаться в 1917 г. от возобновления кабального торгового договора с Германией… При таких условиях Германии оставалось одно из двух: или расстаться навсегда с мечтами о мировом господстве, либо начинать пресловутую превентивную войну, ибо дальше шансы на победу могли только падать»[100]. В вопросе о рынках, подчеркивал А. Бубликов, «Германия единодушна. Из-за него она будет драться до последнего. Он ясен как императору, так и последнему рабочему»[101].
Не случайно Первая мировая война в Германии, еще до ее начала, приняла национальный характер: «наступает схватка германцев против руссо-галов за само существование, – указывал кайзер, – И это не сможет уладить никакая конференция, так как это вопрос не большой политики, а проблема расы… И теперь речь идет о том, быть или не быть германской расе в Европе»[102]. «Я ненавижу славян. Я знаю, что это грешно, но я не могу не ненавидеть их»[103], вновь и вновь повторял кайзер, «как военный, по всем моим сведениям, я ни малейшим образом не сомневаюсь, что Россия систематически готовится к войне с нами, и сообразно с этим я веду свою политику». Дважды в той же надписи Вильгельм II повторял: это «вопрос расы»[104].
Вильгельм ввел борьбу против «славизма» в общую программу своей мировой политики. Известно даже, кто был посредником при усвоении этой не новой, но обновленной идеи. «В особенности приобрел мое доверие, – признает он, – балтийский профессор Шиман, автор работ по русской истории…»[105]. По словам Д. Макдоно, Шиман одарил Вильгельма изрядной долей «балтийского менталитета». Канцлер Б. фон Бюлов считал, что влияние Шимана на кайзера перешло разумные рамки[106].
Появление балтийских немцев было связано с попыткой российского правительства ограничить привилегии немецких баронов в Прибалтике. «Эту попытку дегерманизировать германскую страну, соседство с которой никогда не приносило России ничего, кроме пользы, можно назвать только варварской, – восклицал Г. Трайчке, – Если бы эти жители прибалтийских губерний не были немцами и, как таковые, носителями высшей цивилизации, если бы они не заслуживали столь многого от государства, то русское правительство было бы менее виновато во многих бессовестных поступках, совершенных против них»[107].
На знаменитом Военном совете 8 декабря 1912 г. начальник Генерального штаба Германии Х. Мольтке потребовал довести до сознания страны «при помощи печати национальную заинтересованность в войне с Россией», и вполне в этом духе вскоре после того газета «Гамбургер Нахрихтен» потребовала неизбежной решающей борьбы с Востоком. Весь вопрос в том, подхватывала «Германия», кто будет властвовать в Европе – германцы или славяне[108].
63
Heinrich von Treitschke…, v I, p. 116.
64
Гегель. Философия истории, ч. IV. Германский мир.
65
Herder. Outlines of a Philosophy of History of Man / Trans. Т. O. Churchill. London, 1800. P. 447. Хороший обзор дан в кн.: Charles Callan Tansill. Racial Theories from Herder to Hitler / / Thought. 1940. Vol. XV. P. 453 – 468. (Нойман Ф.Л…, с. 144).
66
Нойман Ф.Л…, с. 144.
67
См. подробнее: Нойман Ф.Л…, с. 145–146.
68
Heinrich von Treitschke…, v I, p. 283.
69
Чемберлен X. С. Основания девятнадцатого столетия. 1898. / Пер. Е. Б. Колесниковой. – В 2 т. – СПб.: «Русский Миръ», 2012. Т. 1, гл.: Исходный момент; Год 1200.
70
Цит. по: Дугин А. Основы геополитики. Изд. 4. – М.:, 2000, с. 36–37.
71
Цит. по: Емельянов Ю.В…, с. 164–165.
72
Ильин И. А. О национальном призвании России (в кн.: Шубарт В. Европа…, с. 428–429)
73
Обухов Н. Внешнеторговые противоречия России и германии во второй половине XIX в. // Экономист, № 2, 2006, с. 70–72.
74
Горький М. Несвоевременные мысли. («Новая Жизнь» № 35, 30 мая (12) июня 1917 г.) – М.: Айрис-пресс, 2004. – 416 с., с. 214.
75
Макдоно Д…, с. 167.
76
Макдоно Д…, с. 212.
77
Витте С.Ю. Воспоминания, мемуары: т. 1. – Мн: Харвест, М: АСТ, 2001. – 800 с., с. 699.
78
Построено на основании данных: Paul Bairoch (1976) “Europe’s Gross National Product 1800–1975”, Journal of European Economic History. Vol. 5. pp. 273–340; Stephen Broadberry and Alexander Klein. Aggregate and per capita GDP in Europe, 1870–2000: Continental, Regional And National Data With Changing Boundaries. 27 October 2011. File: EuroGDP2, P.18; Maddison Project Database, version 2018. Bolt, Jutta, Robert Inklaar, Herman de Jong and Jan Luiten van Zanden (2018), “Rebasing ‘Maddison’: new income comparisons and the shape of long-run economic development” Maddison Project Working Paper, nr. 10, on rgdpnapc base. www.ggdc.net/maddison (GDP per capita…, Лист 8)
79
Тэри Э…, с. 13.
80
Сили Дж. Р., Крэмб Дж. А…, с. 88.
81
Sarolea С… p. 5.
82
Sarolea С… p. 82.
83
Кустин А…, с. 136.
84
Булгаков С.Н. Капитализм и земледелие. Т.2, СПб. 1900. (Антология…, с. 512).
85
Рорбах П…, с. 79; см. то же: Тирпиц А…, Гл. 7.
86
Friedrich von Bernhardi…, CHAPTER IV. GERMANY›S HISTORICAL MISSION.
87
Friedrich von Bernhardi… GERMANY›S HISTORICAL MISSION.
88
Рыбас С. Ю…, с. 189.
89
Цит. по: Макдоно Д…, с. 545.
90
Цит. по: Макдоно Дж…, с. 541.
91
К 1948 г., по расчетам Э. Тэри, население России должно составить почти 344 млн. чел., в то время как всей Европы – 336 млн.
92
Клаузевиц К…, с. 331.
93
Цит. по: «Военный зарубежник», 1934, № 11, стр. 2. (История Второй мировой…, т. 1, с. 28)
94
Рорбах П…, с. 77.
95
Рорбах П…, с. 88.
96
Цит. по: Хвостов. История дипломатии. Т. 2. – М.: 1963, с. 776–777.
97
Цит. по: Фишер Ф…, с. 66.
98
Макдоно Дж…, с. 542.
99
Гитлер А. Моя борьба. – М.: Витязь. 2000. – 587 с., с. 110 – 120, 130.
100
Бубликов А.А…, с. 185.
101
Бубликов А.А…, с. 188.
102
Пометка на статье в «Фигаро» от 6 декабря 1912 г. относительно Лондонской конференции послов. (Цит. по: Фишер Ф…, с. 50.)
103
Graf Joseph Stürgkh. Politische und militärische Erinnerungen aus meinem Leben. S. 232. (Цит. по: Сазонов С…, с. 179)
104
Цит. по: Милюков П.Н…, с. 472–473.
105
Милюков П. Н… с. 438.
106
Макдоно Д…, с. 431–432.
107
Heinrich von Treitschke…, v I, p. 285.
108
Kruck A. Geschichte des Alldeutschen Verbandes 1890–1939, Wiesbaden 1954, S. 85, 44 (Фест И. Гитлер. Триумф…, с. 368–369)